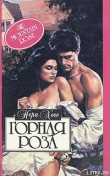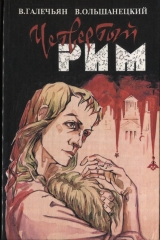
Текст книги "Четвертый Рим"
Автор книги: В. Галечьян
Соавторы: В. Ольшанецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
Гениальное провидение Наперсткова объединило историков, и вот, преодолевая во имя истины взаимную неприязнь, они собрались на Ученый Совет во дворе. Скорее это был даже не научный шаг, ибо гипотеза о выходе в фонтане бассейна оси мировой истории за прошедшие дни прочно укоренилась в головах профессоров. Математико-статистические расчеты с абсолютной очевидностью свидетельствовали о невозможности случайного нахождения в одном месте трех величайших историков, к тому же дополняемых многими другими весьма достойными личностями. Постулаты теории Вызова-и-Ответа и антропогенных ландшафтов, а также эзотерического христианства еще более убедительно подтверждали наблюдение. Так что свидание скорее было тщательно рассчитанным с обеих сторон дипломатическим шагом.
Поскольку старожилы прочно держали оборону, переговоры начал Наперстков.
– Возвращаясь в мир действительных фактов и здравого разума, я вижу, что мое место здесь, где содержатся те немногие достойные люди, которых я знаю, – так объяснял академик причины своего появления в сумасшедшем доме.
Наперстков с Иезуитом и два профессора стояли напротив друг друга, но души их были еще весьма далеки.
– Я родился во время зимнего солнцестояния, – продолжал академик, – когда знак Девы поднимается над горизонтом. Имя моего отца неизвестно, но потому, что мать никогда не открывала его и всегда неистово молилась, я уверен: это был не человек.
"Не иначе какой-нибудь кенор", – подумалось Губину, но он не стал смущать увлеченного рассказчика.
– Слабо и немощно зимнее солнце; и мое детство также было окружено опасностями, ибо царство тьмы в мире нашего существования получило перевес над царством света. И по настоящее время я с ужасом жду каждый год прощания с летом и всякий раз снова радуюсь приходу весны, хотя и ведомо, что быть мне распятым во время весеннего равноденствия, и шепчет душа, что близятся дни отдать мне свою жизнь. Установлено число моего рождения, но переменно число смерти, ведь различно положение солнца в этот день, знаю лишь – сей год последний для меня.
От последних слов Наперсткова, так не вяжущихся с его всегдашней жизнерадостностью, все впали в какое-то оцепенение, а Губин произнес:
– До пасхи-то и осталась всего неделя. Последнее замечание никого не порадовало, а ведь надо было как-то определять свою позицию в отношении происхождения и соответственно истинного назначения деятеля.
– Те же события повторяются в жизни различных Солнечных богов. Все они одновременно и божественного и человеческого происхождения, – задумчиво проговорил монах.
– Так же, как и я! – решительно произнес Наперстков и гордо вскинул голову.
– Все эти поразительные сходства слишком многочисленны, чтобы их можно было объяснить одними совпадениями, – проронил Тойбин.
– Об этом давно учит эзотерическая церковь, – в тон ему заметил Иезуит. – Непорочное зачатие, убиение невинных младенцев, Распятие, Воскресение и Вознесение присутствуют в жизнеописаниях большинства Великих Наставников. Отец Климент учил нас, что по существу одни и те же нравственные учения давались Ману, и Буддой, и Иисусом. Кроме того, чудеса могут творить все Посвященные в эзотерические мистерии, достигшие высших ступеней.
– Все это действительно свидетельствует, что все великие религиозные Учителя были посланниками одного и того же Духовного центра, – согласился Тойбин, пытаясь на ходу сообразить, насколько все это вписывается в его теорию Вызова-и-Ответа.
Наперстков не вмешивался в разговор, стоя с таким видом, будто он уже перешел из человеческого состояния в божественное, а Губин неожиданно тоже сказал свое слово, задумчиво почесывая затылок.
– Истины о божественном и человеческом духе были так же абсолютны за двадцать тысяч лет до рождения Иисуса в Палестине, как и после его Пришествия. Однако из предыдущего опыта известно, что любые твои невероятно правдивые на первый взгляд построения несут в себе какой-нибудь двойной смысл, и прежде чем прийти к окончательному вердикту, хотелось бы отыскать его.
– Одна лишь правда в моих словах. Ничего, кроме правды! Сейчас вы убедитесь в этом! – горячо воскликнул Наперстков и скомандовал Иезуиту: – Исполняй!
Монах мгновенно исчез, а академик принялся постукивать ножкой, хитро поглядывая на историков. Однако надо же было как-то занять время, и беседа продолжалась хоть и в меньшем составе до тех пор, пока толпа психов с лопатами в руках не подбежала к фонтану.
– Вперед! – указал Наперстков, и они бросились на штурм.
Совершенно внезапно навстречу сумасшедшим ринулся, распростерши руки, Нарцисс, а Орфей начал сверху писать на нападавших.
– Что вам здесь нужно? – вступился за защитников фонтанового бассейна Губин.
– Мы облагораживаем выход оси мировой истории, – гордо ответил Иезуит.
– Убейте меня! – воскликнул Нарцисс.
– Долой ретрограда! – закричал Наперстков, а психи по команде монаха занесли лопаты над упавшим на колени Нарциссом.
Обстановку самым неожиданным способом разрядил Тойбин.
– Иуда! – закричал он и бросился выворачивать карманы Наперсткову, и из них в самом деле посыпались монеты.
Пришедшие в невероятное возбуждение от невиданных ими уже десятилетие золотых червонцев, нападавшие, забыв обо всем на свете, побросали лопаты и набросились на академика. В мгновение ока он был раздет донага и избит до бесчувствия, а содранная одежда разнесена в клочья. Все же каким-то образом ему удалось выползти из кучи-малы, а пациенты занялись нешуточными разборками друг с другом.
– Смотри! – указал Тойбин перстом монаху на убивающих друг друга безумцев. – Мы спасли тебя от Дьявола, ты же позволил бесам вселиться в себя.
– Изыйди! – подскочил Губин к Наперсткову, и тот, зажимая руками срамные места, бросился прочь.
– Причасти их святым жезлом, если хочешь спасти душу! – грозно вещал монаху Тойбин, и тот принялся охаживать сумасшедших дубиной, да так успешно, что они, кто ползком, кто бегом, побросав червонцы, снялись с места и забились в здание.
– Теперь собери сребреники и передай нам на хранение, – нашелся более практичный Губин.
– И подумай о своем спасении, – дополнил его Тойбин.
– Все же мы постигаем в опыте, – продолжил он, глядя, как Наперстков перелезает через ограду сумасшедшего дома, – что внутренняя цель истории индивида в слиянии с "богочеловеком" трагическим образом не реализуема в его земной жизни.
Пока Иезуит собирал червонцы и передавал их Губину, Нарцисс, к счастью, испытавший лишь моральные муки, и опустошивший мочевой пузырь Орфей заняли исходную позицию.
– Отец Климент, – призвал монах, в отчаянии падая на колени, – спаси мою несчастную душу от козней Дьявола!
– Климента Александрийского кличет...
– Окончательно спятил... Потрясенные вероломством Иезуита историки даже прекратили пересчитывать червонцы. Слова их, произнесенные тихими голосами, как бы зашелестели в воздухе, но вот уже они кончили задавать вопросы, не ощущалось дыхания ветерка, да и давно уже не появлялись листья на порубленных деревьях, а шелест не уходил.
Иезуит наконец-то открыл глаза и уткнулся взором в опускающийся почти до самых сандалий золотистый атласный саккос, в верхней части украшенный сценой распятия Христа, а в нижней – Его вознесением в солнечных лучах. По всему наряду были нанесены священные тексты, по бокам его изображены фигуры двенадцати апостолов, а низ саккоса был украшен несколькими рядами бисера. Крепкий черноволосый, слегка лысоватый мужчина без особого труда нес на себе торжественные одежды, но мощь исходящего от него сияния была столь велика, что не только случившиеся рядом сумасшедшие, но и профессора бросились перед ним на колени.
– Явился. Воистину я вижу тебя, святой отец, – радостно шепча, пополз с мольбой к вновь появившемуся наставнику монах, – дозволь своему падшему ученику участвовать в мистерии.
Отец Климент, подняв с колен Иезуита, обратился к нему, с непонятными словами, которых, впрочем, не слышал никто кроме молящего.
– "Аминь, аминь", – говорил Сын Человеческий прошедшему первую мистерию и затем повернувшему назад, и так до двенадцати раз. Если же отступник и после двенадцати раз затем вернется и снова преступит, это не будет ему отпущено во веки веков так, чтобы он мог снова вернуться в свою мистерию, какова бы она ни была. Для него нет иной возможности раскаяния, кроме как если он получит мистерии от Неизреченного, который имеет сострадание во все времена и отпускает грехи во веки веков. – Тут он перекрестил Иезуита и продолжил со вздохом: – Сейчас ты недостаточно чист, чтобы участвовать в мистериях со мной. Тебе, забывшему меня, еще предстоит одна мистерия, но только от твоего служения зависит, сможешь ли ты прийти ко мне. И прислушивайся к невинным душам, – кивнул он на Орфея с Нарциссом.
Отец Климент бесстрастно вещал бывшему послушнику, еще одному из не выдержавших встречи с Предвечным. Ему было ничуть не жаль сошедшего с ума Александра. Возможно, священник мог бы войти в его сознание и как-то облегчить участь ученика, но любая мысль о каком бы то ни было участии стала чужда отцу Клименту в его нынешнем высшем состоянии духа, ибо все человеческое оставил он в бренном теле. Более того, он поймал себя на мысли, что вовсе не думает о распластавшемся перед ним Александре. Новый ученик занимал помыслы отца Климента.
"Но почему тогда я оказался здесь?" – пытал себя священник, оглядывая окружающих монаха историков. "Потому что они были не только историками, но и философами", – отвечал он себе вполне загадочно и вновь возвращался к Луцию, вспоминая Сократа, Платона и Плотина – истинных мыслителей в отличие от выращенных психушкой.
"Видно, не только прямого контакта с наставником, как понял он уже давно, но даже и встреч с выдающимися представителями человеческого рода не достаточно. Однако ни одному тварному созданию не дано вызывать богов. Впрочем, кто они такие – боги, как не те же проекции на жизненном плане? – задумался Климент. – И существуют они для каждого человека лишь в той мере и форме, как он воспринимает высшие существа. Но тогда боги существуют лишь в сознании?! И действительно, с прекращением дыхания исчезает и бог человека. В таком случае если бы ему удалось построить такой астральный план, на котором можно было бы поместить часть сознания бурята, которая занята Буддой, часть сознания Вана с поселившемся там Лао Цзы и кусочек сознания перса с Заратустрой – это и стало бы местом встречи Луция с небесными посланниками Предвечного!"
Увлеченный созиданием нового астрального плана отец Климент даже не заметил, как покинул психушку. С его последними словами послышался шелест, глаза внимающего ему Александра вновь непроизвольно закрылись, и исчезло радостное тепло, но еще далеко не сразу пришел в себя блаженно улыбающийся Иезуит. И много дней тревога, имевшая место в поучении Высшего Наставника, печалила его.
Монах молил так горько и истово, а внимал так почтительно, что историки невольно подходили к нему, теребили, ощупывали пространство вокруг коленопреклоненного отступника. Однако, как и следовало ожидать, ни чувственный опыт, ни глубинная интуиция не позволили обнаружить не существующего в материальной природе фантома, рожденного в безумном мозгу сумасшедшего монаха. С великим сожалением ученые были вынуждены признать, что рано ставить точку в борьбе с бесами. Значит, надо было продолжать свое дело.
Видя, что Иезуит полностью погрузился в себя, профессора не стали диагностировать его. Все постояли еще какое-то время, храня молчание. Вскоре историки с непрестанно творящим молитву монахом ушли, но еще долго богобоязненные психи с опаской обходили фонтан, и никто более не сомневался в месторасположении выхода оси мировой истории и божественном назначении ее хранителей Орфея и Нарцисса.
7. БОЧКА БРАГИТрое молодых людей весьма примечательной наружности вошли в один из самых обычных летних дней на территорию психбольницы. Дабы не привлекать к себе внимания, они проникли во дворик и, естественно, оказались у фонтана, к которому вела единственная протоптанная в траве дорожка. Первым их заметил Орфей, который, как обычно, стоял неподвижно на обломке мраморного постамента, весь отдаваясь своему будущему величию. Недалеко от него застыл полураздетый Нарцисс, который сегодня из-за теплой ласковой погоды был более в себя влюблен, чем обычно.
Незнакомцы видимо никуда не спешили, потому что, увидев обнаженного Орфея, они остановились и стали с удивлением его рассматривать.
– Как живой! – произнес самый высокий и плечистый молодой человек и повел плечами, облаченными в блестящую спортивную куртку. – Даже член в натуральную величину.
– Ну уж, в натуральную, – возразил второй его спутник, постарше и потуже в плечах, – у людей такие маленькие пенисы не бывают.
– Так то у людей, а эта статуя, у нее пропорции нарушены...
– ...Или скульптор насосался казенной водки, – прохрипел третий собеседник и в подтверждение слов бросил в Орфея палкой, подобранной с земли.
Сила броска и точность были таковы, что дубина, вращаясь, опоясала бедро Орфея и свалила его с пьедестала в фонтан.
Тут же из уст пришельцев раздался одновременный крик ужаса: "Ожил!" – потому что, попав в воду, Орфей стал быстро карабкаться назад в естественную воздушную стихию.
Впрочем, молодые люди, не видя для себя прибытка в схватке с загадочным объектом, а может, боясь участи Дон-Жуана при встрече со статуей командора, смотались в глубь сада, явно нацелившись на больничный корпус.
Не желая привлекать к себе излишнего внимания, они разбрелись меж пней и не торопясь, друг за другом прошли в вестибюль, где подверглись перекрестному допросу двух свирепых психов с большими дубинками в руках. Однако узнав, что молодые люди пришли в гости к старинному их приятелю по имени Никодим, часовые присмирели и один из них даже выразил желание проводить дорогих гостей.
Пришельцы отклонили ценное предложение и, узнав номер палаты, не торопясь двинулись вверх по пологим ступенькам. Дойдя до нужного этажа, они вновь разделились. Двое остались курить на лестничной клетке, а один с квадратными плечами и головой редькой пошел по коридору, тщательно высматривая номера палат. Дойдя до никодимовской резиденции, он не раздумывая толкнул дверь и вошел в комнату.
Китайцу, который мирно лежал на кровати, восстанавливая при помощи специальных дыхательных упражнений свой внутренний мир, пришлось вернуться в больничную реальность и спросить у посетителя, чего тот хочет.
– Кент тут мой старинный обитается, – объяснил визитер весьма подходящим ему грубым низким голосом, – небойсь слыхал про Васька, друга Никодима?
Ни про какого такого Васька китаец, естественно, не слыхал, да и слышать не мог, но, прежде чем он поднялся с кровати, великан уже подсел к нему и полуобнял за плечо своей могучей ручищей. Китаец, который не мог даже шевельнуться, весьма хладнокровно перенес вольное обращение со своей особой. Он только вздохнул и постарался расслабиться.
– Скажи мне, кирюха, – продолжал неугомонный посетитель, чуть сжимая толстыми пальцами худое плечо старика, от чего тот морщился и кряхтел, – когда мне ожидать моего удивительного друга и почти брата Никодима. Что, по-твоему, могло его так задержать? Только не говори мне "не знаю', – предупредил Васек, встряхивая пациента в своей мощной длани, – я таких слов не признаю и могу совсем обидеться.
Так как китаец молчал и только тяжело отдувался, Васек положил его на одеяло и закатал несколькими движениями больших рук. Затем, встав над ним, как кормящая мать над младенцем, он запеленал дрожащего от ярости китайца еще в две простыни, надежно перевязал еле дышащего пациента вытянутым из кармана куском бельевой веревки и засунул в рот грязный носок, взятый им с соседней кровати. С детских лет никто так не усердствовал над стариком. Получившийся аккуратный тючок громила бросил небрежно под кровать, благо, китаец не мог даже застонать.
Только Васек задвинул китайца в пыльный угол под кровать, как дверь палаты отворилась и вошел мокрый Орфей, с голых чресел которого еще стекала вода. Не разглядев толком вошедшего, Васек выкинул вперед руку с торчащим из нее пистолетом и крикнул: " К стене! Руки за голову!"
Двое его друзей, привлеченные хлопаньем двери, ворвались в палату вслед за Орфеем и остановились, завороженные мерцанием мокрых ягодиц музыканта. Увидев направленный на него ствол, певец взвыл и неожиданно, как раненый буйвол, ломанулся к двери. На ходу он по-регбийному врезался в стоящих позади него молодых людей и вместе с ними покатился по полу. И в этот момент дверь снова отворилась.
Никодиму было достаточно беглого взгляда, чтобы оценить обстановку. Он мгновенно присел, уходя из зоны обстрела, и, как змея, бесшумно ринулся в коридор. Пока Васек и его команда вываливались из палаты, толкая перед собой безвольное тело Орфея, Никодим уже мчался гигантскими прыжками вниз по лестнице. Самым разумным для него решением было бы мгновенно исчезнуть с территории психбольницы, но он не мог оставить без помощи старика китайца. Поэтому Никодим, добравшись до вестибюля, отнюдь не бросился к открытой двери на улицу, а завернул во внутренний двор к научному корпусу, думая там отсидеться на время погони. Что это – захват, он понимал так же отчетливо, как и то, что шансов спастись, если больница обложена профессионально, у него нет никаких.
Юноша знал, что у него есть несколько минут в запасе, и поэтому спокойно остановился, пробежав всего один лестничный пролет, и стал методично сжигать давно припасенной для подобных случаев зажигалкой все свои многочисленные записи и бумажки с адресами.
Когда он расправлялся с последней запиской, внезапно отворилась дверь и из нее вышла высокая женщина с распущенными рыжими волосами и бледным лицом. На ней был полупрозрачный кружевной халат, а под ним – как понял Никодим – ничего. Увидев юношу, женщина прислонилась к стене и произнесла:
– Я больше не могу, он не дает мне даже часа передышки. Мы целыми днями не выходим из дома, а о нашей кровати я просто не хочу говорить. Все пружины на ней ослабли до последней степени, а петли скрипят, словно на корабле в бурю. И то признаться, подобной качки и в девятибалльный шторм не увидишь. Короче говоря, молодой человек, увезите меня отсюда. Сейчас он заснул, и это возможно сделать, потому что я не могу противиться его желанию и не могу больше видеть эту сломанную кровать.
При последних словах женщина зарыдала и уткнулась теплым мокрым лицом в шею Никодима. Тот смекнул, что речь идет об озверевшем психологе, который, перестав целиться во все живое, вновь изводил своими домоганиями собственную жену.
В другое время Никодим не отказал бы в мольбе несчастной женщине и, улестив ее, увел бы с собой на неопределенное время, но сейчас он сам чувствовал себя загнанным животным и поэтому ограничился только словами утешения.
– Я видел вашего супруга в состоянии озверения, – сказал он, – вполне понимаю ваше состояние. Более того, сам факт, что он не истощился за десять жарких суток, может говорить только об одном...
– О чем же? – поинтересовалась неутешная супруга.
– Такую неиссякаемую страсть ему может дать только любовь к вам, – воскликнул Никодим уверенно, – и стало быть, сударыня, вы должны с радостью выполнять свои супружеские обязанности и не каждый час, а ежеминутно, потому что любовь не купишь на рынке, а такую и не продашь за деньги.
"Что же я несу?" – подумал Никодим с ужасом, потому что ему необходимо было без шума умотаться с лестницы, а в голове у него от всего виденного образовался вакуум.
Однако, к его удивлению, бедная женщина, распахнув халат, бросилась ему на шею со слезами радости.
– Боже мой! – вскричала она, и от запаха молочно-белой кожи и вида обнаженной груди перед самым своим носом у Никодима прервалось дыхание. Плохо понимая, что он делает, юноша обнял рукой горячий стан женщины, а вторую погрузил в ее мягкие волосы, лаская затылок и шею.
– Боже мой, – продолжала женщина, прижимаясь к нему животом и бедрами, – теперь я понимаю вашу правоту. Что кроме любви может заставить моего одичавшего супруга не вылезать сутками из кровати и даже забыть о своих психологических тестах. Только любовь, которая блеснула ему как...
"...Из наших пробирок она ему блеснула, – подумал Никодим, – надо же такую адскую сексуальную смесь соорудить". Руки его никак не хотели оставлять жаркое, прильнувшее к нему тело, даже стал он искать место, куда бы ему прилечь вместе с жертвой наркотического эксперимента, однако судьба его оберегла.
Из открытой двери выскочил человек, натягивая на ходу поплиновые голубые кальсоны, с блуждающим в поисках любимой супруги взглядом. Быстрым шагом психолог подошел к своей супруге и, не обращая внимания на Никодима, взвалил ее на плечо и понес назад в квартиру. Та только успела воскликнуть что-то нечленораздельное и скрылась за дверью, оставив юноше слабый аромат духов и сильное физическое желание.
Впрочем, желание мгновенно прошло, как только Никодим вновь нырнул в вестибюль и черным ходом, уже освобожденный от всякой информации, проник на свой этаж. Осторожно выглянув в коридор, он увидел Нарцисса, который, уже одевшись в больничную куртку и брюки, обхаживал потерявшего сознание Орфея, стараясь привести его в чувство.
Чуть высунувшись из двери, Никодим жестами привлек внимание Нарцисса и поманил его к себе, но тот отмахнулся, занятый своим делом. Сев на голую грудь певца, он старательно дул ему в открытый рот, стараясь таким образом обеспечить приток свежего воздуха.
Тогда Никодим сделал несколько осторожных шажков по коридору и залетел в первую же дверь. Оказалось, что он попал куда надо, потому что палата в полном составе праздновала день созревания бочки с брагой. Эта бочка была заложена неделю назад и только терпение мудрых психов, которые каждый день бегали смотреть на поднимающиеся со дна бочки бродильные пузырьки, помогли браге выстояться.
Теперь пациенты сидели вокруг стола с большими кружками и с ужасом смотрели, как медленно опорожняется бочка. Дело в том, что по обычаям психбольницы, сохранившимся еще с режимных времен, спиртное нужно было выпить сразу, не отходя от тары. Восемь сопалатников были поставлены в тупик необходимостью выпить минимум двадцать пять литров настоенной на глыбе слипшихся леденцов браги. Появление Никодима они восприняли как благодеяние, потому что на девятерых все же пить было меньше, и тут же налили ему штрафную. После третьей штрафной Никодим, сохраняющий ясность мыслей, сказал, что в соседней палате под кроватью у него хранится вполне еще годный китаец с тремя приятелями, которые с удовольствием помогут разделить бремя алкогольной ответственности.
Как он и рассчитывал, в соседнюю палату был снаряжен отряд из четырех психов со свернутыми в веревку простынями. Их вторжение в палату Никодима было поспешным и грубым. Застигнутые врасплох, двое спортивных молодых людей едва успели распрямить свои плечи, как были связаны по рукам и ногам пьяными дегустаторами и вместе с обретенным под кроватью китайцем торжественно внесены за стол.
Как только молодые люди пытались объясниться, в раскрывающиеся пасти тут же вливали брагу, причем всякая попытка выплюнуть пьянящую жидкость прерывалась мощным ударом кулака в спину. Несмотря на просьбы Никодима, китайца тоже принесли к столу и, развязав только руки, накачали брагой наравне с остальными.
Сначала Никодим следил за состоянием своих врагов и связанного друга китайца, но после десятого тоста, от которого нельзя было ни отказаться открыто, ни сплутовать, ему стало все равно. Как сквозь туман наблюдал он появление ожившего Орфея и Нарцисса; за ними в дверь просунулась голова третьего члена группы захвата, который с удивлением, перешедшим в ужас, изучал своих абсолютно пьяных напарников. На счастье Никодима, все сотрапезники пришли в такое состояние, что с трудом узнавали друг друга. Поэтому незваный гость стремительно убрал свою голову назад в коридор и видимо побежал за подмогой.
Помощь, конечно, была нужна, потому что один из агентов тайной полиции, незаметно развязавшийся, уже поменял свой ультрасовременный пистолет на десять ампул промидола, которые пытался проглотить, не разбивая, одну за другой, и только неспособность его желудка хоть что-нибудь еще принять в себя сохранила ему жизнь. Другой, потерявший свой пистолет после третьей кружки решил, глядя на голого Орфея, что находится в борделе, и все время совал единственный свой металлический рубль за ворот рубашки Никодима, называя его своей милашкой и требуя уединения. Сам Никодим вовсе не оскорбленный тем, что ему тычут в грудь серебряным рублем, путая с публичной девкой, прилагал все усилия, чтобы распеленать китайца. Правда, ему казалось, что китаец этот имеет всего месяцев семь-восемь от роду и его необходимо перепеленать. Китаец же возражал против освобождения, крича, что еще никогда в жизни так спокойно не жил и что, мол, когда он еще дождется ситуации, когда брага сама течет в рот.
Однако с каждой выпитой кружкой сопротивление китайца ослабевало, и Никодим успел развязать его до того момента, когда сам погрузился в глубокий, все затмевающий сон.
Проснулся он глубокой ночью, с ужасом посмотрел на полупустую бочку, вокруг которой в самых невероятных позах спали психи, и, подхватив ни на что не реагирующего китайца, шатаясь, побрел с ним в туалет. Ему понадобилось полчаса, чтобы прочистить себе желудок и мочевой пузырь и затем, подхватив не приходящего в себя старика, выскользнуть во двор психбольницы и далее на улицу.
"Унести вовремя ноги" – этот девиз Никодим соблюдал неукоснительно.