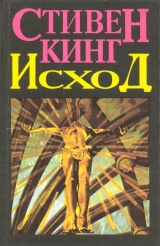
Текст книги "Исход. Том 2"
Автор книги: Стивен Кинг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
И он не поймал ее. Облако заволокло луну. Роса стала липкой и неприятной, пугающей. Вкус вина во рту каким-то образом стал металлическим, с кисловатым привкусом. Произошла какая-то метаморфоза, ощущение того, что ей предначертано, что она должна ждать.
И где же тогда был он, ее суженый, ее темный жених? На каких улицах, на каких темных дорогах, выжидая снаружи в придорожном мраке, в то время как внутри пустой звон коктейльной болтовни поделил мир на аккуратные и рациональные части? Какие холодные ветры исходили от него? Сколько упаковок динамита в его потертом рюкзаке? Кто знает, как его звали, когда ей было шестнадцать? Как давно появился он на свет? Где был его дом? Какая мать держала его у своей груди? Надин была уверена лишь в одном: он был сиротой, как и она, и его час еще пробьет. Он ходил в основном по еще не проторенным дорогам, в то время как она ступила на те же дороги лишь одной ногой. Точка пересечения, в которой они встретятся, далеко впереди. Он американец, она знала это, мужчина, который будет любить молоко и яблочный пирог, мужчина, которому будет нравиться льняная скатерть в красную клетку. Его дом – Америка, его пути – тайные, эти шоссе скрыты, это подземные дороги, где указатели написаны от руки. Он был другим человеком, другой особью, особым случаем, темным человеком, Странствующим Хлыщом, и его стоптанные каблуки мерно отстукивали по благоухающим свежестью путям летней ночи.
Кто ведает, когда придет ее суженый?
Она ждала его, нетронутый сосуд. В шестнадцать она чуть не пала, и снова в колледже. Оба они ушли, сердитые и смущенные, таким был и Ларри сейчас, ощущающий эту раздвоенность внутри нее, чувствующий, что впереди у нее некий предопределенный, мистический путь пересечения.
Боулдер – то место, где соединяются дороги.
Час близок. Он звал, велел ей прийти.
После окончания колледжа она похоронила себя в работе, снимала на паях дом с еще двумя девушками. Какими двумя девушками? Ну, они приходили и уходили. И только Надин оставалась, и она нравилась молодым мужчинам, которых приводили ее часто меняющиеся подруги по жилью, но у нее самой никогда не было молодого мужчины. Она предполагала, что они судачили о ней, называли ее девой в ожидании, возможно, даже подумывали, что она чрезвычайно осмотрительная лесбиянка. Но это было неправдой. Просто она была -
Нетронута.
Ждала.
Иногда ей казалось, что перемена уже наступает. И тогда в тихой классной комнате в конце дня она откладывала игрушки и внезапно замирала, со сверкающими бдительными глазами, держа в руке забытую игрушку. И думала: «Перемена наступает… Вот-вот задует небывалый ветер». Иногда, когда такая мысль посещала ее, она вдруг ловила себя на том, что оглядывается назад, словно нечто гонится за ней. Затем наваждение рассеивалось, и Надин разражалась беспокойным смехом.
На шестнадцатом году у нее стали седеть волосы, в то лето, когда за ней гнались и не поймали, – вначале несколько нитей, ошеломляюще заметных среди черных волос, и не седых, нет, это неподходящее слово… белые, они были белые.
Несколько лет назад она была на вечеринке в каком-то клубе. Свет в подвальном помещении был приглушенный, и спустя какое-то время парочки стали расходиться. Многие девушки – среди них и Надин – отпросились на ночь из своих общежитий. Она окончательно решилась пройти через все… но что-то, подспудно жившее в ней все эти месяцы и годы, удержало ее. И на следующее утро, в холодном свете семи часов утра, она взглянула на себя в одну из длинных полос туалетных зеркал и увидела, что белого стало еще больше, очевидно, за ночь – хотя это, конечно же, было невозможно.
И так шли годы, отщелкивая, словно времена года в престарелом возрасте, и были чувства, да, чувства, иногда в мертвой могиле ночи она пробуждалась одновременно от холода и жара, скользкая от пота, удивительно живая и чувственная в пропасти своей постели, думая о необычном грубом сексе с какого-то рода черным экстазом. Источая горячую женскую жидкость. Испытывая оргастические приливы и отливы и кусая подушку в попытке сдержать крик. В наступающие за этим утра она подходила к зеркалу с ожиданием увидеть новые белые пряди волос.
Все те годы внешне она была лишь Надин Кросс: приятной, доброй к детям, хорошей учительницей, одинокой. Раньше такая женщина вызвала бы кривотолки и любопытство в обществе, но времена изменились. И ее красота была настолько своеобразной, что для нее казалось абсолютно верным быть именно такой, какой она была.
Теперь времена снова должны были измениться. Теперь наступала эта перемена, и теперь в своих снах она стала знакомиться со своим суженым, понемногу понимать его, несмотря на то, что ни разу не видела его лица. Он был именно тем, кого она ждала. Она была предназначена для него, но он нагонял на нее страх.
Затем появился Джо, а за ним Ларри. И тогда все стало невероятно сложным. Она казалась себе самой призом в соревнованиях по перетягиванию каната. Она знала, что ее чистота, ее невинность каким-то образом были важны для темного человека. Что если она позволит Ларри переспать с ней (или вообще любому мужчине переспать с ней), то черное очарование закончится. Ее влекло к Ларри. Она собралась совершенно осознанно позволить ему переспать с ней – снова она вознамерилась пройти через это. Пусть он переспит с ней, пусть это свершится, пусть все это закончится. Она устала, и Ларри был прав. Слишком долго она ждала того другого, слишком много сухих лет.
Но Ларри был не тем… по крайней мере, так ей показалось вначале. Она отбросила все свои начальные намерения с каким-то презрением, так кобыла смахивает слепня с крупа. Она вспомнила свою мысль: «Если все это ради него, осмелится ли кто-нибудь обвинить меня в том, что я отвергла его ухаживания?»
Все же она последовала за Ларри. И это факт. Но она безумно хотела добраться к другим людям, и не только из-за Джо, но прежде всего потому, что почти утвердилась в решении оставить мальчика и самой отправиться на запад в поисках того мужчины. И только годы выработавшейся ответственности за детей, порученных ее заботам, удерживали Надин от исполнения своего решения… и осознание того, что, предоставленный самому себе, Джо погибнет.
«В этом мире, где так много людей уже умерли, будет тягчайшим грехом допустить еще одну смерть». И она отправилась с Ларри, который, в конце концов, был лучше, чем ничего или никого.
Но, как оказалось, Ларри Андервуд был значительно больше, чем ничто или никто, – он был сродни одной из тех оптических иллюзий (возможно, даже для самого себя), когда вода кажется межой – может, дюйм, а может, два в глубину, – но когда опускаешь в нее руку, та внезапно погружается до самого плеча. То, как он познакомился с Джо, это во-первых. То, как Джо привязался к нему – во-вторых, ее собственная ревнивая реакция на крепнущую дружбу между Джо и Ларри – в-третьих. В том случае с крышкой бензобака в Уэльсе Ларри руками и ногами был за мальчика, и он победил.
Если бы тогда они не были всецело поглощены крышкой, то увидели бы, как от изумления ее рот раскрылся буквой «о». Она наблюдала за ними, не в силах пошевелиться, устремив взгляд на яркую металлическую полосу лома, со страхом ожидая, как та вначале задрожит, а затем отлетит. И только потом, когда все закончилось благополучно, она поняла, что ожидала именно худшего.
А когда крышку удалось поднять и снять, она оказалась лицом к лицу со своим заблуждением, заблуждением настолько глубоким, что оно могло перевернуть все ее устоявшиеся понятия. В данном случае Ларри понял Джо лучше, чем она, и без педагогического опыта, и за гораздо меньший срок. И только теперь, оглядываясь назад, она смогла оценить все значение эпизода с гитарой, повлиявшего на возникновение крепкой дружбы между Ларри и Джо. И что же явилось основой этой дружбы? Зависимость – что же еще могло вызвать такую внезапную волну ревности, охватившую все ее существо? Пусть Джо зависит от Ларри, это одно, и это нормально и приемлемо. Ее расстроило то, что Ларри тоже зависел от Джо, нуждался в нем, а она – нет… и Джо понимал это.
Неужели она так заблуждалась насчет характера Ларри? Теперь она понимала, что единственный ответ – да. Эти нервозность, самодовольство – лишь видимость, и теперь, в испытаниях, они стирались напрочь. Один только факт, что благодаря его усилиям они были вместе на протяжении всего долгого пути, говорит сам за себя.
Вывод, казалось, был ясен. За решимостью позволить Ларри заниматься с ней любовью какая-то часть ее по-прежнему была привержена тому другому мужчине… и заняться любовью с Ларри означало бы убить навсегда ту частицу самой себя. Надин не была уверена, что в силах сделать это.
К тому же теперь она не была единственным человеком, которому снился темный человек. Вначале это ее обеспокоило, затем испугало. Впрочем, не совсем так: испуг был, пока могла сравнивать свои сны с рассказами Джо и Ларри; но когда они повстречали Люси Суэнн и та призналась, что видит такие же сны, испуг Надин превратился в безумный ужас. Теперь уже не скажешь самой себе, что их сны просто-напросто сходны с ее снами. А что, если всем оставшимся в живых снилось то же? Неужели наконец-то час темного человека близок – и не только для нее, но для всех оставшихся в живых на планете?
Эта мысль чаще других пробуждала в ее душе противоречивые чувства – всеобъемлющий ужас и стойкую притягательность. Она ухватилась за мысль о Стовингтоне чуть ли не панически. По своему предназначению Стовингтон являлся оплотом здравого смысла и порядка на фоне нарастающего прилива черной магии, которую она ощущала вокруг себя. Но Стовингтон – пародия на небеса обетованные, которую она создала в своем воображении, – опустел. Оплот здравого смысла и порядка стал обиталищем смерти.
По мере того как они продвигались на запад, подбирая по пути уцелевших, надежда Надин на то, что все закончится для нее без столкновения, постепенно угасала. Она угасала по мере того, как Ларри рос в ее глазах. Он уже спал с Люси Суэнн, но какое это имело значение? Она была востребована. Остальным снились противоположные сны: темный человек и старая женщина. Старая женщина, по-видимому, стояла за какую-то изначальную силу, так же как и темный человек. Старая женщина была ядром, вокруг которого постепенно объединялись остальные.
Надин она никогда не снилась. Ей снился только темный человек. И когда сны остальных стали внезапно тускнеть так же необъяснимо, как и появились, ее сны, казалось, начали набирать силу и яркость.
Она знала многое из того, чего не знали они. Темного человека звали Ренделл Флегг. Те на Западе, кто сопротивлялся ему или его манере исполнения своих замыслов, были либо распяты, либо каким-то образом сведены с ума и отпущены блуждать в кипящем котле Долины Смерти. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе еще сохранялись маленькие группы людей с техническим образованием, но это было временно; очень скоро они двинутся в Лас-Вегас, где собиралась основная масса людей. Ему некуда было спешить. Лето пошло на убыль. Скоро проходы в Скалистых горах завалит снегом, и, хотя снегоочистителей будет достаточно, не хватит людей водить машины. Наступит очень долгая зима – хватит времени для объединения. А затем в апреле… или мае.
Надин лежала во тьме, глядя в небо.
Боулдер был ее последней надеждой. Старая женщина была ее последней надеждой. Те здравый смысл и порядок, которые она надеялась найти в Стовингтоне, начали формироваться в Боулдере. Они были хорошими, думала она, хорошими ребятами, но если бы все было так просто для нее, запутавшейся в безумной паутине противоречивых желаний. И снова и снова подобно струне-доминанте звучало ее собственное твердое убеждение в том, что убийство в этой опустошенной стране – это тягчайший грех, и ее сердце твердо, без тени колебаний подсказывало ей, что смерть – это дело Ренделла Флегга. Но как же она жаждала его холодного поцелуя – больше, чем поцелуев старшеклассников или того студента колледжа… даже больше (ей стало страшно), чем поцелуев и объятий Ларри Андервуда…
«Завтра будем в Боулдере, – подумала она. – Может быть, тогда я узнаю, кончено ли мое путешествие или…»
Падающая звезда огненной царапиной прочертила небо, и Надин, как ребенок, загадала желание.
Глава 3
Разгорался рассвет, окрашивая на востоке небо в нежно-розовые тона. Стью Редмен и Глен Бейтмен преодолели почти половину подъема на гору Флагстафф в восточном Боулдере, где из плоских равнин поднимались первые холмы у подножия Скалистых гор. При свете зари сосны, кривые стволы которых извивались среди голых и почти отвесных горных пород, казались Стью венами, избороздившими торчащую из земли руку неведомого великана. Где-то на востоке Надин Кросс наконец-то погружалась в чуткий, беспокойный сон.
– Днем голова будет раскалываться, – сказал Глен. – Что-то не припомню, чтобы я пьянствовал всю ночь с тех пор, как был безусым студентом колледжа.
– Восход солнца стоит того, – заметил Стью.
– Да, действительно. Красиво. Ты когда-нибудь раньше бывал в Скалистых горах?
– Нет, – ответил Стью. – Но я рад, что довелось. – Он опрокинул флягу с вином и сделал глоток. – У меня самого голова трещит. – На какое-то мгновение он замолчал, восхищенно глядя вокруг, затем повернулся к Глену с хитрой улыбкой. – И что же должно произойти теперь?
– Произойти? – Глен вскинул брови.
– Ну да. Вот для чего я втащил тебя сюда. Я сказал Франни: «Сначала я хорошенько напою его, а затем выведаю, что у него на уме». Она согласилась со мной.
Глен улыбнулся:
– На дне бутылки с вином нет кофейной гущи.
– Да, но Франни рассказала мне, кем ты был раньше. Социологом. Изучение взаимодействий групп. Так что выскажи свое ученое мнение.
– Сначала центик, о жаждущий светоча знания!
– Какой там центик, старина! Завтра я поведу тебя в Первый Национальный банк Боулдера и дам сразу миллион долларов. Как насчет этого?
– Серьезно, Стью, – что ты хочешь узнать?
– То же, что хочет знать тот немой парень Андрос, я полагаю. Что должно произойти дальше. Я не знаю, как это точнее выразить.
– Будет общество, – медленно сказал Глен. – Какого типа? В настоящее время трудно предугадать. Сейчас здесь уже собралось почти четыреста человек. Судя по тому, как они прибывали до этого – с каждым днем все больше, к первому сентября нас будет тысячи полторы. Четыре тысячи пятьсот к первому октября и, возможно, не менее восьми тысяч к тому времени, когда в ноябре начнет срываться снег и засыпет дороги. Запиши это как предсказание номер один.
К удивлению Глена Стью действительно извлек из заднего кармана брюк записную книжку и набросал только что услышанное.
– Мне трудно поверить, – сказал он. – Мы прошли всю страну и не встретили даже пресловутой сотни.
– Да, но они приходят, не правда ли?
– Да… по крохам.
– Как? – переспросил с улыбкой Глен.
– По крохам. Моя мать так говаривала. Тебе не нравится, как говорила моя мама?
– Никогда не наступит тот день, когда я настолько потеряю уважение к собственной персоне, что смогу сказать гадость о матери из Техаса, Стюарт.
– Они прибывают, это верно. У Ральфа на связи сейчас пять или шесть групп, а это значит, что к концу недели нас будет около пятисот человек.
Глен снова улыбнулся.
– Да, а матушка Абигайль сидит рядом с ним, но ни за что не хочет говорить по передатчику. Говорит, что боится получить удар током.
– Франни любит эту старушку, – улыбнулся Стью. – Частично из-за того, что та так много знает о рождении детей, а частично просто… любит ее. Понимаешь?
– Да. Большинство чувствуют то же самое.
– Восемь тысяч людей к началу зимы, – задумчиво произнес Стью, возвращаясь к первоначальной теме. – Боже, о Боже.
– Это простая арифметика. Предположим, что грипп уничтожил девяносто девять процентов населения. Пусть не так много, но давай возьмем это число, чтобы было на что опереться. Если грипп в девяноста девяти процентах смертелен, то это означает, что он унес около двухсот восемнадцати миллионов жизней только в нашей стране. – Глен заметил выражение шока на лице Стью и мрачно кивнул головой. – В сравнении с этим нацисты блекнут, не так ли?
– Боже мой, – произнес Стью охрипшим голосом.
– Но и тогда все еще остается более двух миллионов людей, то есть пятая часть населения Токио, четвертая часть населения Нью-Йорка до эпидемии. И это только в нашей стране. Далее, я полагаю, чтo десять процентов от этих двух миллионов могли не пережить последствий гриппа. Люди, которые пали жертвой того, что я назвал бы послешоковым состоянием. Люди, подобные несчастному Марку Брэддоку с его перитонитом, а также несчастные случаи, самоубийства, да и убийства тоже. Сбавляем еще до 1,8 миллиона. Но мы ведь предполагаем и существование Противника, не так ли? Тот темный человек, который нам снился. Где-то к западу от нас. Там семь крупных штатов, которые по праву можно было бы назвать его территорией… если он действительно существует.
– Думаю, он существует, – сказал Стью.
– У меня то же ощущение. Но подвластны ли ему все люди, которые там живут? Я так не думаю, так же как не верю и тому, что матушке Абигайль автоматически подвластны все люди в остальных штатах на континенте. Думаю, все еще находится в стадии медленного изменения, но такое состояние дел подходит к концу. Люди объединяются. Когда мы с тобой впервые обсуждали это раньше в Нью-Гэмпшире, я предвидел образование дюжин маленьких сообществ. Но на что я не рассчитывал – потому что тогда еще не знал об этом, – это на непримиримое соперничество этих двух противоположных снов. Это стало фактом, который никто не мог предвидеть.
– Ты хочешь сказать, что в конце концов у нас будет девятьсот тысяч сторонников и у него будет девятьсот тысяч?
– Нет. Прежде всего, наступающая зима нанесет большой урон. И именно здесь, и именно маленьким группам, которые не успеют добраться сюда до того, как ляжет снег. Им будет очень трудно. Ты хоть понимаешь, что у нас до сих пор в Свободной Зоне нет ни одного врача? Наш медицинский персонал состоит из одного ветеринара и самой матушки Абигайль, которая уже позабыла больше надежных лекарств для людей, чем нам с тобой когда-либо довелось о них узнать. Хотя они будут стараться изо всех сил вставить тебе в череп металлическую пластинку, если ты упадешь и ударишься затылком, не так ли? В общем, я полагаю, что к следующей весне общая численность американского населения составит 1,6 миллиона – и это еще щадящая оценка. Из этого числа, я надеюсь, мы наберем миллион.
– Миллион живых людей, – с благоговением произнес Стью. Он посмотрел на раскинувшийся внизу почти пустынный Боулдер-Сити, наполняющийся светом по мере того, как солнце поднималось над плоским восточным горизонтом. – Даже представить себе трудно. Город будет просто переполнен.
– Боулдер не вместит всех. Я знаю, как это пугающе действует на сознание, когда бредешь по пустынным улицам к центру города и прочь от него по направлению к плато, но он просто не сможет. Придется вокруг создавать общины. И ситуация будет следующей: эта одна гигантская община, а остальная часть страны к востоку отсюда абсолютно пустая.
– Почему ты считаешь, что у нас будет больше людей?
– По одной чрезвычайно ненаучной причине, – ответил Глен, ероша волосы вокруг своей природной тонзуры. – Я предпочитаю верить, что большинство людей добры. И я верю, что кто бы там ни управлял к западу от нас – он действительно плох. Но меня не покидает предчувствие… – Он запнулся.
– Валяй, договаривай.
– Я скажу потому, что пьян. Но это должно остаться между нами, Стюарт.
– Хорошо.
– Даешь слово?
– Даю слово.
– Мне кажется, что он соберет вокруг себя большую часть технарей, – сказал Глен. – Не спрашивай меня, почему; это всего лишь предчувствие. Разве что дело в том, что технари в основном привыкли работать в атмосфере жесткой дисциплины и прямолинейных целей. Им нравится, чтобы поезда ходили по часам. Мы же имеем здесь в Боулдере массовое смятение, все слоняются и делают кому что заблагорассудится… и мы должны сделать что-то такое, о чем мои студенты сказали бы «собрать свое дерьмо в кучу». Но тот другой парень… Держу пари, он сделает так, что поезда будут ходить по часам, а утки летать гуськом. А технари – такие же люди, как и мы; они пойдут туда, где им больше понравится. У меня подозрение, что этот Противник сам не остановится. К черту фермеров, он всего-навсего побыстрее заполучит несколько ребят, которые стряхнут силосную пыль с ядерных ракет в Айдахо и снова приведут их в состояние боеготовности. Таким же образом танки, вертолеты, возможно, один или парочку бомбардировщиков Б-53 так, для смеха. Сомневаюсь, чтобы он успел так далеко зайти, скорее, я уверен в этом. Мы бы узнали. Именно в настоящий момент он, вероятнее всего, сосредоточил усилия на том, чтобы вновь обеспечить подачу электроэнергии, восстановить коммуникации… может быть, он уже позволил себе чистку малодушных. Рим не в один день строился, и он узнает это. У него есть время. Но когда я вижу, как солнце заходит вечером – и это не шутки, Стюарт, – мне страшно. Никакими плохими снами меня не испугаешь. Мне достаточно всего лишь представить, как они там, по другую сторону Скалистых гор, трудятся, как пчелы.
– Что же делать?
– Продиктовать тебе список? – Глен усмехнулся.
Стюарт показал на свою потрепанную записную книжку. На ее розовой обложке выделялись силуэты танцующей пары и слова. «Долой танцы!»
– Итак, – спросил Глен, – ты шутишь?
– Нет. Ты ведь сам сказал, Глен, что нам пора собирать свое дерьмо в кучу. Я чувствую то же. Время уплывает с каждым днем. Мы не можем просто так, сложа руки, сидеть здесь и слушать радиопередатчик. В одно прекрасное утро мы можем проснуться и увидеть, как тот Супостат вальсирует в Боулдере во главе вооруженной колонны, вдобавок поддерживаемый с воздуха.
– Не жди его завтра, – сказал Глен.
– Да. А как насчет грядущего мая?
– Возможно, – тихо ответил Глен. – Вполне возможно.
– И что, по твоему мнению, случится с нами?
Глен не ответил словами. Он просто сделал жест, нажав на воображаемый курок, а потом залпом допил вино.
– Да, – согласился Стью. – Так что давай начинать собирать все в кучу. Говори.
Глен закрыл глаза. Разгорающийся день коснулся его морщинистых щек и глаз.
– Хорошо, – сказал он. – Вот план, Стью. Во-первых, воссоздать Америку. Маленькую Америку. Любыми путями. На первом месте стоят организация и правительство. Если начать сейчас, мы сможем сформировать такое правительство, какое пожелаем. Если же мы дождемся увеличения населения в три раза, то у нас с этим будут серьезные проблемы.
– Предположим, мы созовем общее собрание через неделю, это будет восемнадцатое августа. Для всех явка обязательна. До собрания должен быть создан специальный организационный комитет. Скажем, Комитет Семи. Ты, я, Андрос, Франни, Гарольд Лаудер, может быть, еще пара человек. Задачей комитета будет составление повестки дня собрания, назначаемого на восемнадцатое августа. Я уже сейчас могу назвать тебе некоторые пункты, которые должны войти в эту повестку.
– Давай.
– Во-первых, чтение и ратификация Декларации Независимости. Во-вторых, чтение и ратификация Конституции. В-третьих, чтение и ратификация «Билля о правах». Ратификация должна осуществляться путем всеобщего голосования.
– Господи, Глен, мы же все американцы…
– Да, вот где сказывается твоя молодость, – заметил Глен, открывая запавшие усталые глаза. – Мы – горстка уцелевших без какого-либо правительства. Мы – мешанина представителей всех возрастных групп, религиозных, классовых и расовых группировок. Правительство – это идея, Стью. Именно этим оно и является, ну и тому подобное дерьмо. Итак, я иду дальше. Это – внушение, не более чем тропинка памяти, протоптанная в мозгу. То, что у нас сейчас происходит, называется культурной деградацией. Большинство из выживших по-прежнему верят в правительство по представительству – республиканское – чем, по их мнению, и является «демократия». Но культурная деградация никогда долго не продолжается. Спустя некоторое время люди начнут переживать реакцию пустоты: президент мертв, Пентагон никому не подчиняется, никто более не вступает в дебаты в Конгрессе и в Сенате, кроме, разве что, термитов и тараканов. Наши люди здесь очень скоро очнутся и поймут, что старое ушло безвозвратно и что они в состоянии перестроить общество так, как захотят. Мы должны – мы обязаны – удержать их, пока они не очнулись и не наделали глупостей Он поднял палец. – Если кто-нибудь встанет на августовском собрании и предложит, чтобы матушке Абигайль были предоставлены абсолютные полномочия, а ты, я и Андрос назначены ее советниками, эти люди проведут этот пункт на основании всеобщего одобрения, пребывая в блаженном неведении насчет того, что только что проголосовали за первую в Америке диктатуру со времени принятия «Билля о правах».
– О, мне трудно в это поверить. Ведь здесь есть выпускники колледжей, юристы, политические активисты.
– Может быть, когда-то они ими и были. Сейчас же они представляют собой горстку усталых напуганных людей, которые не знают, что с ними будет. Некоторые, возможно, и запротестуют, но они моментально закроют рты, как только ты скажешь им, что матушка Абигайль и ее советники намерены сложить свои полномочия по прошествии шестидесяти дней. Да, Стью, очень важно, чтобы мы первым делом ратифицировали дух прежнего общества. Вот что я подразумевал под воссозданием Америки. И так должно быть до тех пор, пока мы действуем под прямой угрозой того человека, которого именуем Противником.
– Продолжай.
– Хорошо. Следующим пунктом повестки дня должно быть то, что правительство должно управлять так, словно это городок в Новой Англии. Абсолютная демократия. До тех пор, пока нас относительно мало, это будет отлично работать. Только вместо совета директоров у нас будет семь… представителей, я полагаю. Представители Свободной Зоны. Как звучит?
– Отлично звучит.
– Я тоже так думаю. А мы проследим, чтобы избранные оказались теми же людьми, которые входили в специальный комитет. Мы начнем всех торопить и сделаем так, чтобы голосование прошло до того, как люди начнут протаскивать своих приятелей. Мы можем выбрать людей, которые назовут нас, а затем и поддержат нас. И голосование пройдет гладко, как по маслу.
– Здорово придумано, – восхищенно сказал Стью.
– Разумеется. – В голосе Глена прозвучало самодовольство. – Если хочешь сорвать демократический процесс, посоветуйся с социологом.
– Что дальше?
– Этот пункт получит всеобщую поддержку. Пункт будет гласить: «Решение: матушке Абигайль предоставляется абсолютное право вето на любое действие, предложенное советом».
– Господи! Неужели она согласится?
– Думаю, да. Но я не думаю, что она когда-либо воспользуется своим правом вето; во всяком случае, я не предвижу подобных обстоятельств. Просто вряд ли мы сможем создать работоспособное правительство, если не назначим ее своим номинальным главой. Она – то, что нас всех объединяет. У всех нас за плечами паранормальный опыт, связанный с ней. И у нее есть… какая-то аура. Все до одного используют один и тот же набор прилагательных при описании ее, только в разном порядке: хорошая, добрая, старая, мудрая, умная, приятная. Всем этим людям снился один сон, который напугал их до смерти, и другой, который вселил в них чувство безопасности и стабильности. И из-за сна, который их напугал, они еще больше любят и доверяют источнику хорошего сна. И мы можем дать ей понять, что она является нашим лидером только номинально. Я думаю, что именно этого она и хотела бы. Она старая, уставшая…
Стью протестующе помотал головой.
– Да, она старая и уставшая, но она смотрит на проблему темного человека как на крестовый поход. К тому же она отнюдь не единственная. И ты это знаешь.
– Ты хочешь сказать, что она потребует своей доли?
– Может быть, это будет не так уж плохо, – заметил Стью. – В конце концов, нам снилась она, а не Совет Представителей.
Теперь Глен помотал головой.
– Нет, я не приемлю мысли о том, что все мы являемся заложниками некой постапокалипсической схватки добра и зла, будь то сны или что-либо другое. К черту, это иррационально!
Стью пожал плечами.
– Ладно, давай не будем на этом останавливаться. Я считаю, что твоя мысль о предоставлении ей права вето – дельная. Кстати, я считаю, что ее даже следует развить. Наравне с правом отменять мы должны предоставить ей право предлагать.
– Но не абсолютное, если уж на то пошло, – поспешил уточнить Глен.
– Нет, ее предложения должны быть ратифицированы Советом Представителей, – сказал Стью, а затем, хитро улыбнувшись, добавил: – Но мы рискуем превратиться в резиновую печать для нее, а не наоборот.
Наступило долгое молчание. Глен в задумчивости оперся лбом о согнутый кулак. Наконец он сказал:
– Да, ты прав. Она не может быть всего лишь номинальным главой… на худой конец мы должны смириться с возможностью, что она может иметь свое собственное мнение. Здесь мне пора завернуть мой мутнеющий хрустальный шар предвидения, Восточный Техас. Потому что матушка Абигайль является тем, кого мы, оседлавшие своего любимого конька социологии, называем инаконаправленным.
– И что это за иная направленность?
– Бог? Тора? Аллах? Нет, не это. Иная направленность – значит то, что ее речь необязательно направлена на нужды общества или любые другие более важные вещи. Она слушает другой голос. Словно Жанна д'Арк. Своим вопросом ты подвел меня к выводу о том, что мы можем прийти к теократии.
– Тео-что?
– На путь Божий, – сказал Глен. Он не испытывал счастья по этому поводу. – Будучи маленьким, Стью, мечтал ли ты когда-нибудь, что вырастешь и станешь одним из семи епископов и/или епископесс при старой ставосьмилетней негритянке из Небраски?
Стью уставился на него. Наконец он произнес:
– Еще осталось вино?
– Все выпито.
– Вот черт.
– Да, – сказал Глен. В наступившей тишине они изучающе посмотрели друг другу в лицо, а затем внезапно расхохотались.
Это был, конечно, самый красивый дом, в котором когда-либо жила матушка Абигайль, и, сидя здесь на крыльце под навесом, она вдруг почувствовала себя во власти воспоминаний о коммивояжере, который заехал в Хемингфорд давно, в 1936 или 1937 году. Да уж, он был самым сладкоречивым парнем из всех, кого она встречала на своем веку; он мог бы уболтать самих птиц спуститься с деревьев. Она спросила у этого молодого человека по имени Дональд Кинг, по какому делу он пришел к Абби Фриментл, и тот ответил:
– Мое дело, мэм, – удовольствие. Ваше удовольствие. Вы любите читать? Слушать радио от случая к случаю? А может быть, положить своих старых больных собак на подушечку для ног и послушать мир, то, как он катится по великой долине Вселенной?






