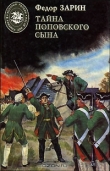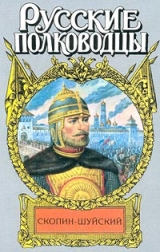
Текст книги "Скопин-Шуйский. Похищение престола"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
А заговор зрел, и опять Шуйские и Голицын были во главе его. Собирались ночью, поскольку днем приходилось сидеть в Сенате, являть царю преданность и приязнь. Так как у Шуйского Василия Ивановича было опасно, за ним почти наверняка следили басмановские подсылы, встречались то у Бориса Татева, то у Татищева или Ивана Колычева, а то и у купца Мыльникова. Всякую ночь в разных местах, ни у кого дважды подряд не собирались, чтобы не посеять подозрения у лакеев или холопов. Это подлое племя могло донести псу-Басманову.
В очередную встречу в дальней горнице у Татева Василий Иванович Шуйский выговаривал младшему брату Дмитрию:
– Ну ты и подобрал орлов, Митька. Чуть-чуть всех не завалили. Это ладно их стрельцы ночью же порубили. А дождись утра и Басманова, что б было?
– Они б не сказали, – оправдывался Дмитрий.
– За дыбу не ручайся, она всем языки развязывает. Уж Я-то знаю.
– Ну пронесло же.
– Пронесло, слава Богу. Но уже поджилки тряслись, когда узнал, что их поймали.
– А я вот что думаю, – заговорил неожиданно Голицын. – Надо его спихнуть тем же руками, которые его на престол усадили.
– Василий Васильевич, его чернь усадила, а она в нем души не чает, – сказал Шуйский.
– Тут, Василий Иванович, мы все ему порадели. Чего там. Правда, из-за Годунова радели лжецарю. Но теперь Годунова нет, пора и его убирать. А подключить к этому надо польского короля Сигизмунда. Хоть он и открещивается от лжецаря, мол, я не я и хата не моя. Но от него все пошло.
– Но его ж надо чем-то заинтересовать.
– Я думаю, надо предложить русскую корону его сыну Владиславу, Сигизмунд тогда землю будет рыть против Лжедмитрия.
– А что? – осмотрел Шуйский присутствующих. – Пожалуй, князь Василий дело говорит.
– Это что ж получается, – возразил Татищев. – Тех же щей да пожиже влей. То посадили на шею лжецаря, теперь будем звать ляха. Тогда наш Смоленск тю-тю, уплывает к Польше.
– Я сам думал над этим, Михаил Игнатьевич, – отвечал Татищеву Голицын. – Но мы должны заинтересовать чем-то Сигизмунда, хотя бы на первых порах, пока не скинем Лжемитьку. А там видно будет. Выберем из своих. А короля можем деньгами отблагодарить.
– Дожидайтесь, – засмеялся Колычев, – он всю казну уже очистил. Там скоро одни тараканы останутся.
– Это точно, – вздохнул Шуйский, – сорит деньгами царек наш, направо-налево сорит. А ты что молчишь, Миша? – обернулся к Скопину Василий Иванович! – Ты-то ближе всех к нему.
– А что я могу сказать? Мне нравится предложение Василия Васильевича. Еще можно королю сказать, что Дмитрий даже о польской короне мечтает.
– Ты это всерьез или шутишь?
– Какие шутки, я собственными ушами слышал, как Бучинский сказал Дмитрию: «Будешь, ваша царская милость, королем польским».
– Ничего себе, – засмеялся Голицын. – Как же они себе это представляют?
– В Польше много у Сигизмунда врагов среди ясновельможных, Дмитрий хочет их направить против короля. Его От этого удерживает только одно – невеста. Как только Марину Мнишек король отпустит в Россию, тогда и начнет Дмитрий подбивать поляков против короля.
– Он что, дурак? На русском престоле сидит, как воробей на колу, того гляди свалится, так подавай ему еще и Польшу.
– Он не дурак, Василий Васильевич, просто ему надо иметь что-то в запасе, как-то он даже о Франции заикался. Он чувствует ненадежность своего положения. А тут еще, кажется, всерьез с царицей Марфой повздорил.
– Из-за чего?
– Он хотел послать в Углич и выкопать из могилы царевича.
– Для чего?
– А чтоб доказать, что, мол, это поповский сын.
– И ты еще говоришь, он не дурак. Марфа, конечно, не согласилась?
– Не согласилась. Она же знает, что там ее настоящий сын лежит. И сдается, крепко на царя осерчала.
– Это хорошо, – сказал Василий Иванович. – Она может нам в будущем пригодиться для разоблачения Лжемитьки.
Скопин-Шуйский продолжал:
– Дмитрий собирается отправлять к королю послом Бучинского. Мне кажется, есть смысл сообщить Сигизмунду о словах Бунинского, тогда посольство его не будет принято, может и прогнать его из страны.
– А кого же послать к королю? Нам ведь отъезжать нельзя, мы к Думе привязаны. Лжемитька сразу спохватится: куда, зачем?
– Я думаю, кому-то из Мыльниковых можно. Они купцы, едут, мол, по торговым делам. – Шуйский взглянул на старшего из купцов. – Семен, кто из вас сможет поехать?
– Да хошь бы и я. Ваньша молод, дров наломает. А мне в самый раз с королем познаться. Напомни-ка, Михаил Васильевич, как Бучинский говорил лжецарю о польском престоле?
Скопин-Шуйский повторил:
– Он сказал: «Будешь, ваша царская милость, королем польским».
– Хорошо. – Мыльников, прищурясь, пробормотал реплику. – Я запомнил. Но ведь, как я понимаю, я должен сообщить ему о нашем кружке, что мы тут готовы провозгласить Владислава, как только король поможет нам убрать Лжедмитрия.
– Но ни в коем случае не называй ни одной фамилии, – предупредил Голицын. – Скажи, что, мол, люди знатных фамилий и довольно. А то, чего доброго, выдаст нас этому… Тогда все пропало. Петька Басманов, как стервятник, кружит, того и ждет, чтоб мы споткнулись.
– Кому-кому, а мне уж в четвертый раз топора не миновать, – усмехнулся невесело Шуйский.
– Почему в четвертый? – спросил Скопин. – Дядя Василий?
– Ну как же. От Федора раз, от Бориса – второй, от Лжемитьки – третий. Теперь грядет четвертый, если все попадем в лапы к Басманову. На этот раз вряд ли промахнется палач.
Так и приговорили: престол обещать Владиславу и хорошо бы поссорить короля с Лжемитькой. Другого выхода не было. Убийц более не подсылать, так как это чревато провалом всего заговора.
Король Сигизмунд III был в бешенстве, по лицу его разливались красные пятна, он орал на Бучинского:
– Как ты смеешь являться на глаза мне после всего этого, мерзавец?
– Но я это… – пытался хоть что-то сказать в оправдание свое Бучинский. Но король не хотел и слушать его.
– Твой так называемый царь уже полгода сидит на престоле и не исполнил ни одного пункта, записанного в «кондициях». Ни одного. Мало этого, так он уже целится на польскую корону. Хорош, нечего сказать. И ты – поляк подталкиваешь этого проходимца. Молчи. Я не желаю тебя слушать.
Бучинский ломал голову: «Кто мог передать ему мои слова? Когда успел? Ты гля, старика вот-вот удар хватит. А мне и отвечать нечем». Впрочем, Сигизмунд не желал слушать никакого оправдания. Как только он произнес перед русским послом известную фразу, а тот обалдел от услышанного, король понял, что попал в точку, что его не обманул тот купчишка.
– Ступай вон! – указал король на дверь Бучинскому. – И чтоб я более не видел тебя в моем дворце.
Придя на подворье, где он остановился со спутниками, Ян прошел в горницу и велел позвать Иваницкого. Тот прямо с порога спросил:
– Ну как, все в порядке?
– В порядке, – усмехнулся с горечью Бучинский. – Он погнал меня едва не в шею.
– Вот те раз. Так быстро дал аудиенцию. Еще радовались. С чего он?
– Кто-то из наших передал ему мои слова, сказанные царю. – Ян вдруг подозрительно взглянул на Иваницкого. – Постой, брат, уж не ты ли это?
– Чего ты несешь? Ну какие слова? Чего ты уставился?
– Ты смотри, смотри мне в глаза. Побожись, что не бегал к королю?
– Ян, ты что, рехнулся? Когда б я это успел, вчера только прибыли. Я багаж разгружал весь день.
– Теперь, видно, назад придется загружать и… домой.
– Вот те раз. Как же так? Ты ж посол царя.
– Король плевал на мое посольство, он и грамоту разорвал.
Хотел Ян добавить, что, мол, «плевал и на царя нашего», но удержался, донесут еще Басманову, тому не докажешь, что это слова короля, тем более что он действительно так не говорил.
Воротившись в Москву, Бучинский не решился сказать царю, за что король изгнал его из дворца и из Кракова.
– Я пришел во дворец выпимши, он и осерчал.
– Дурак ты, Ян. Я б тоже погнал от себя пьяного посла. Придется Ванюшку посылать.
Был призван Безобразов.
– Иван, придется тебе ехать к королю, Бучинский обмишурился.
– Как прикажешь, государь.
– Мне сейчас с ним ссориться никак нельзя, пока Марина там. Попроси от моего имени извинения за Бучинского-дурака, наклюкавшегося перед аудиенцией. Да сам-то гляди не напейся. Вот послал Бог послов-ослов, ничего доверить нельзя. Передашь ему грамоту и на словах скажешь, что я исполню все наши договоренности, что под Ельцом уже собрано войско.
– Хорошо, государь, исполню, как велишь?
Безобразов понял важность поручения и поэтому решил немедленно поговорить с Голицыным. Встретив его у Грановитой палаты, он поклонился князю и молвил негромко, почти не разжимая рта:
– Василий Васильевич, у меня важное дело. Когда мне прийти к вам?
– Вечером.
– Не могу, вечером я должен быть у его постели.
– Ну хорошо. Через час можешь?
– Могу.
– Я буду ждать.
Через час Безобразов оказался у ворот голицынского двора и уже потянулся рукой постучать в калитку, как она тут же распахнулась. Его ждали. Слуга молча провел его в дом, в кабинет князя.
– Садись, Иван, – указал Голицын на свободное кресло. Безобразов, волнуясь, присел, князь испытующе смотрел на гостя, но не торопил. Откашлявшись, Безобразов начал:
– Князь, царь действительно не тот, за кого себя выдает.
– Да? – усмехнулся Голицын.
– Да, да, я свидетельствую, что это Юрка Отрепьев, с которым мы еще в детстве играли.
– Что ж ты раньше не свидетельствовал, Ваня? Впрочем, я понимаю, всякому жить хочется. И что ж ты хотел сообщить мне важное?
– Меня он посылает послом к королю.
– А что ж Бучинский?
– Его король выгнал.
– С чего бы?
– Он пьяным явился во дворец.
– Ну-ну, – поощрил князь, едва улыбнувшись уголками губ, скрытых усами.
– Я повезу грамоту королю и хотел бы что-то заоднемя от бояр отвезти.
– Почему именно от бояр?
– Я знаю, бояре затевают против него что-то.
– Кто это тебе сказал, Иван?
– Я же не слепой, Василий Васильевич. Что-то готовится. Вон уже ночью во дворец с ножами явились.
– С чего ты взял, что бояре должны с тобой передать что-то королю?
– А разве у вас ничего нет сообщить ему?
– Нет, Ваня, нечего сообщать Сигизмунду. Он все знает, что ему положено.
– Вы мне не верите, Василий Васильевич.
– С чего ты взял?
– Я ж вижу, не слепой.
– Вот видишь, сам догадываешься, Иван. Оно и впрямь, откуда мне знать, может тебя Басманов подослал. Ты ж первый ночной шептун у царя, а ну шепнешь ему. А у меня шея, чай, не железная, топор не отскочит.
– Василий Васильевич, князь, хотите, я поклянусь на кресте. Надоела мне эта лжа на лже. Грех ведь это.
Голицын поднялся из кресла, прошел к столу, взял кувшин, налил в бокал сыты. Выпил. Спросил гостя:
– Будешь?
– С удовольствием, Василий Васильевич, – поднялся Безобразов. – Все в горле пересохло.
– Это от такого разговора, Иван, за который запросто плаху схлопотать, – сам налил полную кружку гостю. – Пей.
Безобразов выпил с жадностью, похвалил:
– Добрая сыта, спасибо, Василий Васильевич.
Голицын ничего не ответил, прошел назад к креслу, сел.
Безобразов остался стоять у стола, словно еще ожидая сыты, и неожиданно полез за пазуху, достал нательный крест.
– Вот на нем клянусь, князь. Пусть меня разразит гром, отымется язык, если я открою царю или Басманову то, о чем мы здесь говорили.
– А мы ни о чем особо и не говорили, Безобразов. Ты сказал, что царь – это Юрка Отрепьев. И все.
– Разве вы не понимаете, князь, что только за эти слова мне голову снесут. Однако я вам доверился.
– Ладно, Иван, не будем препираться, я тебе верю. Тем более что с Басмановым у меня свои счеты. А королю можешь передать, что Дума на престоле хочет видеть его сына, а не этого самозванца.
– И все?
– И все, Иван. А ты что, хотел письмо к нему? Нет, брат, тебя обыскать могут и все… И сам погибнешь, и других потянешь. Так что лучше на словах. А на будущее, пожалуйста, оставайся подле царя. Если что он новое придумает, сообщай мне.
– Хорошо, Василий Васильевич. Спасибо.
– За что?
– За то, что поверили мне.
– Не вздумай еще кому довериться, налетишь на доносчика.
– Не беспокойтесь, Василий Васильевич, я к вам-то шел дрожал как лист осиновый.
– Во жизнь, Безобразов, все дрожат. И перед кем?
– Он и сам в страхе живет, князь.
– Неужто?
– Да, да, сколько раз мне по ночам признавался, кругом только врагов и видит.
– Ну так и есть, – засмеялся Голицын. – Он ведь не дурак, соображает. Оттого и мечется.
12. Появление «племянничка»Терский казачий атаман Федор Бодырин созвал на совет своих старшин и есаулов решать, как быть? Куда за «зипунами» идти? Бравый казак Афонька Дуб предложил идти по Куре-реке на Каспий, там и потрясти турских купчишек:
– Их корабли полны добра и золота, есть чем поживиться.
Затея не нова, старики еще помнят, как на Каспий хаживали, скольким не довелось воротиться, на корм рыбкам пришлось отправиться. Потому Афоньку сразу осадили:
– Помолчи, Дуб, не мельтеши. Надо искать царского жалованья.
Эвон донцы и запорожцы привели царя Дмитрия к Москве, посадили на престол, он их деньгами завалил.
– Но мы-то не ходили с ними.
– Вот то-то что не ходили, – сказал Бодырин. – Нам надо своего царя произвесть.
– Так это ж будет не настоящий.
– Ну и что? Дмитрий тоже, гутарят, не настоящий, а вон как Москву тряхнул. Тут главное, чтоб царь навроде матки в рою, а на него уже народишка сбежится.
– А кого объявим-то? Дмитрий уже есть.
– Давай думать.
– А что думать, объявим Петра Федоровича, мол, сын Федора Ивановича и Ирины Федоровны, Годуновой сестры.
– А у них был сын?
– А Бог его ведает. Раз вместях жили, значит, и рожали кого-нито. Народ простой все равно не знает.
На том и порешили: избрать царя Петра Федоровича – чем терские казаки хуже запорожских.
Атаман Бодырин оглядел старшин внимательно: кто из них в цари гож? Уж больно староваты и рожи у них, что кирпичи обожженные, красные. Царю, конечно, надо бы личность побелее.
– Не обижайтесь, атаманы-молодцы, но никто из вас на царя не тянет. Надо бы кого помоложе и рылом побелее.
– Може Митьку – сына стрелецкого выбрать? – предложил есаул Хмырь. – Он и грамоту ведает.
Бодырин приказал рассыльному позвать Митьку, да поживей – одна нога тут, другая там. Явился Митька в расстегнутом бешмете.
– Ты грамоту ведаешь? – спросил Бодырин.
– Ведаю, – отвечал Митька.
– Мы тут решили тебя в цари выбрать.
– Вы что, атаманы, совсем с хлузду съехали, какой я царь?
– Ты обожди, Мить, послушай, – сказал Бодырин и стал объяснять, каким он будет царем. – И есть и пить будешь по-царски, трудить тебя ничем не будем.
– Оно, конечно, царем быть дело хорошее, – согласился Митька. – Но вот беда, я в Москве ни разу не был. Кто за нее че спросит, а я баран бараном, чего буду отвечать?
Старшины переглянулись: довод резонный. Не подходит Митька в цари, хотя и грамотный.
– Слухай, Митрий, может, ты знаешь кого, кто на Москве бывал, чтоб не старый, молодой навроде тебя? А? – спросил Бодырин.
– А Илейка Иванов. Он там родился и холопствовал.
– Илейка? Это которого из Астрахани привели?
– Он самый, атаман.
– Мить, услужи. Найди его и вели в атаманскую избу притить.
– Хорошо, – согласился Митька. – Счас позову.
– Токо, Митрий, не трепи языком насчет царя.
– Я что, баба, че ли? – обиделся Митька.
Илейка появился перед старшиной несколько смущенный, на портах опилки, стружки сосновые, видно, стружком и пилой работал. Но лицо вроде не красное, почти белое. «Годится», – решил атаман и спросил:
– Ты грамотен, Илейка?
– Нет, – отвечал тот.
Бодырин не удержался, крякнул от досады.
– А в Москве бывал?
– А как же, я там и родился, и в кабале был у Григория Елагина, оттуда и бежал на Астрахань.
– Ну как, атаманы-молодцы, – обратился Бодырин к старшине. – Москву знает, а грамоте нет. Как будем?
– А на кой царю грамота, – сказал Хмырь. – Я немного володею, ежели что, могу накарябать указ.
– Верно, есаул, – поддержала войсковая старшина. – Сами станем писать его именем.
Тут удивленному Илейке Бодырин объяснил, для чего его вызвали и спросил:
– Так согласен ты быть царем Петром Федоровичем?
– Да я че, ежели старики велят, отчего не стать, – отвечал Илейка.
– Вот и умница. Хмырь, садитесь с Дубом и пишите первый указ.
– Об чем?
– Ну как? О том, что на Тереке объявился законный наследник царского престола Петр Федорович и зовет всех обиженных под свою руку, что будет жаловать всех разными товарами и деньгами за верную службу.
– А где я наберу этого всего? – смущенно спросил Илейка.
– Ты царь. Это не твоя забота. Пойдем Волгой, там есть города богатые, а по Волге купчишки с товарами… Наберем, Илейка, то бишь государь, тебе казну знатную.
– Ну а если нам вдруг мой хозяин встренется, я ж ему в кабалу продавался?
– Не встренется. Ну а если навернется на свою беду, мы с ним мигом управимся, петлю на шею и подвысь.
Так на Тереке объявился новый царь Петр Федорович, и морем на нескольких стругах отправился он с невеликой армией к Астрахани. О пополнении ему заботиться не надо было, по степи скакали в разные стороны казаки с его указом, в котором сулилось всем, кто примкнет к нему, хорошее жалованье. А царское жалованье для любого казака – мечта желанная. И если пускался в поход царь Петр с отрядом едва достигавшим тысячи, то под Царицыном у него было уже четыре тысячи и несколько пушек с добрым запасом пороха. Маленькие городишки сдавались «царю» почти без боя, да и купцам, плывшим с товарами, связываться с такой силой не приходило в голову: «Берите, берите, токо живота даруйте». И все забирали и живота даровали.
Когда причалили под Самарой, на царском струге собралась войсковая старшина – решать, что делать дальше. Поскольку «царь» по молодости ничего не мог придумать, всем заправлял атаман Бодырин Федор.
– Надо слать грамоту царю московскому. Хмырь, бери бумагу, будем сочинять царскую грамоту.
– С чего начнем, – бормотал атаман, более обращаясь к себе, чем к старшине. – Значит, так, если наш царь сын Федора, а Дмитрий брат Федора Ивановича. Знатца ты ему племянником доводишься. Так? Так. Поэтому пиши, Хмырь: «Дорогой дядя Дмитрий Иванович! Я царевич Петр – кровный сын царя Федора Ивановича и имею такие же права на престол, как и ты. Но я не хочу зла меж нами… Позволь мне притить на Москву и…»
Атаман неожиданно споткнулся и никак не мог придумать продолжения письма, хотя и щелкал пальцами. Глядя на глазевшую на его старшину, рассердился:
– Думайте, думайте? Почему я один должен напрягаться?
Илейка, понимавший, что письмо пишется от его царского имени, вздумал подсобить атаману:
– …и обнять тебя по-братски.
– Ты хоть не лезь, – проворчал Бодырин. – Твое дело царствовать, вот и царствуй. Мы туда не обниматься идем, а свое жалованье требовать.
Илейка-царь смутился и даже покраснел. Тут Афонька Дуб нашелся:
– Тогда так и пиши, мол, жалуем за жалованьем моим людям. А? Чем плохо?
– Ладно, пиши, – кивнул атаман Сеньке Хмырю, хотя слова Дуба ему не очень понравились, подумал: «Дуб есть дуб, чего с него взять».
Больше часа потратила старшина на царское письмо, уж очень не привычный для казаков труд, то ли дело саблей врага рубить: р-раз, р-раз и готово, либо ты, либо он в ковыле. А тут сиди, думай, аж в висках саднит.
С письмом царя Петра в Москву был отправлен из старшины самый грамотный – есаул Семен Хмырь с двумя товарищами. Из царской казны их хорошо удовольствовали деньгами в дорогу, дабы не отвлекались в пути на добычу пропитания. Через Калужские ворота въехали в Москву без особых помех, сообщив приворотной страже, что они «до государя с грамотой государевой».
Однако, выехав на Красную площадь и узрев могучие красные стены Кремля, заробели посланцы.
– Слухай, Хмырь, а не покрутят нам тут головы, как курятам. Глянь вон, кто в ворота ни въезжает, у всех оружие отымают. Не нравится мне это.
– А мне, думаешь, нравится, – мялся есаул, ни на минуту не забывавший, какого «царя» он тут представляет. – Ходим, браты, в кабак, там покумекаем, как быть.
Они подъехали к питейному заведению, привязали коней к коновязи. С весеннего света войдя в полутьму кабака, терцы остановились, дабы осмотреться и приискать себе место, и тут из дальнего угла их позвали:
– Эй, станишники, гребитесь сюда.
Они прошли и увидели уже изрядно захмелевшего казака перед корчагой хмельного. По белой папахе, лежавшей на столе, определили его высокое положение в казачей иерархии.
– Сидайте, хлопцы, – широким жестом пригласил он и крикнул: – Гей, живо еще три кружки!
Кабатчик услужливо притащил обливные глиняные кружки и поставил на стол:
– Что на закусь прикажете?
– Тартай тарань, голубь, да ковригу, – приказал казак и стал разливать по кружкам вино. – Вы, братки, вижу, с Терека, по напатронникам узнаю. А я с Дона, звать Андрей Иванович Корела, атаман. Может, слыхали?
– А как же, – польстил Хмырь, хотя впервые слышал это имя.
– Вот возвели Дмитрия Ивановича на престол. Он нас и наградил. Казакам жалованье и отпуск домой на Дон. А нам с атаманом Постником по сотне золотых. Ну куда с ними? Я в кабак, а Постник Линев решил грехи отмаливать, постригся в монахи и умотал аж в Соловки. Дурак, право дурак. Давайте выпьем, казаки.
– Давай, атаман.
Стукнулись кружками, дружно выпили. Стали тарань о стол околачивать, чтоб помягчела.
– Атаман, а вы, часом, не вхожи в Кремль? – осторожно поинтересовался Семен Хмырь.
– Хых. Я с самим царем вот так как с вами гутарю. В любое время желанный гость у него, – похвастался Корела. – Но не люблю туда ходить, бояре больно важные, смотрят на тебя и губы кривят, мол, чернь вонючая. Ну их на…
И Корела сочно выругался и стал отдирать зубами от тарани мясо.
– Андрей Иванович, вас нам сам Бог послал, – взмолился Хмырь. – Нам как раз великая нужда до царя.
– Какая?
– Так ведь у нас на Тереке его племянник объявился, Петр Федорович по прозванию. Тоже царских кровей, без подмесу. У нас от него письмо к царю. Можете передать в евоные ручки? А?
– Раз плюнуть, – сказал Корела и опять потянулся за корчагой, стал наполнять снова кружки. – Давайте выпьем за встречу, казаки, хоть вы и терские, а все равно как родные. А то ведь тутка, куда ни глянешь, все рожи чужие. Тощища, хоть вешайся.
Выпили за встречу, закусывали ковригой, макая ее в соль.
– А когда, Андрей Иванович? – допытывался Семен.
– Завтра, братцы. Сенни, видите, я не в хворме.
У стола явился какой-то оборванец с лохматой, давно немытой шевелюрой.
– Атаману Кореле слава, – прохрипел он.
– А-а, Исайка, – признал его атаман. – Выпей с нами, друг.
Оборванец с благоговением принял кружку.
– За твое здоровье, атаман, – и одним махом, опрокинул ее внутрь.
– Закусывай, Исайка. Вон ломай от ковриги.
– Благодарствую, я окусочком обойдусь, – пробормотал оборванец и, схватив со стола кусочек, недоеденный Хмырем, исчез.
– Ишь ты какой хитрован, – похвалил оборванца Корела. – Все окусочки собирает, через них, мол, ему сила переходит от тех, у кого окусочек взят.
– Это, выходит, у меня силу взял оборванец, – вздохнул Хмырь.
– Выходит, у тебя, – засмеялся Корела. – У меня никогда окуски не берет Исайка. Тебе, говорит, атаман, сила нужнее. А для чя она мне теперь? Над кем атаманить? Эх, братцы, – вздохнул он и снова принялся наполнять кружки.
Просидели в кабаке они до вечера, изрядно нагрузившись за счет атамана.
– Вы где стали, братки? – спросил Корела, подымаясь из-за стола.
– Пока нигде.
– Айда ко мне. Я на Моховой полдома сымаю.
Атаману уже на выходе кабатчик вынес баклагу с ремешком:
– Андрей Иванович, а похмельные-то.
– Спасибо, Сыч, – взял атаман баклагу, накинул ремешок на плечо.
– Заходите еще, дорогой вы наш, – сказал кабатчик, кланяясь.
– Не боись, зайду, – отвечал Корела и, когда вышли на улицу, заметил: – Я ему гость дорогой, пока у меня золото звенит в кармане. А кончится, так ведь и на порог не пустит, а в баклагу[31]31
Баклага – жестяной плоский сосуд.
[Закрыть] не то что вина, а и воды не нальет.
Но выйдя из кабака, они обнаружили у коновязи всего двух коней. Одного украли.
– От же гады, – выругался Хмырь. – Моего самого лучшего увели.
– Да в Москве рот не разевай, – согласился Корела, – Ну ничего, чего-нито придумаем.
До Моховой действительно было недалеко. Атаман, сунув руку в дыру, отворил калитку, потом ворота. Впустил верховых.
– Ведите под навес в правую загородку, в левой мой Рыжко стоит. Киньте сена с горища, да про моего не забудьте. Седла снимите, у меня подушек нет.
Пока спутники Хмыря ставили коней, они с атаманом, справив малую нужду, вошли в избу, в которой жилым и не пахло. Корела, шарясь в темноте, наказывал:
– Вот здесь не ударься башкой… вот тут вправо бери… Вот слева вишь окно… там попоны, на них и лягайте… а я тут вправо у стенки на тулупе.
– А огня вздувать не будем? – спросил Хмырь.
– А зачем? Печь не топлена, жару нет, да и свечи от веку у меня не водилось.
– А лучину?
– Ты что, станишник, в Москве за лучину столько плетей накладут, что месяц не на чем сидеть будет. Лучина – это верный пожар, помилуй Бог.
И еще не пришли казаки со двора, а уж от стены послышался густой храп атамана. Однако утром именно Корела разбудил гостей:
– Эй, казаки, зарю проспите.
Хмырь сел, тряхнул головой, Корела протягивал ему баклагу.
– Глотни, похмелись.
– А вы?
– Я уже причастился.
– Но, Андрей Иванович, вы же обещали до царя сходить.
– И схожу, раз обещал. Где ваша грамота?
– Вот. – Семен полез за пазуху, достал бумажный свиток с печатью. Корела взял свиток, сунул в рукав.
– Так кем он царю доводится ваш этот… Как его?
– Петр Федорович. Он ему племянник.
– Очень хорошо. Пойду обрадую его, а то бояре, окромя огорчений, ничего ему не приносят.
Уже в дверях, обернувшись, спросил:
– А какой масти конь у тебя был, Семен?
– Вороной со звездочкой во лбу и белых чулочках по щетку.
– Ух, красивый какой, – сказал атаман. – Не мудрено, что свели. Ну да что-нибудь придумаем, бывайте.
– Племянник? – удивился царь. – Ну-ка, ну-ка, давай его сюда, Андрей Иванович.
Дмитрий сорвал печать, развернул свиток, быстро прочел и засмеялся тихо, сказал почти с одобрением:
– Ах ты, каналья.
– Что, государь, не он? – спросил Корела.
– Он, он, атаман, мой племянничек, о котором, правда, я впервые слышу.
– Ну и слава Богу, – перекрестился Корела. – Кто ж родной душе не обрадуется.
– Это точно. Я рад.
– А отвечать будешь ему, ваше величество?
– А как же. Спасибо, атаман, за хорошую новость. Но я спешу в Сенат. Будь здоров, Андрей. Заглядывай, я всегда рад тебя видеть.
Здесь Дмитрий не лукавил, только в этом бесхитростном атамане он видел искренне преданного ему человека.
Терцы, оставшиеся в домике на Моховой об одну горницу, в которой не было ничего, даже стола, долго ждали атамана. Пытались найти что-то съестное, не обнаружили. Хотя в сарае на горище было сено для коня и мешки с овсом.
– Да царев друг не богат, – сказал Хмырь.
– Казак, – заметил терец, – конь есть, значит, богат.
Вот и солнце к обеду приблизилось, а атамана все не было. Казаки проголодались, одного наладили на торг, купить чего-нито съестного. Хмырь, решив, что Корела опять в кабаке, сходил туда, спросил кабатчика:
– Атаман был?
– Нет, Андрея Ивановича не было. Он, видно, коня в поле вывел на первую травку. Ввечеру обязательно придет.
Хмырь вернулся на подворье. Атаманов рыжий конь по-прежнему стоял в сарае и грыз уже ясли. Семен кинул ему сена.
Казак, воротившийся с обжорного ряда, притащил пироги с вязигой, три калача и туесок с квасом. В избе было столь неприютно и затхло, что решили обедать во дворе. Расстелили попоны, Хмырь заметил:
– Не иначе загулял у царя наш атаман.
– Пожалуй, оно так и есть, – согласился казак.
Съели пироги, калачи запили квасом и, растянувшись на попонах, грелись на весеннем солнышке. Уже начали подремывать, как в ворота послышался стук и голос атамана Корелы:
– Эй, станишники, отчиняйте ворота.
Хмырь вскочил, открыл ворота и невольно ахнул. Перед ним стоял его Вороной, на котором сидел улыбающийся Корела.
– Примай пропажу, Семен.
– Ах ты ж, мой дорогой, ах ты, отец родной. – Хмырь принялся целовать в морду коня, и глаза его блестели от подступивших слез. – Где взял, Андрей Иванович, да я тебе по гроб жизни…
– У конокрада Оськи выкупил.
– Выкупил?
– Ну да.
– Так ты знал его?
– Какой бы я был атаман, если б не знал эту сволоту. Всех московских конокрадов знаю, со многими выпивал. Спросил одного, другого, сказали: Оськина работа. Пришел к нему в Замоскворечье. И верному него конь. Говорю: «Оська, отдай, то моего станишника конь». Он было упираться, мол, я его заработал. Я ему: «Ты сам знаешь, чего ты заработал, кол в задницу. Кликну стражу, мигом скрутят и к Басманову, а тот тебя на кол посадит, аль забыл, что конокрадам бывает». Оська расхныкался, мол, сам знаешь, какая у меня опасная работа, дай хоть рупь. Пришлось дать, трудился подлец.
Корела слез с коня, передал повод обалдевшему от счастья есаулу, увидел на попоне остатки от обеда. Опустился на колени, перекрестился, выдернул пробку из баклаги, висевшей на боку, сделал несколько глотков прямо из горлышка и закусил окуском калача.
– Счас, хлопцы, едем, попасем коней на первой травке. А уж вечером в кабак.
– А как грамоту, Андрей Иванович, передал царю?
– В собственные евоные ручки.
– Ну и как он?
– Оченно обрадовался государь. Оченно. Да и как не радоваться, родной человек отыскался.
– А ответ будет?
– Обязательно, Семен, обязательно.
– Но когда?
– Я думаю, дни через три-четыре, а може через неделю. У него, братки, забот выше макушки. Вся держава на ем, успевай поворачиваться. Но сказал: обязательно отвечу племянничку.
И они выехали за город за Серпуховские ворота, где, спутав коней, пустили на попас. Развели костерок (в поле было можно), грелись под апрельским солнышком. Рассказывали байки, на закате воротились на подворье, задали коням сена и отправились в кабак. Есаула, было решившего платить за общий стол кабатчику, Корела осадил:
– Сиди, Семен. Вы гости, я угощаю, а ему за неделю вперед уплочено.
Так и потекли дни – днем попас, вечером кабак. Корела был щедр, угощал не только гостей, но и всякого пьянчужку, сунувшегося к столу. Каждый вечер являлся и Исайка, выпивал свою кружку хмельного за здоровье атамана и непременно похищал чей-нибудь окусок. Когда Хмырь напоминал атаману: «Не пора ли за ответом?» Корела отвечал:
– Пождем, он занятой. А вам что, кисло у меня?
– Да нет, Андрей Иванович, спасибо, очень хорошо.
– Ну и живите, пусть хоть кони с дороги поправятся. Там на горище овес есть, подсыпайте им.
– Там два мешка всего.
– Ну и что? Кончится, купим на Сенном еще?
Наконец прошла неделя, началась вторая. Хмырь настойчиво подступал к атаману:
– Андрей Иванович, ну сходи до царя. Попытай, може уже ответил.
– Ладно, схожу, торопыги.
Но воротился атаман очень скоро, имея виноватый вид.
– Ну? – уставился Хмырь, почуяв неладное. – Написал?