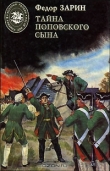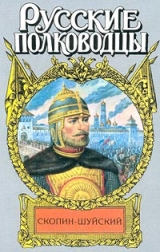
Текст книги "Скопин-Шуйский. Похищение престола"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Пан Валавский исполнил тайный совет Адама Вишневецкого, он не нашел Мнишеков. Самозванец, приучивший уже себя к мысли, что появление царицы Марины еще более укрепит его царское происхождение, если, разумеется, удастся разыграть трогательную встречу. О чем Гаврила твердо заявил: «Заставим сучку и признать тебя мужем, и обнимать, и целовать. Никуда она не денется».
Оттого царь всерьез разгневался на Валавского.
– Как это не нашел? – вскричал он. – Царица что? Иголка? Это моя родная кровная жена, а ты не нашел. Ну что с тобой сделать? Что?
– Воля ваша, государь, виноват, – смиренно отвечал Валавский, надеясь покорностью смягчить гнев царя.
– А еще канцлер. В кои-то веки дал ему одно поручение, а он не исполнил. За что я тебе жалованье канцлера плачу? За что?
Валавский был разжалован из канцлеров, но через день восстановлен, так как в Тушине появилось письмо Мнишека, тайно отправленное с дороги: «Нас повезли через Углич в Польшу, сопровождает нас с отрядом князь Владимир Долгорукий, ради всего святого, спасите нас».
– Ну вот, я искал их на западе, а их потащили на север, – оправдывался Валавский. – При чем тут я?
– Ладно, ладно, – смиловался царь. – Будь опять канцлером.
Гетману Рожинскому было приказано назначить новую погоню за царицей. Он велел Зборовскому догонять Мнишеков, с ними напросился и князь Мосальский:
– Я знаю, где сейчас они должны быть.
По всему лагерю специальные бирючи оглашали радостную новость: «Скоро царица пожалует в Тушино». А паны на своих застольях стали произносить тосты: «За счастливое избавление ее величества ясновельможной Марины из грязных лап Шуйского».
А Мнишек, тайно отправивший посланца с письмом в Тушино, всячески старался ехать медленнее. Кучеру, сидевшему на облучке кареты, то и дело делал замечания:
– Не гони! Не дрова везешь, пся кровь. Царицу.
С ночлегов выезд задерживал пан Мнишек отговоркой:
– Пусть поспит ее величество, всю ночь блохи донимали. – Из-за блох, одинаково жравших и величеств и не величеств, пришлось устраиваться царице на ночлег прямо в карете. На одной из ночевок уже недалеко от польской границы, Мнишек, выйдя во двор по малой нужде и справив оную, подошел к карете и, воровато оглянувшись, вытащил чеку из переднего колеса и зашвырнул ее подальше. Ясновельможный пан, самборский воевода, надеялся, что чеку долго будут искать или отковывать новую, глядишь, полдня и потеряют. Так уж не хотелось ему в Польшу, где его ждала жадная куча кредиторов, с которыми ему нечем было расплачиваться. Пан был гол как сокол.
Но днем, когда собирались продолжить путь, никто не заметил отсутствия чеки. Кучер впряг лошадей, влез на облучок. Мнишек, возмущенный такой беспечностью холопа, спросил:
– Ты все осмотрел?
– А как же, мы свое дело знам, – отвечал кучер, трогая лошадей. – Н-но, милаи.
И карета поехала. Мнишек ждал, что колесо вот-вот должно слететь, но оно почему-то не слетало. Проехали с версту – ничего.
«Надо будет на следующей ночевке выкинуть с другого заднего колеса», – подумал Мнишек, и тут карета накренилась.
«Наконец-то, – обрадовался воевода. – Свершилось».
– Тр-р-р, – закричал кучер, останавливая лошадей. Откинув дверку, Мнишек спросил:
– Что случилось?
– Чеку от переднего колеса потеряли.
– Вот тебе и «знам, знам», – передразнил холопа воевода. – Я ж тебя, дурака, спрашивал: ты все осмотрел?
– Так смотрел я, все вроде было на месте.
– Вроде, вроде. Ищи.
– Счас найду. Она вот токо что выпала.
Кучер побежал назад по дороге искать чеку, «токо что» выпавшую. Ему помогали конники сопровождения: «Ребята, ищите чеку».
Мнишек в душе радовался: «Ищите, ищите, собаки. Хрен найдете». Он никак не ожидал, что удачно так получится. Думал, что чеку хватятся на стоянке, а оно эвон как обернулось, хватились едва ль не через две версты. «Теперь день наш», – потирал руки удоволенный пан.
Марина косилась на отца:
– Что-то вы, отец, в таком хорошем настроении.
– А что нам делать остается, доченька? Не плакать же. – Но тут он почувствовал, что карета выравнивается. Мнишек откинул дверку, выглянул. Несколько человек, приподняв карету, ставили колесо на место.
– Что? Нашли?
– На-ашли! – радостно отвечал кучер, размахивая чекой.
– Так это ж деревянная.
– Ну и что? Из дуба отстрогал, эта ничем не хуже.
– М-да. – Мнишек откинулся на подушки, настроение сразу упало: «Чертов холоп. Извернулся».
Но когда подъезжали к деревне Любенцы, вдруг сзади послышалась стрельба, крики. Сопровождение разбежалось. Карета остановилась.
– Что это? – встревожилась Марина.
– Сиди, доченька, молчи, без нас разберутся, – сказал Мнишек, пока не рискуя выражать радость: «Разберутся ли»?
Наконец дверца распахнулась, и улыбающийся пан Зборовский торжественно провозгласил:
– Ваше величество, вы свободны.
– Браво! – воскликнул Мнишек, едва не захлопав в ладоши. – Вы от царя Дмитрия? Верно?
– Верно, пан Мнишек.
– Так он жив?! – воскликнула Марина.
– Да, ваше величество, ваш муж жив и с нетерпением ждет вашего прибытия.
– Ой, какое счастье! – воскликнула Марина. – А мне наговорили Бог знает что.
И карета завернула назад. Когда приехали в деревню, где ночевали накануне, Мнишек пошел в кусты, отыскал заброшенную им туда чеку и, обтерев ее травой, засунул в карман: «Авось сгодится. Ну как сломается та, дубовая. А у меня, пожалуйте вам, окажется случайно запасная».
Теперь надо спешить. И теперь уже в спину кучеру сыпались другие команды: «Поторапливай, поторапливай, дурак. Чего пристяжную жалеешь, дай ей кнута».
Повеселела и Марина. Еще бы, едет к мужу, которого считала убитым, она в нетерпении прыгала на подушках, подпевала звонким голоском:
Солнце смотри с неба синего,
И сегодня я счастливая.
Потому я так счастливая,
Что со мною небо синее.
От рассвета и до вечера
Мне поют в траве кузнечики.
Я люблю их стрекотание
И дзякую их заранее.
Однажды уже после Звенигорода, когда Марина ехала в карете одна и напевала, отец ее решил тряхнуть стариной, сел в седло и, оживленно беседуя с паном Зборовским, ехал сзади. К открытой дверце подъехал князь Мосальский, польстил царице:
– Хорошо поете, Марина Юрьевна, только кого вы застанете в Тушине?
– Как кого? Моего мужа.
– Эх, Марина Юрьевна, жаль мне вас. Мужа, да не того, кого ожидаете. Там совсем другой человек.
– Как? – растерялась Марина. – Вы лжете!
– Вот крест, что там не ваш муж. – Мосальский перекрестился и отвернул коня в сторону.
Марина в полном отчаянье, словно оглушенная, сидела в карете и наконец закричала кучеру:
– Останови! Останови, скотина.
Карета встала. Тут же подъехали верхами Мнишек с Зборовским.
– Чего встал! – закричал Мнишек на кучера.
– Панна велела.
Воевода распахнул дверцу.
– В чем дело, Марина?
– Я не поеду туда.
– Почему?
– Это не мой муж, – закричала Марина, едва сдерживая слезы. – Я не хочу его видеть.
– Ты с ума сошла.
– Это вы все с ума посходили. Мой муж убит, а это самозванец.
– Замолчи, дура, – рассердился Мнишек, забыв, что перед ним царица. – Помолчи.
Они отъехали с Зборовским в сторону, стали совещаться: что делать?
– Ничего не понимаю, пела, пела, ровно пташечка, и на тебе. Выпряглась.
– Кто-то, наверное, ей сказал об этом.
– Кто мог? Постойте, к карете подъезжал князь Мосальский.
– Точно. Наверняка он наговорил ей гадостей.
– Найдите его.
Зборовский велел найти Мосальского, но его не было.
– Он, скотина, – сказал Мнишек. – Больше некому.
– Ну что будем делать? – спросил Зборовский.
– Я попробую еще раз переговорить с нею наедине, пусть никто не подъезжает близко.
Мнишек подъехал к карете, слез с коня, влез в экипаж.
– Ну что ты, доченька, – начал он ласково.
– Не уговаривайте меня, отец, я к нему не поеду. А повезете силой, плюну ему в рожу. Я – царица, а он кто? Наверняка какой-нибудь мерзавец, каторжник.
Получасовые переговоры не дали результата. Наконец Мнишек, уступая ее упрямству, предложил:
– Ну хорошо, давай сделаем так. Я поеду к нему, посмотрю, он ли, и вернусь сообщить тебе.
– Езжай и скажи, что я его видеть не желаю.
– Ну полно, полно. Там посмотрим.
Зборовский остался караулить царицу, а Мнишек с небольшим отрядом сопровождающих поехал в Тушино. До него было уже недалеко. Мнишек уже точно знал, что Дмитрий был не тот, но ехал, чтобы увидеть самому и попробовать выбить из него деньги. Поэтому когда его ввели в шатер царя, он даже не подал вида, что перед ним другой человек. Наоборот, хитрец воскликнул:
– Боже мой! Как я рад, что вы спаслись тогда. А я… а меня… ограбили эти клевреты Шуйского. Все, все отняли, чем вы меня наградили, – хотел пан даже всхлипнуть, но вместо всхлипа какой-то хрюк получился.
Новый царь вполне оценил игру тестя, обнял его, как родного, утешил:
– Не беспокойся, отец, я все вам верну. Сколько они отняли у вас?
– Триста тысяч, – брякнул Мнишек и сам оторопел: не слишком ли загнул?
Но нет, царь оказался не скупой.
– Вы получите их, когда захотите. А лучше когда привезете свою дочь, мою незабвенную жену.
Господи, да за такие деньги Мнишек и свою бы жену привез этому царьку. Но надо ж как-то изворачиваться, и воевода мгновенно сообразил:
– Она не хочет въезжать простой поезжанкой, она желает въехать царицей, ваше величество.
– Да, да, отец, я понимаю. Узнаю характер моей жены. Мы организуем ей достойную встречу. Где она сейчас?
– Здесь, недалеко от Москвы, в Раздорах.
– Я отряжу для встречи лучшего своего воеводу. – Царь обернулся к Сапеге: – Петр Павлович, я поручаю вам ехать в Раздоры и сопровождать сюда мою жену, царицу Марину Юрьевну.
– Благодарю за высокую честь, ваше величество, – склонил голову Ян Сапега.
С Сапегой была отряжена лучшая гусарская хоругвь со знаменами и даже музыкантами.
Мнишек понял, что уж Сапегу-то надо посвятить во все затруднения, он обсказал ему все, что-де Марина уперлась и ни в какую не хочет ехать в Тушино. Сапега, широкогрудый, здоровый и красивый пан, рассмеялся:
– Ах, Юрий Николаевич, еще ни одна женщина не отказывала мне в моей просьбе. И ваша Марина никуда не денется. Вот увидите, поедет как миленькая.
– Дай Бог, дай Бог, – стал немного успокаиваться Мнишек. Но перед Раздорами попросил:
– Позвольте, я сначала поговорю с ней.
– Пожалуйста, – согласился Сапега.
За время отсутствия Мнишека Зборовский уже поставил царице шатер на опушке леса и заставил поваров готовить обед. И для царицы, и для своих гусар. Горело несколько костров. Тут же на лугу паслись спутанные кони.
Спрыгнув с коня, Мнишек решительно направился в шатер. Марина лежала на походной кровати. Едва отец вошел, взглянула ему в глаза:
– Ну? Он?
– Не он, Марина, но…
– Я же тебе говорила, я знала, я знала.
– Тиш-шше, – прошипел гусаком Мнишек. – Все же за пологом слышно.
– Ну и пусть.
– Марина, послушай. – Мнишек говорил едва не шепотом. – Я же отец, разве я пожелаю зла тебе? Он лучше того, выше, красивее, настоящий царь. Да, да и потом, как только мы приедем с тобой, я сразу же получаю триста тысяч. Понимаешь, триста тысяч. А сейчас мы с тобой нищие. Неужели ты этого не понимаешь? Как только мы явимся в Польшу, меня кредиторы упекут в тюрьму. Ты этого хочешь?
– Но, отец, ты и меня пойми, не потаскуха же я, в конце концов.
– Что ты, что ты, Бог с тобой, доченька. Ты царица, провозглашенная и коронованная, а он… – тут Мнишек даже не шептал, а одними губами сказал: – «Никто». А когда ты станешь возле него, тогда и его признают царем. Понимаешь, через тебя он станет царем. Он же будет тебе век обязан. Тебе счастье само в руки идет, а ты упираешься.
Марина, прикрыв глаза, долго молчала, наконец, открыв их, сказала:
– Хорошо. Я согласна. Только пусть он отведет мне отдельную квартиру. А в постель мою явится после взятия Москвы, в Кремле, в моей спальне.
– Но, Мариночка…
– Все, все. Я – царица и мужа допущу к себе лишь на царском ложе.
Мнишек поднялся, вздохнул:
– Ох и сволочная ты, дочка, вся в мать.
– Какую родил, – огрызнулась Марина примирительно.
Как бы там ни было, воевода вышел из шатра хоть и вспотевшим, но умиротворенным. Прошел к походной коновязи, где Сапега уже беседовал с Зборовским.
– Ну как? – встретил его улыбающийся Сапега. – Крепость сдалась?
– Сдалась, – улыбнулся Мнишек устало.
– Ну вот, я же вам говорил, где я – там победа.
– Победа-то, победа, но она такие условия нагородила.
– Ну без условий, пан Мнишек, ни одна крепость не капитулирует.
Поскольку августовский день клонился к закату, решили заночевать в Раздорах, чтобы утром ехать в Тушино. Сапега послал к царю гонца с краткой запиской: «Она согласна, готовьте встречу». Он, старая лиса, догадывался, насколько эта встреча важна для Тушинского царька. Поэтому наказал Мнишеку:
– Юрий Николаевич, глядите, чтоб наша молодая кобылка не взбрыкнула там.
– Что вы, что вы, дорогой воевода, все пройдет Как на смотре.
Мнишек настолько уважал и побаивался Сапегу, осмелившегося не послушаться даже короля, что не посмел обижаться на его грубые сравнения царицы то с «крепостью», то с «молодой кобылкой». Кого другого за такие оскорбления Мнишек вызвал бы на поединок, конечно не на саблях – староват он для них, но из пистолета рука б не дрогнула. Но Яна Сапегу (Петра Павловича) Боже сохрани. Наоборот, даже ответил в тон ему, сказав о «смотре», на котором оценивают обычно не только всадников, но жеребцов и кобылок, на которых они гарцуют.
Благословляя дочь на сон грядущий, Мнишек шептал ей:
– Мариночка, милая, обними ты его завтра, поцелуй.
– Мы об этом не договаривались.
– Ну, деточка, что тебе стоит, а мне за это триста тысяч отвалится.
– А мне?
– Господи, тебе вся империя достанется, вся Россия. Не мучь ты меня, пожалей, доча. Я ныне нищ, растоптан, оплеван, а с такими деньгами я опять воспряну. Ну, доча!
– Ладно. Иди спать, отец.
– Ну ты сделаешь, как я прошу тебя?
– Ладно. Постараюсь.
– Вот и умница, вот и умница, – обрадовался воевода и даже потянулся поцеловать дочь, но она недовольно оттолкнула его.
– Твои усы колючие.
Он не обиделся, а от восторга даже прослезился, шептал срывающимся голосом:
– Вот и ладно… Вот и славно… Умница ты моя. Единственная. Спи с Богом.
Отчасти Мнишек узнавал себя в упрямстве дочери: «В меня, сучка, вся в меня, мать ни при чем».
Часть третья
Победитель опасен
1. Между двух царейПрибывший с невеликой дружиной в Новгород князь Скопин-Шуйский был встречен с честью. Хотя воевода новгородский Михаил Татищев отнесся к прибытию царского племянника с плохо скрытым неудовольствием, решив, что царь не доверяет ему. При первой же встрече с «мальчишкой», как заглазно он звал Скопина, Татищев молвил ему с полушутливым намеком:
– А уживутся ли два медведя в одной берлоге, Михаил Васильевич? А?
Скопин посмеялся, отшутился дружелюбно:
– Я в вашу берлогу, Михаил Игнатьевич, ни за что не полезу. Потому как послан не по берлогам прятаться, а со шведами переговоры вести.
– Что, неужто уж своих сил мало? – спросил Татищев. – А как вы думаете? Уж об украинских городах и говорить не приходится, так ведь 22 русских города уже Вору присягнули. Ни на кого положиться нельзя. Смоленск, Нижний Новгород пока верны государю да вот вы.
– Верны, – вздохнул Татищев. – Кабы так.
– А что? Неужто колеблется Новгород Великий?
– Колеблется, Михаил Васильевич, еще как колеблется. Особенно мизинные[57]57
Мизинные – люди простого звания, чернь.
[Закрыть] людишки. Он ведь, Вор-от, много им чего обещает. А мизинные завсе лучшим людям завидовали. А он обещает их над вятшими людьми взвысить. Псков-то отчего сторону Вора взял?
– Отчего?
– Мизинные вятших переважили, да и воевода Петр Шереметев с дьяком Грамотиным тому немало поспешествовали.
– Воевода?
– Да. Заставлял людей присягать Тушинскому вору, а потом за эту присягу их же пытал, отбирал у них нажитое. Села на себя захватывал и все именем царя московского. Псковичи послали в Москву к царю деньги и челобитную, так посланцев этих едва не казнили.
– За что?
– А воевода отписал царю, что они, мол, враги его. А кому царь поверит? Ясно, не мизинным.
– Они где сейчас?
– Кто?
– Ну эти послы псковские.
– В тюрьме, наверно, московской.
– Имена их известны?
– Должно, на съезжей у писаря есть.
Скопин призвал Кравкова:
– Фома, ступай на съезжую[58]58
Съезжая – полицейский участок.
[Закрыть], возьми у писаря имена псковских челобитчиков, скажи, что мне они нужны.
Первое, что сделал Скопин по прибытии в Новгород, тут же нарядил своего шурина Головина к королю шведскому Карлу IX.
– Скажи ему так, Семен, мол, великий государь бьет его величеству челом, передашь грамоту и скажешь: просит, мол, оказать помощь против поляков. Пусть посылает сюда в Новгород доверенного человека для переговоров. Я буду ждать.
– А что я должен обещать шведам?
– Ну что? Хорошую плату за войско.
– Они этим не удоволятся.
– Ну если будут настырничать, пообещай Корелу, но скажи, мол, переговоры полномочен вести князь Скопин-Шуйский. Езжай, Семен Васильевич, не умедливай. Да цену-то очень не набивай. Говори, мол, все у нас ладом, если б не поляки. Про самозванца помалкивай.
– Думаешь, Карл IX не знает о нем?
– Знает не знает, какое им дело. Поляков прогоним, и самозванец мигом исчезнет. А у Карла на поляков зуб, вот на них его и натравливать надо.
Головин отправился в Швецию. Скопин-Шуйский писал в Москву царю, ничего не скрывая, описывая замятию в Пскове и других городах. В конце грамоты приписал: «…а те псковские люди, что приезжали к тебе с челобитной и деньгами – Самсон Тихвинец, Федор Умойся Грязью, Овсейка Ржов да Илья Мясник – были пред тобой оговорены воеводой Петром Шереметевым и ныне, по моим сведениям, сидят в московской тюрьме. Оттого во Пскове началась замятия, мизинные переважили вятших, захватили власть и заставили всех присягнуть Тушинскому вору. Посему прошу Вас, великий государь Василий Иванович, незамедлительно тех людей освободить и отправить во Псков, а Петра Шереметева пока отозвать в Москву и учинить следствие по его делу».
Запечатав грамоту, Скопин призвал Глебова:
– Вот, Моисей, скачи в Москву к государю. На словах скажи, чтоб просьбу мою здесь изложенную исполнили немедленно.
– Хорошо, Михаил Васильевич, – сказал Глебов, пряча грамоту за пазуху. – Разреши взять заводного коня[59]59
Заводной конь – запасной верховой конь.
[Закрыть].
– Да, да, разумеется.
Но спокойно князю Скопину-Шуйскому не пришлось пожить. Еще не воротился из Швеции Головин, а из Москвы – Глебов, когда на Торговой стороне сбежались на вече новгородцы решать: к какому царю пристать. Оба сидят на Москве, оба требуют деньги, ратников. Какой-то славянин, надрывая глотку, кричал на всю площадь:
– Наш младший город Псков уже решился, присягнул Дмитрию Ивановичу. Орешек тоже за него, Иван-город ему ж присягнул. А чего ж мы-то ждем? Мы должны младшим городам путь казать, а не они нам. Срамно даже.
– Дык вон у Софии сидит посланец другого царя, Василия Ивановича.
– Нам че на него оглядываться. Укажем путь ему та и годи.
– Верна-а-а! Пральна-а-а! Путь князю Скопину-у-у!
Воевода Татищев появился у князя встревоженный:
– Вот я ж говорил вам, Михаил Васильевич, мизинные, что порох ныне.
– А кто ж тогда вы, Михаил Игнатьевиче, воевода или пень осиновый? Басманова эва как славно срубили, а здесь тыл показываете.
– Басманов что? Один. А этих – море, разойдутся – захлестнуть могут.
Скопин призвал к себе дьяка Сыдавного, прибывшего с ним из Москвы.
– Семен Зиновьевич, я выйду из города с дружиной. Ты останься, сюда должен воротиться Головин со шведами, будешь ему в переговорах помогать.
– Хорошо, Михаил Васильевич, а вы надолго уходите?
– Не знаю. Мизинные перекипят, вернусь. А пока дойду до Невы, может, и до Орешка. Что-то мне не верится, что воевода Салтыков передался Вору.
В сопровождении своей дружины направился Скопин к Невскому истоку, где на острове Ореховом высилась крепость Орешек, выстроенная когда-то новгородцами для охраны водного пути в Варяжское море[60]60
Древнерусское название Балтийского моря.
[Закрыть]. Прибыв к истоку, он оставил за себя Чулкова и в долбленой ладейке направился к крепости.
– Коли что случится, сообщите как-нибудь, – сказал Чулков.
– Крепость наша, Федор, что в ней может случиться?
– Так ведь она на воровской стороне…
– Сегодня на воровской, завтра на нашей. Вели лагерь разбивать. – Чухонец, сидевший на весле, помалкивал. Сноровисто греб, направляя ладейку вразрез течению.
На крохотной пристани, прямо у приступок каменной лестницы, стоял человек в зеленом кафтане и теплой вязаной шапке.
– Гостям всегда рады, – молвил он, ловя за острый нос верткую ладейку и притягивая ее вплотную к причалу. – Откуда будем?
– Из Москвы, – сказал Скопин, выпрыгивая из ладьи. – К воеводе Салтыкову.
– О-о, Михаил Глебович будет рад, очень рад. Честь имею представиться: сотник Ивлев.
– Князь Скопин-Шуйский, – ответил Михаил Васильевич. Салтыков по возрасту годился Скопину в отцы, и встретил князя вполне дружелюбно. В кабинете воеводы топилась печь, пол был застлан ковром, стол стоял у узкого окна, напротив печи вдоль всей стены тянулись лавки, строганные из толстой плахи.
– Почти все лето топить приходится, – молвил воевода. – Кругом вода. Ивлев, вели принести еще дровец. Да и корчагу вина с рыбкой. Чтоб было чем гостя угостить.
Салтыков сам помешал в печке кочергой, подкинул дров.
– С чем пожаловал, Михаил Васильевич?
– С дружиной своей, Михаил Глебович, из Новгорода.
– Никак путь указали? – усмехнулся в седую бороду воевода.
– Почему? Сам решил уйти, пока замятия не кончится.
– Со мной не лукавь, князь, я ж вижу. Уж не на постой ли в Орешек пожаловал?
– А если на постой. Пустишь?
– Нет, Михаил Васильевич, не пущу.
– Почему?
– Ну, во-первых, некуда, сами в великой тесноте пребываем, можешь зайти в казарму, убедиться. А во-вторых, Михаил Васильевич, мы разным государям служим. Ты, конечно, Василию Ивановичу, а я Дмитрию Ивановичу.
– Тушинскому вору?
– Ну зачем же так, князь? Нехорошо в гостях хозяев оскорблять. Впрочем, давай-ка выпьем.
Салтыков наполнил медовухой глиняные кружки. Поднял свою.
– Ну за что пьем?
– За мир на Руси.
– Согласен, – тронул своей кружкой княжью. – Мир нашей земле край нужен.
Выпили, стали обдирать вяленую рыбу.
– Нынче, Михаил Васильевич, на Москве два царя, твой дядя и Дмитрий Иванович. Ну с тобой ясно, ты до конца за дядю. Верно?
– Верно.
– И я тебя понимаю. Своему дяде я бы был верен. Но тогда объясни мне, Михаил Васильевич, почему от твоего дяди почти все города отшатываются? А? Почему?
– Ну Смоленск же за него.
– Смоленск ясно почему, ему иcпокон поляки досаждают. А возьми Суздаль, Владимир, Вологду, Кострому да и саму Москву наконец, уже половина за Дмитрия стоит. Я уже молчу про украинские города, те давно горой за него.
– Ну вот вы, Михаил Глебович, взяли сторону самозванца. Почему? Ведь Орешек – новгородская крепость, а Новгород-то за Василия Ивановича. Вы вроде как изменник.
– Я не обижусь, князь. В молодости б оскорбился, а ныне… Тогда спрошу тебя, а Псков разве не новгородский пригород. А? Вот то-то. И тоже Дмитрию Ивановичу присягнул. А воевода вологодский Никита Пушкин, а костромской воевода князь Мосальский, в Суздали Федор Плещеев, во Владимире – старой столице – Вельяминов Мирон Андреевич тоже все присягнули Дмитрию Ивановичу. Все. Понимаешь, все. Почему я – Салтыков должен быть белой вороной?
– Но Новгород… Вы же подчинены Новгороду, Михаил Глебович.
– А-а, в Новгороде тоже все на волоске висит, зря, что ли, вы ушли оттуда? Мишка Татищев рано или поздно переметнется.
– Почему вы так думаете?
– Хых. У него ж не две головы, он видит, чья берет. А берет наша, князь Михаил, как это ни прискорбно вам слышать.
– Вы явно хотите поссориться, Михаил Глебович.
– Я? С чего вы взяли? Давайте еще по чарке примем.
Салтыков опять наполнил кружки.
– Ну за то, чтоб нам не поссориться, Михаил Васильевич. – Воевода залпом опорожнил свою кружку, крякнул удовлетворенно: – Знаете, Миша… Позвольте вас Мишей звать, вы мне все ж в сыновья годитесь?
– Ради Бога, Михаил Глебович.
– Так вот… о чем я хотел? Да. Вот. Я, Миша, знавал вашего отца, князя Василия. Замечательной души был человек, отзывчивый, смелый, правдивый. Ты на него чем-то похож. Ей-ей. А вот дядя твой Василий Иванович – царь нонешний, змея подколодная. Он, если надо, и через тебя переступит. Не обижайся, Миша. Неужто он не видит, что от него вся земля отворачивается, что несчастливо царство его. Ему б по-доброму положить посох, снять корону и сказать: «Простите, православные, не годен я царствовать над вами, отпустите в монастырь, грехи замаливать». Так нет же. Он вцепился в этот посох и корону, как клещ, тройкой не отдерешь. Он же всю Русь в пропасть тянет, Миша. Всех нас. Ты думаешь, отчего все города Тушинскому царю присягают? Не оттого, что его любят, нет, многие его и доен не видели. А оттого, что царя Василия ненавидят. И считают – Дмитрий хуже не будет. Потому что с дядей твоим мы докатились дальше некуда. Ну как ты считаешь, Миша? Не прав я?
– Может, вы в чем-то и правы, Михаил Глебович, но я считаю, коли царь плох, служить надо отчине. Не ему. А раз он венчан на царство, помазан, куда деваться? Вон митрополит Гермоген ругается с царем – пыль до потолка, а против него слова не скажет. Напротив, всегда на его защиту встает.
– Ну иереям так положено. Как он будет против его, если сам на царство венчал? Они теперь – царь с патриархом – одной веревочкой повязаны, один тонуть начнет – второго за собой на дно утянет.
Провожал Скопина-Шуйского воевода Салтыков перед вечером лично до самого причала. Увидев, в какую посудину нацеливается сесть гость, закричал чухонцу:
– А ну пшел отсюда со своей душегубкой. Ивлев, немедленно проводи князя на моей яхте. Да вели отсалютовать.
Когда князь уже был на воеводской яхте на средине реки, со стен крепости раскатисто грохнуло три пушечных выстрела. Салют.