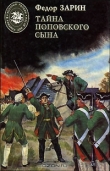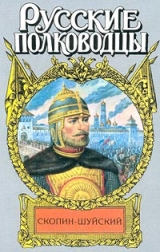
Текст книги "Скопин-Шуйский. Похищение престола"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
– Тем, что, приглашая к себе, не принимаешь его.
– Но я занят.
– Чем ты занят, бездельник?! – прокричал кто-то визгливым голосом.
– Я царь, и тоже не потерплю, чтоб меня оскорбляли.
– Отвечай на вопрос! – потребовало коло: «Отвечай! Отвечай!»
– Я составляю план похода на Москву, – нашел Дмитрий, как ему казалось, самый достойный ответ. Но именно этот ответ подлил масла в огонь.
– Собираешься на Москву, а почему не говоришь об этом нам, нашему воеводе?
– Потому что я не звал вас, – не скрывая злобы, ответил царь, и установившаяся за этим относительная тишина подхлестнула Дмитрия: – Можете уезжать, я вас не удерживаю. Мне нужны воины, а не болтуны и бузотеры.
В следующее мгновение Дмитрий пожалел, что сказал последние хлесткие слова. Коло буквально взвыло, задохнулось от ярости:
– Что с ним разговаривать? Зарубить его надо!
– Иссечь! Иссечь! Иссечь!
Дмитрий сразу протрезвел: «Убьют ведь, собаки, ей-ей убьют». Но внешне не показал страха, наоборот, сказал жестко, с угрозой:
– Если кто из вас тронет самодержавного царя Руси хоть пальцем, вы все будете изрублены в куски немедленно. Ваше коло окружено моими ратниками и ждет только моего взмаха руки. Ну?! Рубите, кому жить надоело.
Поняв, что этой угрозой он заткнул рот самым горластым, Дмитрий повернул коня в ту сторону кольца, откуда въезжал в коло, и приказал:
– Дорогу! Ну! Расступись!
И коло расступилось. Дмитрий ехал по узкому проходу с гордо поднятой головой, в любое мгновение ожидая сзади удара, столько ненависти жгло царскую спину.
«Гнать! Гнать их всех к чертям собачьим, – думал он, подавляя страх, сжимавший сердце. – Вот приедет Заруцкий, и я выгоню этот сброд».
Войдя стремительно в свой «дворец», он потребовал вина и выпил подряд, не закусывая, две чарки. Его колотило от гнева и пережитого страха. Даже вино не успокаивало. Он бормотал:
– Сволочи, сволочи, сволочи…
– Ну как? – спросил Валавский.
– Что «как»? – дико взглянул царь на своего канцлера.
– Как прошло?
– А ты что? Не понял?
– Но я же там не был, – пожал Валавский плечами.
– Прошло как по маслу, – усмехнулся Дмитрий. – Надо гнать Рожинского вместе с его сбродом.
– Это невозможно, ваше величество.
– Почему?
– Он сильнее нас, государь.
– Это сейчас, а придет Заруцкий…
– И все равно этого нельзя делать, ваше величество. Ссорясь между собой, мы никогда не победим Шуйского.
– Нет! – крикнул Дмитрий и трахнул ладонью по столу так, что пустая чарка подпрыгнула. – Нет, нет, нет. Я не хочу их видеть!
Канцлер понял, что царь начал пьянеть, вышел в приемную горницу, там уже кроме Веревкина и хорунжего с несколькими сотниками находился встревоженный Адам Вишневецкий.
– Ну что? – спросил князь.
– Он взбешен. Я полагаю, его там оскорбляли.
– Коло. Чего ты хочешь?
– Не надо было ему ехать на судилище. Там ведь и убить могли.
– Как не поедешь? О чем ты говоришь, пан Валавский? Показать свою трусость, опозориться.
– А что теперь делать? Он хочет гнать Рожинского.
– Э-э, этого делать нельзя, – сказал Вишневецкий. – Ты говорил ему?
– Конечно.
– А он?
– Что он? Он в ярости.
– Ничего, пусть остынет, завтра уговорим. А я поеду сейчас к Рожинскому. Надо мирить их.
– Езжайте, Адам, поговорите. Не хватало нам между друг дружкой драку затевать.
Князь Вишневецкий помчался в посад, где находился в это время Рожинский со своим отрядом. Тот тоже был не в духе.
– Роман, зачем ты его потащил на коло? – спросил Вишневецкий. – Он же царь.
– А я князь и гетман, с какой стати я должен терпеть оскорбления, хотя бы и от царя.
– Но там же его могли убить.
– И хорошо бы сделали.
– Нельзя так, пан Роман. Сам знаешь, чем кончается убийство матки в рое пчел.
– Ничего, другая б «матка» сыскалась.
– Это несерьезно, Роман Наримунтович, не в карты играем.
Три дня скакали Вишневецкий с Валавским от царя к Рожинскому и от того к царю, кое-как примирили. Возможно, тому посодействовала весть, что на подходе атаман. Заруцкий с донцами.
И вот он прибыл, доложил весело:
– Ваше величество, привел в ваше распоряжение пять тысяч отчаянных хлопцев. Готовы хоть сейчас в драку.
– Спасибо, Иван Мартынович, ты прибыл вовремя.
– И еще, государь, – прищурился хитро Заруцкий. – Привез вам подарок.
– Какой еще подарок?
– Вашего племянника, государь.
– Племянника? – удивился Дмитрий.
– Да, да. Эй, Кастусь, введи царевича Федора.
Казак ввел молодого человека. Тот поклонился Дмитрию:
– Здравствуйте, дядя.
Царь покрутил головой, удерживаясь не то от смеха, не то от мата. Наконец спросил:
– Так ты чей сын-то, Федор?
– Я сын вашего братца Федора Ивановича, государь.
– Хых. А я думал, у него не было сыновей.
– Дык вот, – пожал плечами «племянничек».
– Ладно. Садись вон. Посиди. Мне сейчас не до тебя. – До вечера царь не вспоминал о племяннике, занятый делами войска. Даже забыл приказать покормить его. Будзило догадался, принес калач:
– На пожуй.
Уже в темноте на крыльце столкнулся с Дмитрием.
– Государь, там у тебя этот племянник. Ты забыл о нем?
– Не забыл. Это не племянник, Будзило. Это самозванец. У моего брата Федора не было детей. Я знаю точно. Уведи его за баню и прикончь. Только мне еще самозванцев не хватало.
– Но может быть… – замялся хорунжий.
– Ты слышал приказ? – холодно перебил его Дмитрий. – Исполняй, Будзило. Потом сразу доложишь.
Будзило вошел в горницу, где сидел несчастный племянник, спросил:
– Ну поел?
– Поел. Спасибо.
– Пойдем спать устраиваться.
Они вышли из дворца, свернули в переулок, спускавшийся к реке. Парень спросил:
– А далеко идти?
– Нет, тут два шага. Иди вперед, за баней свернешь. – И парень обошел хорунжего, видимо и не догадываясь ни о чем злом. Хорунжий отпустил его вперед на два-три шага, чтоб было удобней рубить. Выхватил саблю, экнув, ударил по голове. Тот упал даже не охнув. Потом, для верности, Будзило отрубил ему голову. Полой кафтана убитого тщательно отер саблю, сунул в ножны и пошел назад ко дворцу докладывать государю.
16. Первая стычкаЖенитьба престарелого царя на княгине Марье Петровне Буйносовой, совершенная в январе 1608 года, расстроила его брата Дмитрия Ивановича. На людях он вида не показывал, но дома жене Катерине Григорьевне плакался:
– Старый хрен, вздумал когда жениться. В 60 лет о вечном надо думать, а он как молодой жеребчик.
Князя Дмитрия беспокоило, что вдруг от этого брака явится наследник и тогда уж ему не видать короны как своих ушей. Но жена, как женщина опытная, успокаивала мужа:
– Да не боись, Митя. Какой он жеребчик ныне. Ни на че не способен. Поди, уж забыл, где у бабы титьки. Одно слово – мерин.
– Не говори, Катерина, напоследок может поднатужиться и створить како чудо-юдо.
– Разве что подсобит какой подьячий молодой, – посмеивалась княгиня, – а сам не потянет, помяни мое слово.
Однако «мерин» после свадьбы выглядел вполне счастливым, и это не нравилось князю Дмитрию Ивановичу: «Неужто он еще может?»
Неучастье Дмитрия в победе под Тулой тоже его беспокоило. Чернь любит победителей, и он понимал, что ему нужен хоть один удачный боевой поход.
По слухам, в Орле обосновался новый самозванец, которого поддерживают поляки. Под боком у него, в Карачеве, засел князь Куракин, по теплу пойдет на Орел, разобьет самозванца, и опять Дмитрий Иванович к победе никаким боком. А она нужна ему как воздух. Хоть одна. Пусть захудаленька, но победа. Царю понравилось желание младшего брата послужить отечеству на поле брани.
– Правильно, Митя, я рад, что ты понимаешь всю опасность, грозящую нашей державе. Ну мы и этого прикончим, пожалуй, даже быстрее, чем Болотникова. Ты же знаешь, Сигизмунд ныне прислал послов пана Витовского да князя Друцкого-Соколинского, так я им поставил жесткие условия – немедленно отозвать всех поляков из шайки самозванца. Они согласны, но требуют отпустить Мнишека с дочерью.
– А где они сейчас, Мнишеки?
– В Ярославле за караулом.
– Ну и отпускай.
– Конечно, отпущу. И Гонсевского с посольством тоже отпущу. А ты поедешь на Орел с князем Голицыным. Надеюсь на вас, Митя. Там в случае чего князь Куракин поможет, он в Карачеве.
Обговорив сроки выступления и состав полков, князь Дмитрий, уже собравшись уходить, полюбопытствовал:
– Ну как там твоя молодая, Марья Петровна?
– Слава Богу, здорова и, кажись, затяжелела.
– Да ты что? Уже? – удивился Дмитрий, стараясь скрыть свое неудовольствие такой новостью. – Так скоро?
– А что? Жалею, что долго тянул после смерти первой, пустопорожней оказалась княгиня Репнина, а я думал, что во мне причина. А оказалось, гож я, Митя, гож на отцовство. Можешь поздравить нас.
– Поздравляю, – промямлил Дмитрий, с трудом выдавив из себя улыбку.
Дома сообщил жене:
– Вот тебе и мерин Васька-то, покрыл ведь Марью. Зачали кого-сь.
– Сам ли? – усомнилась княгиня. – Репнина-то не рожала.
– Оттого и не рожала, что пустопорожней была. Васька радехонек.
– Ничего, Митя, еще неведомо, кого родит Манька, – успокаивала княгиня мужа. – Може, девку произведет. А кто ж девке царство отдаст?
И потом весь день нет-нет да, качая головой, говорила Катерина Григорьевна:
– Это ж надо, а? Сам с крючок, зато срам с сучок. Кто б мог подумать? Ай-яй-яй. Вот тебе и мерин.
Отправлялся в поход на Орел за победой Дмитрий Иванович, не в лучшем настроении пребывая. Беременность царицы саднила душу.
Теперь одна надежа: молить Бога, чтоб родила девку. И князь не стеснялся во время молитвы перед аминем просить у Всевышнего: «Дай Боже, брату моему распрекрасную девицу». Просил ласково, полагая, что ласковое слово скорее дойдет до Него.
В поход шел с князем Василием Голицыным. С великим трудом удерживался от соблазна сообщить и ему об этой новости. Знал, что и Голицыну она б испортила настроение, он ведь тоже на трон зарится, как и Мстиславский. Но блюл Дмитрий Иванович семейную тайну, о которой издревле считалось болтать грешно было. Скажи Голицыну, он – другому, оно и разнесется: царица беременна. Братец-царь еще и опалу наложит, скажет: «Я тебе как родному, а ты… Ступай с моих глаз».
В пути два князя сговаривались напасть на вора, засевшего в Орле, внезапно, как это у Скопина получалось. Ну и обязательно пленить злодея, заковать в колодки.
На одном из провалов поставили шатер и в нем, попивая медовуху, обговаривали въезд в столицу:
– Надо на телеге поставить виселицу-глаголь[55]55
Имеется в виду виселица, сделанная в форме буквы «г».
[Закрыть] и под ней вора окованного.
– Да, да. А за этой телегой цепочкой чтоб шли все его воеводы.
– Точно, Василий Васильевич, чтоб друг за дружку цепями. И так их провести через всю Москву и на Красной площади тяп-тяп всем башки долой.
Во хмелю славно мечтается, красиво рисуется. Сговорились верст за десять до Орла выслать наперед разведчиков, подойти на «цыпочках» и… Там уж рубить без пощады: «В капусту, в щепки!»
Однако случился конфуз. Вор напал на них за 70 верст до Орла под Волховом. Напал неожиданно. С таким свистом и воем, что князь Голицын первым показал «тыл». Ну а что оставалось делать Дмитрию Ивановичу?
В Москве, не стесняясь, объяснял царю:
– Во всем Голицын виноват, не вступая в бой, побежал. А что мне оставалось делать? Оголил мне правое крыло, мои ратники и струсили. И все врассыпную.
– А ты? – спросил ехидно царь.
– Что я?
– Ты тоже врассыпную?
– Но пойми, Василий Иванович, не мог же я один.
– Замолчи. Ты был не один, а с многотысячной ратью. Где она? Где Голицын, наконец?
– Откуда мне знать. Мы розно ворочались.
Князь Голицын хоть и побежал с поля ратного первым, но в Москву въехал едва ли не последним. Въезжал ночью, упросив стражу Серпуховских ворот открыть ему «хошь бы калитку». Приворотные сторожа тоже, чай, не звери, впустили князя с его слугами и за десять рублей обещали никому не говорить про это.
– Не боись, Василий Васильевич, – утешали князя. – Нас ведь тоже по головке не погладят, что ночью ворота отчиняли. Не скажем.
Однако едва не на пороге собственного дома напали на Голицына тати[56]56
Тать – вор, разбойник.
[Закрыть] московские и если б не слуги, раздели бы князя, а то и прибили б. Едва отмахались от татей.
На бранном поле сабля не понадобилась князю, а почти у дома довелось выхватить и порубить какого-то татя. Но все же шапку сбили-таки с него разбойнички, поживились, да одному из слуг Сеньке едва глаз не выбили.
Въехав на родное подворье без шапки, но с Сенькиным синяком князь приказал запереть ворота покрепче и на завтра никого не выпускать в город и не впускать во двор.
– И вообще, что я прибыл, не болтали бы. Кто болтнет, всыплю сотню плетей.
Словно улитка в своей раковине, спрятался князь, затаился, как мыслилось, от позора своего. И дворня затихла, уж не кричала, не бранилась во дворе, словно в доме покойник был. Но через три дня неведомо какими путями дошло до царских ушей: «Князь Василий Голицын давно дома».
Посланному от государя подьячему было сказано: «Хворает князь». Всякий знает – больному заходить к царю запрещено, дабы не заразить его. Но когда подьячий доложил:
– Ваше величество, хворает князь Василий Васильевич Голицын. – Царь ехидно пошутил:
– Уж не медвежья ли хворость у него? – намекая на понос, нападающий на медведя с перепугу.
Оттого бояре, сидевшие по лавкам, развеселились:
– Охти мне, государь, ну скажешь же.
Однако после поражения под Волховом становилось не до смеха.
Вор – как сразу нарекли нового самозванца – издал «царский указ», в котором повелевал холопам отбирать у господ своих землю, имущество и жениться на их дочерях. Указ очень понравился черни, всегда любившей дармовщину, и напугал помещиков, спешно кинувшихся вместе с семьями под крыло Москвы. Это вызвало в столице дороговизну и, естественно, недовольство царем Василием Шуйским. Народ уже напрямую связывал все беды с ним: «Несчастливый царь, сел неправдой на царство».
А Вор брал город за городом и двигался к Москве, все более и более усиливаясь.
Шуйский торопился с заключением договора с Польшей еще и из-за того, что надеялся, что король Сигизмунд сумеет отозвать всех поляков из армии Вора. Царь знал, что почти все воеводы самозванца поляки – Рожинский, Лисовский, Кернозицкий – и потому настаивал именно эту статью вписать в договор. Вызванные к государю думные дьяки Луговской и Телепнев докладывали о ходе переговоров с панами Витовским и Друцким-Соколинским:
– За Лисовского, государь, они категорически отказываются ручаться.
– Почему?
– Он за рокош объявлен врагом короля, лишен чести и изгнан из Польши.
– Черт с ним, с Лисовским. А как статья по Мнишекам?
– По Мнишекам они почти полностью согласны, что он не должен признавать зятем Лжедмитрия II, дочь за него не выдавать. Вот только не хотят вписывать, что Марина не должна далее называться русской царицей.
– Вот те раз. Почему же?
– Пан Витовский говорит, что они не смогут заставить ее отказаться от столь высокого титула.
– А вы бы им сказали, что тогда мы не сможем отпустить ее.
– Мы говорили, но они прямо заявили, что без статьи о Мнишеках договор теряет смысл. И они не станут его подписывать.
– Ну а ты что думаешь, Томила Юдич?
– Я думаю, государь, их можно уговорить на это условие следующим образом. Во-первых, одарить еще «сорочками» соболей, а во-вторых, взять на нас труд ее отречения от царского титула.
– Что касается «сорочек», это ясно, поляки за соболей душу готовы продать. А как мы сможем заставить эту девку отречься?
– А просто, государь. Тюрьму потеснее, еду поскуднее и поманить отпуском на родину. Мол, отречешься – поедешь домой, не отречешься – сгниешь в темнице. Сломается как миленькая. Еще если отца с братцем набзыкать.
– Ин добро, так и скажите Витовскому с Друцким, одарив сперва «сорочками», мол, статью вписываем, а об отречении ее сами позаботимся.
Вскоре договор был заслушан в Думе и одобрен, главное условие – Польша должна взять на себя обязательство: никогда не поддерживать в будущем самозванцев, а Россия – отпустить всех поляков ранее задержанных, в том числе Гонсевского с посольством и Мнишека с дочерью и сыном.
Не понравился Мстиславскому только срок действия договора.
– Почему только на три года? – спросил он. – Почему не на десять лет или навечно?
– Так установил король, – отвечал Луговской.
– Ну и мы ж должны сказать свой срок. Государь, почему же ты соглашаешься?
Шуйский поморщился, словно от зубной боли.
– Федор Иванович, главное тут не срок, а то, что он отзовет всех поляков от Вора.
– Вы считаете, они его послушают?
– Надеюсь. И впредь обязуется самозванцев не поддерживать. Вот что главное.
– А через три года сам пойдет на Смоленск, – заключил князь. – Надо настоять, чтоб хотя бы на пять лет договор.
Большинство Думы поддержало Мстиславского: удлинить срок действия договора. Но в конце заседания Скопин заметил:
– Нарушить договор король может в любой день, не оглядываясь на срок. С нашей помощью, к примеру, он отзовет полки от Вора и тут же поведет их на Смоленск. Это как?
– Ну, князь Михаил, что-то ты намудрил, – сказал царь.
– Я не намудрил, государь, а предположил на грядущее действия Сигизмунда. Раз он настаивает на столь коротком сроке, значит, что-то замышляет против нас. А что? И слепому ясно. Смоленск для них всегда был желанной добычей.
– Ну поживем – увидим, – сказал Шуйский, поднимаясь с трона. – А пока попробуем настоять на пятилетием сроке, как предложил князь Мстиславский.
Но как ни тужились Луговской с Телепневым, не смогли выбить с польских послов 5 лет, хотя потратили на умасливание их не одну «сорочку». Жаловались Шуйскому:
– Более одиннадцати месяцев не добавляют, государь.
– Одаривали их?
– А как же. Все как в прорву.
– Черт с ними. Пусть будет на три года одиннадцать месяцев. Нам ведь время сейчас дорого. Вор уже в Калуге, Лисовский Рязань взял. Не до торга.
17. ИзменаШуйский, сидя на троне, как-то еще держался царем, но оставаясь наедине, хватался за голову. Падал перед иконой и, обливаясь слезами, молил: «Господи, помоги! Господи, вразуми! Что делать?» Положение и впрямь было почти безвыходное, Вор шел уже к столице, города один за другим изменяли Шуйскому и присягали Вору.
Даже Псков, всегда державший сторону московского царя, отпал на сторону Вора. Новгород вот-вот отпадет. Но и этого мало, в Москве явилась шатость. Открываются заговоры против Шуйского. Не успеет царь казнить одних, являются другие. Ни на кого нельзя положиться. Разве на братьев? На Дмитрия с Иваном? Так и они какие-то шибко невезучие. Куда ни пошлешь, везде их колотят. Вон Митька умудрился под Волховом осрамиться, мало того что чуть в плен не попал, так полполка подарил Вору. Ну, видно, в победители за уши не вытянешь. Хоша и братья родные, а дураки. Остается одно – опять звать племянника, у него вроде получается.
С Скопиным-Шуйским, призванным во дворец, царь был ласков до приторности:
– Мишенька, сынок, токо на тебя у меня вся надежа. Вступи в свое стремя позлащенное, разгроми супостата, – впадал царственный дядя в стих. – Воевод много, а воевать некому. Митька вон от Волхова без порток припорол, Васька Голицын ужакой приполоз. Мало того что оружие Вору оставили, но и ратников подарили. Голова кругом идет, Миша, не знаю что и делать.
– Приказывай, Василий Иванович, исполню, как велишь, – сказал Скопин, с сочувствием слушая жалобы дяди.
– Вот бери войско и ступай Вору навстречу, он от Калуги на Москву идет. И от Коломны его воевода Лисовский Наседает, ну его там пока рязанцы с Ляпуновым удерживают. Нам важно разгромить Вора. Ах, если б его пленить удалось.
– Какие полки отдаешь мне, государь?
– Полк Романова да полки князей Трубецкого, Троекурова и Катырева. Я думаю, тебе достанет сил, Миша.
– Там посмотрим, государь. Рать покажет.
Войско уходило под командованием Скопина через Серпуховские ворота, он ехал впереди с Романовым. Но несколько отъехав, сказал спутнику:
– Иван Никитич, вышли вперед дозоры, чтоб не напороться нам на засаду, и веди, а я ворочусь, прослежу у ворот, как выступают полки.
– Хорошо, Михаил Васильевич.
Князь Скопин встал на возвышенности недалеко от ворот и, не слезая с коня, наблюдал прохождение войска. Когда увидел выехавшего впереди полка князя Троекурова, махнул ему, приглашая к себе. Тот подъехал.
– Иван Федорович, мне нужны хорошие лазутчики. Как остановимся на ночевку, подошли их мне, желательно охотников.
– Хорошо, Михаил Васильевич, пришлю.
Такой же приказ Скопин отдал и Трубецкому с Катыревым: прислать к нему лазутчиков. После этого поскакал догонять головной полк. Догнал уже под Пахрой. Спросил Романова:
– Дозорных отправили, Иван Никитич?
– Да, Михаил Васильевич, приказал им оторваться не менее чем в две версты.
– Надо будет и глубже пощупать путь. И в стороны разослать, чтобы Вор не оступил нас. Я хочу знать все, что вокруг за двадцать верст творится.
Вечером когда войско остановилось на ночлег, по приказу Скопина были выставлены секретные сторожа. А к его шатру явились от всех полков назначенные в лазутчики, в основном бывшие охотники. Скопин сверил, кто от какого полка прибыл, велел всем рассесться у шатра на земле и сам сел, подвернув под себя ноги по-татарски калачиком.
За спиной князя горел костер, и в большом котлё варилась гречневая каша.
– Я что собрал вас, мужи, все вы, как я понимаю, из ловчих и охотников и в жизни своей немало выследили дичи и зверя. Верно?
– Эдак, эдак, – закивали бородачи.
– Так вот ныне к нам пожаловал другой зверь, двуногий, а именно вор-самозванец и идет он сейчас на Москву с немалым войском. Я имею приказ государя не допустить его. Поэтому мне нужно сейчас знать, где Вор, далеко ли, какой дорогой идет? Кто ж, кроме вас, поможет мне увидеть его. Вы знаете лес как свои пять пальцев, все тропы и дороги. Поэтому сейчас, получив сухой пищевой запас, по три фунта сухарей и по два фунта вяленой рыбы, чтоб не отвлекаться на добычу еды, вы по три-четыре человека отправитесь вперед. Пойдете и на Калугу, и в стороны. Идите и идите, пока не наскочите на ватагу воров. Следите за их передвижением, но главное – немедленно шлите ко мне одного человека с сообщением, что воры обнаружены, куда направляются, приблизительно сколько их. Я чувствую, они где-то уже недалеко. Но где? Ваша задача узнать это. Вы поняли, мужи?
– Чего ж тут неясного, князь. Выследим, не боись.
– Может, со мной трапезу разделите? Горячего-то не скоро увидите.
Охотники переглядывались, мялись. Потом один сказал:
– Ежели, князь, не гнушается нами, отчего же не поесть перед уходом.
– Чего тут гнушаться, – улыбнулся Скопин. – Я тоже с утра не емши, а мой повар эвон целый котел гречки наварил. Разве мне одному одолеть? Эй, Федор, – позвал князь. – Давай раскладывай по чашкам.
Перед Скопиным сидели на земле пятнадцать охотников, каждому была принесена чашка гречневой каши. Себе князь Взял последнюю.
– Ну поехали, – сказал он, зачерпывая деревянной ложкой дымящуюся кашу.
Крестясь, охотники скидывали шапки, приступали к трапезе.
После ужина князь приказал Кравкову выдать с воза каждому лазутчику сухари и вяленую рыбу, благословил:
– С Богом, ребята, желаю удачи. Жду ваших сообщений.
Направления охотники сами поделили, кому в какую сторону идти и с кем, почти одновременно растворились в темноте.
Скопин прошел в свой шатер, растянулся на походном ложе не раздеваясь и не разуваясь, только отстегнул меч, положил рядом.
Кравков предложил:
– Михаил Васильевич, дай я стяну сапоги с тебя, пусть ноги отдохнут.
– Не надо, Фома. Они и так не устали. Спи. – Самому князю никак не засыпалось. Все думалось: где сейчас его лазутчики? Может, не стоило их отправлять на ночь глядя? Дождаться утра? Но утром при свете их уход увидело бы слишком много людей. А где гарантия, что в войске нет воровского шпиона? Конечно, все предусмотреть невозможно, но оберегу иметь надо.
Утром, едва встало солнце, войско двинулось дальше, опять разослав дозоры. Скопин снова ехал впереди с Романовым, с нетерпением ожидая вестей от своих лазутчиков. Но их все не было. Не появился никто и на дневном привале. Только когда расположились на второй ночлег, явился наконец долгожданный, доложил:
– Он пошел на Боровск.
– Вот те на, – сказал Романов. – Мы его ждем спереду, а он уже сбоку, если не сзади.
– Это же прекрасно, Иван Никитич, мы завтра поворачиваем на заход и выходим ему в тыл. Фома, скачи, сзывай ко мне князей-воевод.
Кравков уехал, Скопин спросил лазутчика:
– Устал?
– Да нет вроде. Вот пить охота.
– Федор, напои человека.
Когда охотник напился, князь спросил его:
– Как думаешь, куда Вор направляется?
– Пока на Боровск, а там, наверно, на Звенигород повернет.
– Почему ты так решил?
– Так мы же к ним прилепились, разговор слышали, что вроде от Звенигорода повернут на Москву.
– И вас ни че… не тронули?
– А чего нас трогать? Там таких, как мы, полвойска.
– А товарищи твои?
– Они идут далее с Вором. Вы же сами, Михаил Васильевич, велели узнать поболе, вот и узнают.
– Ну что ж, – усмехнулся Скопин, – молодцы, что «прилепились». Я-то думал, вы будете где-то рядом, а вы прямо с ними. Молодцы!
Все три князя, Трубецкой, Троекуров и Катырев, приехали вместе, с ними был и посыльный Кравков. Сообщив воеводам новость, Скопин сказал:
– Завтра выступаем вслед Вору. Ударим сзади, откуда он не ждет.
– Тогда, пожалуй, удобнее будет мне идти вперед, – сказал Катырев.
– Да, да, Иван Михайлович, вы правы. Ваш полк окажется впереди, затем полк Трубецкого и Троекурова, а Иван Никитич уже замкнет. Надо с утра предупредить дозоры, что мы поворачиваем на заход.
– А вы, Михаил Васильевич, где будете? – спросил Трубецкой.
– Я пойду с полком Катырева.
– Ну и славно.
Когда воеводы уехали, Кравков подошел к Скопину и сказал негромко:
– Михаил Васильевич, берегитесь.
– Чего ты, Фома? Кого беречься?
– Их, кого я только что привел. Вы обратили внимание, что они все вместе явились?
– Ну и что?
– Как ну и что? Ни Трубецкого, ни Троекурова я не застал в их полках. Они все были у князя Катырева. У шатра Катырева я слышал, как кто-то из них сказал: «А Скопина повяжем и представим ему».
– Ты не ослышался, Фома?
– Да что вы, Михаил Васильевич, я от них в двух шагах был, за шатровой стенкой. Думаете, Трубецкой зря вас спрашивал: где вы будете? Вы ответили: «У Катырева». А он что сказал? Помните? Он сказал: «Ну и славно». Еще бы не славно, главнокомандующий сам в петлю лезет.
– Значит, измена, – хмурясь, сказал Скопин и повторил со вздохом: – Измена-а. И в такой момент, когда удача сама в руки пошла. Скачи, Фома, за Романовым, вороти его, ничего не говоря пока.
Пересказав Романову все, Скопин спросил:
– Ну что делать, Иван Никитич? Вы человек опытный. Подскажите.
– Брать за караул всех, вместе со слугами.
– Почему со слугами?
– А как вы думаете, они не знают, что их господа задумали? Наверняка через своих сотников они и полки настраивают на измену.
– Когда полагаете?
– Немедленно. Они могут ночью уже захватить вас. Берите две-три сотни самых преданных вам и приступайте, Михаил Васильевич.
Скопин долго молчал, потом покачал головой:
– Нет, Иван Никитич, ночью затеваться с этим я не стану. Брать воевод в их полках опасно, может начаться бунт. Только нам не хватало затеять войну друг с другом. Утром вызову их в свой шатер, якобы для совета, и здесь возьму тихо и без шума. А потом сам проеду по их полкам, узнаю настроение ратников.
Утром поскакал Кравков звать на большой совет всех воевод с их помощниками и секретарями.
«Великий государь Василий Иванович, в войске моем учинилась измена. Князья Трубецкой, Троекуров и Катырев умыслили уйти к Вору, захватив главнокомандующего в виде подарка ему. Отправляю их к тебе для розыску вместе с их сообщниками. Полки вышеназванных воевод весьма ненадежны. Вор, по сведениям лазутчиков, идет на Звенигород. Полагаю ударить хотят с двух сторон: Вор – от Звенигорода, Лисовский – от Коломны. Жду вашего указу, на кого мне идти, кого промышлять. Князь Скопин-Шуйский».
Шуйский зачитал это письмо в Думе, не решаясь самолично учинить указ Скопину-Шуйскому. Мстиславский сразу сказал:
– Отзывать его надо, половина войска к измене готовилась, о каком промысле может речь идти.
Его поддержал и царев брат Дмитрий Иванович:
– Конечно, отзывать, пока самого не промыслили. Москву со дня на день в осаду возьмут, ратники здесь вельми понадобятся. – Так и постановили ответить Скопину: «…никакого Промыслу не чинить, а поспешать назад в столицу и готовиться к защите ее».
Над взятыми за караул князьями Троекуровым, Трубецким и Катыревым и их сообщниками постановили учинить розыск, применяя все пытки и по вине их произвести наказание. Главным по розыску вызвался быть Дмитрий Иванович Шуйский, и все согласились. Хоть здесь надеялся князь Дмитрий преуспеть, коли рать не давалась.
Царь, наставляя брата на трудное дело, говорил:
– Ты, Митя, на князей особенно не налегай, у них тут родни гурт, зачем их против нас настраивать. А выколачивай с их помощников, секретарей и сотников. С этих можешь шкуру сымать.
И теперь каждый день сразу после заутрени отправлялся Дмитрий Иванович к Константино-Еленинской башне в «пытошную», где полным хозяином был Басалай с помощником Спирькой Моховым. Басалай с полунамека понял: князя кого щадить надо, а кого стегать до костей позволяется.
Палач знал, что с князьями, даже опальными, лучше дружить. Ныне он внизу, а завтра вверх вознесется. Эвон тот же Шуйский, давно ли у Басалая на плахе лежал, а ныне рукой не достать – царь.
И началось. Одного за другим вздымали воеводских помощников и секретарей на дыбу, секли кнутом беспощадно. Кричали, вопили истязуемые, признавались во всем, о чем приказывал князь Шуйский. Подьячий, писавший признания, едва поспевал строчить пером. Некоторые, напуганные дыбой и воплями предыдущих, сразу сознавались, но это не избавляло от пыток. И хотя розыск был спешным, царь поторапливал брата:
– Митя, времени нет, быстрей заканчивай.
Управился князь Шуйский в три дни, а уж на четвертый явился с ворохом опросных листов в Думу. Князь Мстиславский, увидев это, высказал опасение:
– Уж не читать ли нам хочешь все это?
– Как прикажете, Федор Иванович.
– Скажи сентенцию покороче и довольно.
– Ну что ж, – согласился князь Дмитрий, с сожалением откладывая ворох допросных листов, которыми так хотел оглоушить Думу, чтоб смогли оценить труды его. – Сентенцию так сентенцию. В общем все признались, что три полка хотели перейти к Вору, захватив с собой главнокомандующего.
– А князья?
– Князья тоже не отказались, подтвердили.
– Ну что? – окинул царь взором великомудрых бояр. – Как решим? Думайте.
– А что думать, – сказал глава Думы. – Под топор всех.
Утвердительно закивали шапки горлатные: под топор. Однако царь, не раз испытавший на своей шее прикосновение железа и чудом всякий раз ускользавший из-под него, думал не в одно с Думой.