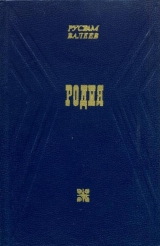
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
А я, представьте, через год пошел в веттехникум. Мама советовала подождать еще год, получить аттестат зрелости и сдавать в институт, тоже ветеринарный, но я не послушался ее. Мне очень важно было – не послушаться ее.
Тем летом я сделал, пожалуй, первый самостоятельный шаг. Тем летом, тоже впервые, познал я чувство потери.
Смерть бабушки напугала меня – и только. Когда погиб отец, я был слишком мал. Теперь же, со смертью Амины, я плакал с такой болью, как будто из меня уходила жизнь.
Когда силы мои иссякли, а воля ослабла, ко мне вошла мама и сказала:
– Возьми себя в руки. Ведь ты не маленький.
– Я маленький, – сказал я. – Это ты не даешь мне вырасти, это ты оставляешь меня маленьким. И всех нас, да, да, всех нас!..
– Какую чушь ты несешь. Ведь и ты знал, и все знали, что это рано или поздно случится. Что поделаешь, судьба.
– Нет никакой судьбы, нет никакого бога! – крикнул я. – Я никогда не верил, и дядя Риза не верил, а ты верила… потому что ты гадкая, тебе нравится всех хоронить…
Она шагнула ко мне и хладнокровно влепила мне звонкую пощечину.
Странно, я успокоился – возможно, именно на это рассчитывала моя мама.
– Если ты будешь так плакать на похоронах, – сказала она, – это может повредить Марве. Имей в виду, она беременна.
– Может быть, и сама она не будет плакать?
– Этого я знать не могу. Я только знаю, что к ударам судьбы надо относиться мужественно.
– Как, например, Динка.
– При чем тут Дина? – Она искренно удивилась и смотрела мне прямо в глаза. – Ну при чем тут Дина?
– Она мужественно переносит свое горе. Ведь Марсель никогда на ней не женится.
Мама надавила на мои плечи и посадила меня на диван. Потом она села сама.
– Ты полагаешь, она все еще не забыла его?
– Нет.
Она вздохнула и произнесла фразу, которую часто повторяла:
– Наш дом всегда был открыт для него.
– Наш дом всегда был закрыт для него, – сказал я. – Марсель всегда был для вас человеком похуже, чем все вы. Поэтому вы решили его поскоблить, почистить и только потом впустить к себе. А он плевал!.. И хорошо сделал, что ушел. Я тоже уйду.
– Уходи, – сказала она, – уходи. Я, между прочим, никогда не надеялась удержать тебя. Я уже говорила тебе об этом. Ты уходи, а мы останемся.
Когда мы с нею, примиренные, почти забывшие недавнюю стычку, держась за руки, шли на похороны, меня вдруг поразила одна мысль. А ведь я в последнее время редко виделся с Аминой, хотя и любил ее и, кажется, ни на минуту не забывал об ее существовании. Но связывал я с нею не настоящую минуту, не день, не утро и вечер, не нынешние житейские заботы, а только будущее. Какое будущее? Что в нем я видел? Пыльный жаркий вокзал и нас вдвоем на этом вокзале, мы куда-то уезжаем, затем – нашу жизнь в Москве или Казани, жизнь какую-то воздушную, серебряную, как туман над водами, лишенную твердых реальных примет… Я был уже в том возрасте, когда меняется не только настоящая твоя жизнь, но и представления о будущем. Но кто знал, что так все переменится!..
– А мы не опаздываем? – спросил я маму.
– Нет, – сказала она и поправила мой галстук.
Я впервые в жизни надел галстук, точнее, надела его на меня мама, мимоходом сказав: «Это папин галстук», – и так легко сломив мое сопротивление. Но зачем нужен был галстук, этот черный шелковый галстук, в такой день, я не понимал. Затем она извлекла из нижнего ящика комода мои новые штиблеты, купленные два года назад и оказавшиеся великоватыми. «В самую пору, – обрадовалась мама, – ты растешь не по дням, а по часам».
– Там будут Ишкаевы, – говорила мама, не выпуская моей руки, – будут Цехановские… надеюсь, ты догадаешься поздороваться, прежде чем я толкну тебя в бок.
– Мне сморкаться не во что.
– Как, я не дала тебе платок?
– Он шелковый. Как в него сморкаться?
– Ведь нарочно, нарочно ты меня дразнишь! – Она крепко дернула мою руку и вдруг всхлипнула.
Еще издали я увидел, как из подъезда выносят носилки с зеленым трепещущим балдахином.
– Мы опоздали, – сказал я и вырвал свою руку из цепкой ее ладони.
– Но ведь только еще выносят!..
Опоздал, опоздал и не увижу ее затихшего лица! Я шел в стороне от мамы и злорадно поглядывал на нее: ведь она хотела предстать перед Ишкаевыми и Цехановскими с пай-мальчиком, у которого из нагрудного кармашка френчика торчит надушенный шелковый платок.
Мужчины несли балдахин вслед за медленно идущим грузовиком, с которого бахромою вниз свисал край обширного ковра.
– Я дала им наш ковер, – шепнула мне мама. Она опять оказалась рядом со мной. – А вон тетя Марва, подойдем к ней.
Она тоже увидела нас и высовывала лицо из-за прыгающего перед нею дяди Хариса. Видать, он уговаривал ее не ходить на кладбище…
В следующую минуту я увидел мою маму уже с малышом на руках.
– Погляди, какой бутуз, – сказала она. – Хочешь подержать?
– Нет.
– Упрямица Марва все-таки отправилась на кладбище, хотя, ты знаешь, у нас женщинам нельзя быть на погребении.
– У кого это у нас?
– Какой несносный! Можно подумать, что ты неизвестно чей. Ну, сядем. Пока Марва вернется, понянчим малыша.
Я ничего не ответил и побежал догонять тетю Марву. Она ласково открыла мне свою ладонь, улыбнулась.
Носилки между тем донесли до конца квартала и стали водружать на открытую машину. Я почувствовал какую-то пронзительную законченность в этом действии; облегчение людей, несших носилки, задело меня чуждым знобящим ветерком. Вот машина тронулась, затрепыхалась бахрома свисающего с кузова ковра, и мягко, упокойно заструился зеленый шелк балдахина. Дикарики шли сбоку нас, держались за руки и плакали. «Они тоже ее любят, – подумал я, – теперь ее все любят и жалеют, когда ей все равно. А я и тетя Марва любили ее всегда». Я запрокинул голову, чтобы никого не видеть, – пустое, дотла сгоревшее небо колыхнуло меня и прижало к тете Марве.
Когда мы вернулись, с малышом играли дикарики. Видать, не ходили они на кладбище. Моя мама, сказали, ушла домой готовить обед. Значит, тетя Марва с ее малышом, дикарики, и дядя Харис, и все, кто помогал хоронить Амину, придут к нам обедать. В этом было что-то ужасное – в том, что все придут и все будут насыщаться, потому что проголодались, неся Амину на носилках, закапывая, забрасывая ее могилу землей…
Чтобы избежать встречи с матерью, я проник в свою комнату через окно. Было слышно, как она хлопочет на кухне, и я молил бога, чтобы не вошла сюда. И вынул из альбома фотографии, которые мама привезла из Оренбурга, и вложил их в добродушный, пухлый том «Трех мушкетеров», а книгу спрятал в рюкзак. Что же еще положить мне в рюкзак? Что еще есть моего в этом доме? Ничего больше – и я успокоился. Собственно, я никуда не собирался сию же минуту, я просто решил: больше я в школу не пойду, а поступлю в ветеринарный техникум. Мама будет против, но именно поэтому я и поступлю. Я поднял рюкзак и отправился на сеновал. Пусть они тут едят, пусть делают что хотят.
Пыльный, терпкий жар сена стал застревать у меня в горле – я заплакал…
Наверно, я взрослел, потому что время вдруг побежало быстрее. Быстрее – и все же три года были ровны и монотонны. Когда я спускался по ним, как по ступенькам, в то горестное и знаменательное для меня лето, чувство унылого движения обижало и коробило мою душу.
В то лето я сдавал экзамены в техникум. Мама страдала, я знал, но ее потаенная тоска изливалась в похвалах ветеринарному институту. Она вдохновенно называла имена достопочтенных профессоров – Задарновский, Веселовский, Серебрянников, – серебряный романтический звон прорезался в звуках чужих имен. А когда мама говорила: «Профессор Задарновский изучал северного оленя и посвятил ему докторскую диссертацию», – то, ей-богу, казалось, что именно северный олень знаменует собой начало всего романтического и необычайного. Но в институт я мог сдавать не раньше, чем через два года, а я не хотел ждать. Собственную самостоятельность я предпочел профессору Задарновскому.
Динка пошла в десятый класс и стала дружить со своим соучеником. Но он никогда не появлялся возле нашего дома – сестра точно оберегала его от общения с нашей мамой. Бывало, она возвращалась домой запоздно, раздеваясь, слушала сдавленные вздохи матери, и зловредная усмешка проносилась по ее лицу. Над их отношениями витал дух Марселя, но ни мать, ни сестра не поминали его. А он не давал о себе знать. Конечно, он был слишком задет той злосчастной историей, но так ли уж виновата была Динка? И разумно ли было бы ей устремиться за ним в его степное кочевье?
В нижнем этаже дома с тех пор, как из него выехала семья тети Марвы, никто не жил. Однако комнаты были мыты и белены, там исправно топилась печка. Сияли комнаты обнаженно и тоскливо. Мама берегла их для кого-то из нас, кто первым заживет своей семьей. Ее, пожалуй, смущало одно обстоятельство: ведь после смерти дедушки пришлось бы делиться с дядей Заки, тоже законным наследником дома. Их отношения мало улучшились. Дядя Заки все еще обижался за тот случай с Марселем, а мама считала, что только он испортил ей все дело. Но между тем она последовательно вела линию примирения и сближения. В сущности у нее оставался нерешенным только вопрос мира и добросердечия между нами и семьей дяди Заки, в остальном она преуспела: дети отнюдь не бунтовали, учились, не ссорились друг с другом и, главное, были при ней. Судьба, однако, готовила моей матери новое испытание: на этот раз возмутителем покоя выступал проказливый Галей.
Учеба в техникуме сверх моего ожидания очень нравилась мне, в особенности начиная с третьего курса. По крайней мере треть учебного года и все лето мы проводили в учхозе на практике посреди необозримой степи, живописной весною, пышущей зноем летом, с отрадными днями в сентябре, когда степь опять покрывалась травами и цветами и скот сытел и лоснился. А там начинались студеные дожди вплоть до зимы с ее невыразимо яркой белизной и дикой кутерьмой метелей.
Мы занимались самой разнообразной работой: делали прививки овцам, лечили чабанских псов, косили сено, возили на заимки, где жили чабаны со стадами, комбикорма и щиты для загородок. Все мне нравилось, даже заполнять племенные свидетельства: овца такая-то, оброслость брюха хорошая, длина шерсти 7—8 сантиметров, отнесена к классу элита и прочее, прочее. Во время окота нас посылали сакманщиками к чабанам. Пожалуй, там впервые познал я труд и удовлетворение от него. Март в наших местах состязается в лютости с февралем, в кошарах было студено и волгло, и для ягнят светом божьим спервоначалу был знобящий и сырой полумрак. Малыши рождались почти голенькие; старая овца и оближет, и обогреет детеныша, молодые же овечки бывали беспечны и бездушны. С Жумагулом, старым казахом, заворачивали мы ягнят в наши халаты и телогрейки, разрывали подстилку, покрытую сверху изморозью, а внизу мягкую и теплую, и клали, как в гнездышко, явленное на свет существо.
После работы я чувствовал себя усталым, полным невысказанных мыслей, неразделенных чувств. Я вытаскивал из-под лавки чемодан, вынимал из него костюм, утюжил. Жумагул оглядывал меня, обряженного, одергивал на мне пиджак и лукаво спрашивал:
– К Ираиде собрался?
– К Ираиде, – отвечал я и поспешно направлялся к двери.
Ираида была библиотекарша. Я сиживал у нее вечерами, а потом провожал на край села, где она квартировала у местного веттехника. Иногда мы шли к нам. Жумагул обыкновенно пропадал в кошарах. Мы с Ираидой садились к жаркому, любезно сияющему самовару. Но прежде мне надо было покормить своих питомцев: собаку Жумагула и пару ягнят. Белолобый родился в самую стужу – когда мы с Жумагулом прибежали в кошару, он был едва теплый. Мы тут же забрали его домой, и с тех пор он спал со мной на печи. А Четырехглазого не приняла мать, молодая вздорная овечка. Едва я наливал в бутылку молока, Четырехглазый запрыгивал ко мне на колени и начинал сосать с невыразимо трогательным чмоканьем. Ираида пристраивалась на корточках против нас: и умиленно бормотала несусветные нежности, а то брала ягненка и кормила сама.
– Какая прелесть! – говорила Ираида. В первую нашу встречу, когда я спросил, нет ли стихов Ахматовой, она тоже воскликнула: «Какая прелесть!» – и тут же извлекла из ящичка стола обернутый в плотную бумагу томик.
Я был любопытен ей – я ощущал это с потаенным и сладким стыдом. Она допытывалась о моей судьбе, но проделывала это с какою-то суховатой, отстраненной дотошностью. Как я оказался здесь, мечтал ли учиться в веттехникуме или попал случайно?
– Не случайно, – отвечал я.
– Ну да, – соглашалась она, – это твоя стихия. Какая прелесть!
Мне это не нравилось – «твоя стихия»: фраза явно отделяла меня от Ираиды, и «стихия» звучало как нечто годное только для меня. Но сама Ираида мне нравилась, коренастая, с круглыми тугими ножками, полноватая в талии, но с тонким, неожиданно нервным лицом, в очках с толстыми стеклами. Теперь я знаю, почему она мне нравилась. Она была из другого мира, мир этот волновал меня и дружелюбно сиял сквозь толстые стекла Ираидиных очков.
Она причисляла чабанов, пахарей, доярок, да и меня тоже, к каким-то героям и восхищалась ими по каждому пустяку. Себя Ираида относила к иной категории, не обязательно лучшей, даже наверняка не лучшей, но к иной. Она покорила меня рассказами о своей семье.
– У нас ужасное семейство, – говорила она. – Папа инженер, мама инженер, для них дизель важнее всего в жизни. Старший брат – чистейшей воды математик, днюет и ночует на заводе и захвачен математическим моделированием. Младший – радиотехник. В нашей квартире пахнет, как в совхозной мастерской. Братья по месяцу не снимают с себя спецовок, но когда они надевают выходные костюмы, то похожи на глупых цветных индюков. Эстетического вкуса ни на грош. Меня в родном доме считают несовременной, потому что я читаю, например, Лажечникова.
Когда я в свою очередь рассказал ей о моей матери, об ее замашках, цепкости х о з я й к и, Ираида тут же заключила:
– Твоя мама и мои родители – две капли воды. Не спорь! Призвание иной раз приводит к утилизации интересов и помыслов.
Я немного растерялся:
– А разве может быть призванием то, что у моей матери?
– Без сомнения! О, я бы очень хотела познакомиться с твоей матерью! Она печет блины?
– Блины?
– Блины или оладьи. – Она засмеялась. – Я бы съела во-от такую тарелку блинов.
Я обещал свозить ее к нам, но вовсе не спешил исполнить свое обещание. Да и сам отнюдь не рвался в город. Домашние заботы пугали, угнетали меня. Я чувствовал свое бессилие перед ними и подолгу оставался в учхозе. Издали я пытался холодно осмыслить семейные казусы, но только обжигал себе душу. Вот и теперь с жалостью думал я о матери, познавшей очередное горе.
Галей в свои семнадцать лет был для нее еще мальчиком. Каково же было ошеломление матери, когда однажды к ней вбежала конопатая девчушка и упала перед ней на колени.
– Я приму решение, – сказала мать, когда прошла минута невыразимого смятения. – Я приму решение, – повторила она, мягко выпроваживая девчушку за дверь и вряд ли толково соображая. Ведь если бы соображала, она тут же призвала Галея, хотя бы для того, чтобы хоть что-то понять в отношениях ее сына с конопатой девчушкой. «Мне было стыдно говорить с ним об этом, – признавалась она позже, – я просто не знала, как мне с ним говорить». Она побежала к тете Марве, думаю, не за советом, а чтобы только не оставаться наедине со своим смятением. Тетя Марва успокоила ее как могла и посоветовала подождать, пока сам виновник не скажет матери, насколько серьезно оценивает он положение.
Но нет, мама не могла ждать. Она не брала в толк, что ей делать, но и ждать не соглашалась ни минуты. От тети Марвы она побежала к дяде Заки. Тот ужасно перепугал ее, но именно его слова будто бы указали ей путь к действию. Он заявил: «Чем ходить тебе с передачей к воротам тюрьмы, уж лучше женить мальчонку». Маме стало дурно, но, едва очнувшись, она уже знала, что делать. Надо спасать сына от сурового наказания!.. Опасность придала ей энергии, и буквально в тот же вечер она велела девчушке перенести ее вещи в наш дом. Немного успокоившись и вглядевшись в девчушку, мама вспомнила, что видала ее в соседнем дворе; она была сирота и после ремесленного только-только начинала работать на электромеханическом заводе.
Галею в первые минуты почудилось что-то интересное в новом положении: его приятели хоронились с подружками по укромным уголкам, а он, представьте, женат, точно по мановению волшебной палочки. Однако наивное самодовольство сменилось отчаянием, он ушел из дома.
– Он напьется, – решила мама и тут же поставила самовар и стала ждать возвращения Галея. Как только он появится, она сразу зажмет его между колен и вымоет ему голову горячей водой, так, чтобы хмель тотчас же вышел. В создавшейся ситуации она могла бороться с последствиями, но никак не с причиной. Что ж, пусть так. По крайней мере она не бездействовала.
Однако брат мой явился совершенно трезвый, неся в просторной ивовой корзине голубей. Мама рассказала мне, что облегченно рассмеялась и пошла смотреть голубей. Она называла их премилыми птичками, красавицами, но будь это вчера, дело кончилось бы слезами, истерикой и наконец выдворением птиц со двора. В голубях мама видела главное зло для мальчишеского племени. Галей между тем упоенно строил голубятню, позабыв, что дома, притулившись в углу над вышивкой, сидит его девочка-жена. Он не плакал, ибо в его руках была игрушка.
Смешно и трогательно было слышать это в пересказе матери. Но когда я сам увидел Галея, мне стало не по себе. Он сидел возле голубятни, перед ним ходили, страстно гулили голуби, но глаза его были тоскливы. Я сел рядом, и он смущенно и обрадованно заговорил о птицах. Это была наша давняя мечта – держать голубей, и несколько минут мы упивались запоздалой победой и нежной властью над собственными голубями.
– Наша-то матушка, – сказал он, – видал, какой фокус выкинула? – Точно сам он не имел никакого отношения к происшествию.
Я только печально посвистел губами, которые сводило от жалости к моему брату.
– Ее не исправишь, – сказал он без холода и враждебности.
Нет ничего печальнее, чем покоренная мальчишеская гордость. Однако чувство попранного достоинства вылилось у него в неистовое и безобразное гонение постылой жены. Взбешенный, с белыми гневными глазами, он схватил девчушку за косички и потащил к двери. Мама подлетела и хлестнула его по рукам. Галей опешил, выпустил девчушку, но стал налетать на маму. Она не только не отступила, но вдруг охватила его поперек тулова и приподняла. И расхохоталась:
– Вот не ожидала от себя такой прыти!
– Ты что, мама, из ума выжила? – сказал он смущенно. – Во мне, как-никак, четыре пуда.
Девчушка тоже засмеялась.
– Смешно ей! – презрительно сказал Галей, но и у него глаза были веселые. Он дурашливо махнул рукой и вышел из комнаты.
Мама схватила меня за руку и увела к себе. Мы сели рядышком. Ей хотелось отпраздновать свою победу со мной. Я хмуро сказал:
– Ты думаешь, он больше не повторит?
Она вздохнула:
– А ты, видать, думаешь, что в других семьях всегда мир и покой. Ой, нет! В каждой свои заботы и свое горе, но кто-то должен нести самую тяжелую ношу. И требовать для себя меньше, чем остальные. Сынок, – она потрепала меня по щеке, – все перемелется! Главное, мы дом свой не потеряли. Вон умер чемоданщик Фасхи, все прахом пошло, дом продали, деньги по ветру пустили, теперь мыкаются кто где. Дедушка правду говорит: держитесь своего гнезда!
– Все это старо, – сказал я, – сейчас не так живут – другие времена.
– Во все времена люди строили и берегли свое гнездо. Кто ты без родного гнезда? Так, перекати-поле. И совесть, и честь, и гордость – все дает родное гнездо. О, как ты не любишь меня! – внезапно воскликнула она и замерла с надеждой: вот сию минуту я брошусь к ней на шею и буду целовать, плакать и бормотать, что люблю.
Но я не двинулся с места и не проронил ни одного слова. Мне бы и самому полегчало, если бы я мог ее утешить. Но я не мог: от жалости к моему брату я почти ненавидел ее.
– Другая мать, – заговорила она дрожащим голосом, – другая мать променяла бы вас на мужа. Но я жила для вас. Вспомни Марву… Дочку не уберегла, мать раньше времени сошла в могилу, от нее самой осталась одна тень…
Можно было подумать, что семья тети Марвы просто вымирает. А ведь у нее родилось двое малышей, сейчас они весело вырастали и, конечно же, радовали мать. В конце концов у нее были дикарики и муж.
Пожалуй, никогда прежде я не чувствовал так, как сейчас, шаткость ее доводов, а никогда прежде она не казалась мне такой чужой, сумасбродная хранительница ветшающего человеческого жилища.
Через несколько дней я был изумлен, увидев сидящих на лавочке Ираиду и мою маму. Я принял это как посягательство на моего друга и в первую минуту даже подумал: уж не сама ли мама съездила и привезла в гости Ираиду?
Мама проницательно угадала мое настроение и поднялась мне навстречу, прежде чем я приблизился к ним.
– У нас гостья, – сказала она, широко улыбаясь, и тут же шепнула скороговоркой: – Все очень хорошо. Я вела себя примерно.
Ираида щурилась на меня сквозь толстые стекла очков. Пожалуй, и она побаивалась меня и в то же время была не прочь подчеркнуть свою самостоятельность в этой ситуации.
– Иди пей чай, – сказала Ираида, как будто была моя жена. – Лепешки превкусные.
Делать нечего, я отправился пить чай.
Познакомить Ираиду с мамой – это казалось мне сложнейшей задачей. Но теперь, прихлебывая чай и поедая аппетитные мамины лепешки, я усмехался своей излишней осмотрительности. Не такая уж темнота моя матушка, чтобы не суметь с достоинством встретить гостя и поговорить с ним. Их мирное, удовлетворенное сидение на лавочке лучше всего сказало, как все просто и естественно сделалось.
Я продолжал чаевничать, когда вошла мама.
– Ира поливает помидоры, – сказала она веселым голосом. – Ей понравилось качать воду из колодца. Ей вообще у нас нравится.
– А тебе нравится болтать с ней, – сказал я и поглядел на нее пристально. Все-таки мне хотелось знать, не слишком ли болтливо держала она себя с Ираидой. И попал, что называется, в точку. Она слегка потупилась.
– Да, я рассказала ей историю с Галеем. Но ведь и ты, наверно, не скрыл от Иры?
– Так стоило ли лишний раз перемалывать одно и то же, – усмехнулся я.
Она пропустила мимо ушей мою колкость.
– Как разумно она рассуждает. А я всегда была труслива. Страшного-то, оказывается, в этой истории ничего и не было.
– Твой малыш набедокурил, в результате должен родиться ребенок. Чего же тут страшного?
Она засмеялась:
– Вот именно! Но ты помнишь, как я перетрусила?
– Я, пожалуй, помогу Ираиде, – сказал я и вышел во двор.
Ираида поливала грядки с помидорами. Рукава кофточки закатаны, ноги голы, волосы взбиты. Я сел на бревна и закурил. Она подошла и села рядом, запросто задев меня бедром.
– Слушай, ты не сердишься, что я заявилась вдруг? Честное слово, мне стало так скучно!
– А теперь? Ведь вы так мило поговорили.
Она тихонько, со стоном засмеялась и сжала мою руку.
– Тетя Асма предупреждала, какой ты мнительный. Но она не могла не рассказать мне эту пикантную историю…
Я хотел спросить, почему же не могла не рассказать, но промолчал.
– Боже мой, – продолжала Ираида, – боже мой, сказала я тете Асме, этакое в наше время случается с каждой третьей девицей…
– А с тобой? – вдруг спросил я.
– Что – со мной? – Ее лицо покрылось пунцовыми пятнами, она отстранилась от меня. – Как ты можешь… говорить такие гадости?
«Но ведь сама ты легко примеряешь гадости на других», – хотелось мне сказать, но я только пробормотал:
– Прости, пожалуйста.
Смущение оставило Ираиду, и она продолжала:
– Раз уж тетя Асма решила действовать, надо было кое-что подсказать несмышленой девчонке.
– Но прежде выдрать как следует своего оболтуса.
– Бедный мальчик, бедная мать… она стала жертвой своей щепетильности… Хватит тебе курить, идем поливать. Вот выйду за богатого мужа и куплю домик в каком-нибудь тихом городке. А тебе нравится такая жизнь?
– Да, – сказал я решительным тоном. Как бы ни бунтовал я против этой жизни, все-таки она была моя жизнь, не то что порицание, но даже отчужденное удивление кого бы то ни было казалось мне оскорбительным. – Да, – повторил я, – мне нравится такая жизнь!
Ираида изумленно промолчала.
В тот же день последним автобусом мы поехали в учхоз, нагрузившись свежеиспеченными хлебами и шаньгами. Стемнело, когда мы приехали. Дядя Жумагул собирался на заимку, где оставался его внук. Он стал было хлопотать с самоваром, но я сказал, что поеду с ним.
– Мы поехали бы завтра, – сказала Ираида, и в ее голосе послышалась обида и недоумение.
Ехать завтра – значит ночевать с ней в доме старика, а мне этого не хотелось. Ираида прекрасно понимала мое нежелание и, прощаясь, едва кивнула. Мы с Жумагулом сели на его лошадь и поехали.
– Женщины этого не прощают, – сказал старик. – Ты ей нравишься.
– У меня есть девушка, – сказал я, просто чтобы он замолчал, и почувствовал невыразимую тоску. Меня томило желание любви, но воспоминание об Амине делало болезненным это чувство.
Мы подъехали к вагончику в кромешной темноте. Старик расседлал коня и привязал его к загону. Овцы тяжело колыхнулись к дальней стене загона и замерли в идиотском страхе. Я умылся парною водой из кадушки, пошел в вагончик и лег на кошму рядом с Жумагуловым внучонком. Рука моя обняла мальчика, я тут же уснул.
Я встал на заре и помог дяде Жумагулу выгнать из загона овец. Потом затопил очаг и стал умываться, за ночь вода в кадушке, казалось, ничуть не охладилась и пахла камышовым тленом. Воду на пастбища возили с озера на бензовозах. Подъедет шофер к двадцатикубометровому чану, перекинет в него шланг с привязанным к концу камнем, чтобы шланг не выпрыгивал, и сольет воду. И опять едет к озеру. Чаны, как фантастические сторожевые башни, царили над ровным горячим пространством и не давали шалить призракам. Находясь вблизи от них, я ни разу еще не видал миражи.
Едва мы сели завтракать, приехали шоферы, и Жумагул позвал их пить чай. Они опорожнили свои бензовозы и подсели к нам. И тут я решил, что поеду с ними в деревню, а там пересяду в автобус – и в город. Мне казалось, что вчера произошло что-то ужасно нехорошее, и это нехорошее заключалось в том, что после разговора с Ираидой мама придает своим действиям неопасный, даже пустяковый смысл. Но почему? Ведь все уже было сделано и сделано без Ираиды. Уже едучи в машине, я привел свои сумбурные мысли в некоторый порядок. Теперь я думал о них вместе – о матери и Ираиде. Ничего плохого в том, что они встретились, не было. И то, что Ираида судила историю Галея по-своему, было в какой-то части правомерным. Но что-то все еще ускользало от меня, и причиной тому – я понял это минутой позже – была моя неприязнь к матери. «Конечно, – думал я, – мама струхнула и поступила наивно и по отношению к Галею деспотически – ведь она даже не сообщила ему своего решения». А ее решение ставило под удар судьбу не только Галея, но и девчушки – нынешнее зыбкое благополучие назавтра могло обернуться разрывом и теперь уже горем для троих. Ираида права: мать слишком поспешила.
Но ведь не только страх подгонял ее, перед глазами у нее была несчастная, сокрушенная горем девчонка, виноватая лишь в том, что, может быть, слишком любила ее сына. «Да, – прозревая, подумал я, – моей матерью двигали жалость и сострадание!» Ничего этого Ираида как будто не увидела, ее совсем не занимала судьба ни одного из участников истории… Неужели вся наша жизнь была для нее настолько чуждой, что она не могла усмотреть в ней ничего человеческого? Рассудить, как рассудила она, мог бы любой хладнокровно мыслящий человек. Но ведь ко мне-то она была неравнодушна и готова была полюбить мою мать, так почему же она не заметила в ее действиях хоть толику добросердечия?
…Я рассеянно наблюдал тучку, сопровождавшую нас от самой заимки. Сперва она легко и безмятежно скользила во вселенской синей благодати в ладу с таким же легким и безмятежным ветерком поднебесья. Но к ней, оказывается, уже давно подбирался суровый низовой ветер, потемненный степной желтой пылью, – тучка вдруг пошла набекрень, ее тут же подхватила туча потяжелей и поглотила с плотоядной поспешностью. То ли серая тень тучи прошлась по ветровому стеклу, то ли ветер стегнул зернистой пылью.
– Ну, быть бурану, – весело прокричал шофер, имея в виду пыльную бурю. – Добро, ежели с дождем.
Мы ехали, догоняя смерчи: они дразняще убегали вперед, как желтые зловредные зверьки. Протяжный ветер широко сгребал их в одно, и наконец растянул в тяжелое обширное полотнище, и всколыхнул над дорогой. Полотнище трепетало и рвалось, и в какой-то миг в проране мутно-желтой завесы проглянули окраинные домики центральной усадьбы учхоза.
Мы въехали на площадь перед конторой и развернулись у крыльца. На нижней ступеньке стоял директор учхоза Сильвестров и что-то говорил парню в мотоциклетном шлеме. Я вышел из кабины, и Сильвестров осведомился:
– Студент? Сколько вас здесь?
Нас было человек семь, и он попросил, чтобы я созвал всех к конторе. Других гонцов он услал на ферму и в мастерскую.
– Может, еще трактором подсобите? – сказал парень.
Было ясно, что где-то по соседству прошумела буря, – нас звали на помощь.
Когда я вернулся к конторе, там уже стоял, тарахтя, колесный трактор с прицепом и две грузовые автомашины. Ребята бросали в кузова лопаты и запрыгивали сами, натягивали над головой брезент: начинался ливень. Я перекинулся через борт и залез под брезент. Парень в шлеме ехал с нами. Он рассказывал: буря прошла по трем отделениям соседнего целинного совхоза, посрывав крыши, разметав стога, но главная беда в том, что стихия порушила линии электропередач, которые тянула механизированная колонна электромонтажников. Почти на всем пути от Белобородова, рассказывал парень, вповалку лежат опоры с оборванными проводами, деревни остались без света.
Мы долго ехали – или плыли, не знаю, – в ледяном мутном потоке и не тонули, наверно, только потому, что веселая наша братва всю дорогу горланила: «Живи, пока живется, нам нечего тужить…» Брезент, развернутый над нашими головами, то сочувственно приникал к продрогшим телам, то злорадно хлестал отсыревшим концом. Ливень оголтело бежал за нами, бежал рядом, бежал впереди, и под бегущий этот ливень я вдруг подумал о том, что сегодня увижу Марселя. Я удивился, как спокойно вспомнил о Марселе, и предположил нашу встречу: ведь прошли, кажется, десятки лет с последней нашей встречи в такую же вот ливневую канитель…
Мы остановились посреди поля. Над ним висела шумящая вода. Затем мы увидели полегшие хлеба, полосуемые белым ливнем. А на краю поля, придавив седые хлеба, лежали столбы, или, как их называют электромонтеры, опоры. Провода казались застывшими ливневыми струями.







