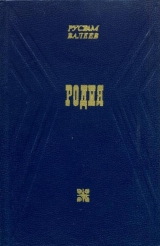
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
– Давай, – согласилась Аля. – А в магазин я сама схожу. Только, знаешь… – Она смущенно посмеялась. – У меня ведь рубль остался.
Мама ушла в комнату и вернулась с деньгами. Она вроде тоже была смущена.
– И у меня не густо. Зарплата-то когда?
– Ой, – сказала Аля. – А я хотела дубленку купить!..
– Ладно, беги.
В тот вечер они напекли блинов, наготовили закусок и, водрузив посреди стола бутылку с вином, стали ждать Александра. Прождав его час, другой, сели ужинать, но вина не тронули.
– Ты с ним будь поласковей, – сказала вдруг мама.
– Да уж куда ласковей, – с улыбкой ответила Аля. – Я ведь понимаю.
Мама вдруг прослезилась:
– Они все мне как дети. Вот как ты, так и они. Слава богу, все пристроены. Бабушка-то твоя, жива еще была, говорила: не отрывайтесь со своего корня, куды-ы вас несет, в Сибирь, ох, дети, дети!.. А дети вон как пошли, теперь уж корни-то у них здесь – вот какая судьба.
– А я на днях встретила Ванечку, – сказала Аля, – такой стал парень! Только не пойму, в кого такой красивый?
Мама воскликнула, смеясь:
– В Сазонова Федора, в своего деда! И силач, и красавец. И поработать умел, и воевал героем – орденов какой ряд, вот гордись! Горячий был. Ежели б не погорячился, так бы и жить сто лет. Трактористы во время сева бросили свои машины, пошли гулять – пасха. Он-то, бригадир, стал со зла трактор заводить – сам хотел пахать, – стал заводить, а рукоятка сорвалась, ударила. А у него швы разошлись, только перед демобилизацией операцию перенес… Сам доковылял до села, а в больнице на операционном столе умер. – Она помолчала. – В него Ванечка, в деда. Даже Петр признает: ваша порода, сазоновская…
– Мечтает в университет поступить, на факультет журналистики, – сказала Аля. – А вы с тетей Шурой, помнишь? – на военного будет учиться, наследник отцовской славы…
Мама смущенно отмахнулась:
– Так ведь не я, Шура говорила.
…Александр пришел в двенадцатом часу. На вопрос матери ответил, что был на переговорной станции. Улыбка не сходила с его лица. Ну, значит, жена собралась ехать!
Через несколько дней, когда они сидели вдвоем (Женечка уже спал, Александр, видать, опять отправился на телефонную станцию), мама заговорила о саде:
– Запустили мы сад. Малина заросла, викторию не разрежали. И домик протекает, и ограды нет. – Она вздохнула. – Ты вон прошлым летом и носа туда не казала, а мне одной тяжеленько, да и времени не хватает. Давай-ка, дочь, продадим сад.
Аля, как ошпаренная, вскочила с места.
– Ты что-о! – воскликнула она, становясь напротив мамы. – Ты вспомни, ты только вспомни… господи, и как у тебя язык повернулся сказать такое? Как мы грядки копали, как домик строили, ездили за саженцами… вспомни, вспомни! – В конце концов она так разволновалась, что не удержала слез и ушла к себе в комнату.
Ей было очень обидно. Она лежала в темноте и вспоминала, как впервые они поехали на девятый километр, где им нарезали участок. Место было дивное – вокруг березовые колки, а некоторые домики так прямо под березами стояли. Они полдня бродили по этим перелескам, потом сели посреди своего участка на молодую травку и пообедали тем, что прихватили с собой в узелочке.
А вечером все бараковские собрались на кухне, слушали маму и завидовали ей. И много непонятных слов звучало, от которых смутно как бы пахло деревенским житьем, деревенскими заботами. Тут же многие воодушевились приобрести свои участки, а пока решили помочь им с мамой. На стройке мама выписала кой-какой лес, гвозди, толь, и весь май вместе с соседями строили домик. У знакомого першинского садовода купили кусты смородины, вишни, малины. Потом викторию посадили. Копали погреб. Воду носили ведрами из каменоломни – там была студеная мутноватая вода.
Самое интересное было, когда поспела виктория. «Неси тарелку!» – кричит, бывало, мама. И Аля бежит с тарелкой. Не успела оглянуться, а тарелка полная. Они тут же и съели все ягоды. Опять стали собирать – и опять полная тарелка. Тогда Аля с кастрюлей прибежала. В общем, они набрали тогда полную кастрюлю, две большие тарелки, и сами, конечно, наелись до отвала. Рады были несказанно! Позже они купили капроновый тазик и в тазике возили домой викторию, ставили на кухне – угощайтесь все, кто хочет!
Скоро провели воду на участок, и в саду они поставили огромный железный бак. В том баке, помнится, Илюшка пробовал купаться. Вот было хохоту!
Сад был их счастливым приобретением, он красил их жизнь, он объединял их с матерью, как ничто, может быть, другое. Аля и сейчас гордилась садом. Как это приятно было говорить: у нас есть сад. Или: у нас есть дача.
Сейчас все чаще говорят: дача. Нет, нет, сад продавать нельзя! Она, вот только потеплеет, сразу же поедет на девятый километр и наведет там порядок, и будет все лето ездить, пропалывать, поливать, а осенью достанет саженцев и посадит новые кусты. Она просто не позволит продать их сад.
Но мать, кажется, была непреклонна. Настойчиво, угрюмовато она повторяла:
– Надо продать сад. Запустили, запустили… – Страстные возражения Али как будто бы не задевали ее.
– Ну, погоди! – вдруг крикнула Аля, кинулась в коридор и, схватив плащ и простирая его за собой, побежала.
В трамвае ей вдруг стало смешно: «Ну, погоди!» – а ведь ехала она к Илюшке, вот вздумала пугать маму Илюшкой.
– Мама хочет продать сад! – выпалила она, вызвав Илюшку в коридор.
– Да? – сказал он растерянно. – Я сейчас… зачем же. Вот какая ерунда.
Сквозь слезы она проговорила:
– А ты помнишь, как в баке купался?
– Но, может быть, мы отговорим? Почему она так решила?
Успокоившись, она стала говорить:
– И правда, запустили мы сад. Ты же знаешь, какая я работница, а маме одной тяжело. У других вон какие хоромы, а у нас просто жалкий домик, некрашеный, ограды и той нет…
Она замолчала, пораженная одной догадкой: не только поэтому решила мама продать сад, с деньгами плохо – вот в чем дело! Ведь она почти год просидела не работая, а теперь мама оставила стройку. Тратиться приходится, ой, как много! Но об этом она ни за что не скажет Илюшке.
– Все равно, – проговорила она вслух, – все равно нельзя продавать сад.
– Ладно, – сказал Илюшка, – мы сделаем такую оградку, что другим завидно станет. – Он рассмеялся. – И крышу починим, и покрасим. Ты не беспокойся. Приедет однажды Таисия Федоровна, и не захочется ей продавать такой сад.
– А уж я бы помогала, вот честное слово! Кто бы мог подумать, что так жалко станет.
Кажется, никогда она не была так искренна с Илюшкой, никогда не знала порыва, подобного сегодняшнему – довериться, прийти в горестную минуту… И все же она не решается сказать ему о том, что промелькнуло у нее в голове только что. И это неудовольствие собой стало главным, заслонило все другие заботы и потребовало разрешения. Если не с Илюшкой быть совершенно откровенной, то с кем еще?
– Идем, – сказала она отрывисто.
– Идем, идем, – проговорил он так тихо, с такою мягкостью, что ее как бы даже напугала его проницательность.
Нет, чепуха – это все ее воображение, ни о чем таком он не догадывается.
Сырая, пахучая мгла охватила их, едва они шагнули за порог. Аля податливо ступала в лад его тихим, почти замирающим шагам. В конце проулка она остановилась.
– Я тебе не все сказала… но для тебя это и не самое главное… тут ты и не поможешь, и я не приму ничьей помощи. Понимаешь, она решила продать сад не потому, что он запущен, Я зарабатываю пустяки, она ушла с работы только из-за меня, приехал брат и пока живет у нас… стой, молчи! Если бы даже я ненавидела брата… не знаю, словом, за э т о я никогда не решилась бы упрекнуть маму. Это для нее и смысл, и цель жизни – помогать своим. Да ты ведь знаешь, все наши родичи всегда начинали с того, что жили у нас.
Она боялась, что он не поймет ее откровенности. Сейчас ей хотелось только одного: чтобы он понял, почему это она говорит. Как равнодушна, как несведуща была она все те годы! Как скрытна, лицемерна! Но сегодня она просто и, кажется, справедливо осмыслила пусть кое-что, пусть малое в их жизни.
– Я тебя понимаю, – сказал он глухо, – хорошо, что ты сказала… все-таки я буду знать, что ты со мной откровенна.
Она почувствовала облегчение, глубоко, как бы освобождаясь от всего, что тяготило ее, вздохнула и взяла Илюшку под руку, крепко прижалась щекой к его плечу. Он молчал.
На следующий день, когда она шла с работы, дорогу ей заступил Женя. От неожиданности она охнула, чем вызвала быстролетную усмешку на его лице.
– Может быть, – заговорил он, не здороваясь, – может быть, ты думаешь устраивать свою жизнь дальше, то есть, может быть, не сейчас, но потом…
– Чего ты хочешь? – спросила она внешне бесстрастным и, пожалуй, очень обидным для него тоном, но внутри она вся кипела: даже о своем сыне не спросил, дрянь!
– Вот затем я и нашел тебя, – сказал он. (Нашел? Разве ее надо было искать?) – Дашь развод? – внезапно спросил он, густо покраснев.
– Конечно, – сказалось у нее тут же.
Он, кажется, не ожидал такого быстрого согласия, и это вроде не понравилось ему. Он заносчиво вздернул голову.
– Мне очень трудно было говорить об этом, – сказал он, – учти, очень трудно. А ты вон как все просто.
«Зачем он так? – подумала без горечи, но с любопытством. – Зачем? Ведь ему, кажется, нужен развод, и он наверняка побаивался, что я откажу. Зачем?»
Но она поняла: даже сейчас его уязвляло ее равнодушие. Он и сейчас хотел бы выглядеть уверенно и значительно.
– Что же дальше? – сказала она, глядя в его недовольное лицо. Ей стало смешно, потому что она разглядела его желание видеть ее горе. И ей даже расхотелось дразнить его, она спросила миролюбиво: – Где трудишься-то?
– В горгазе, – сказал он. Он не соврал, возможно, потому, что в ее миролюбивом тоне уловил что-то желанное для себя.
Что ж, ей как будто и небезразличны были его дела; во всяком случае, она не хотела ему зла.
– Пока, правда, мало платят, – продолжал он искренне, не хвастая, может быть, впервые не хвастая перед ней ничем. – Но потом, говорят, прибавят. Девяносто рублей, – он усмехнулся почти саркастически.
– Девяносто? – машинально повторила она и вдруг за своим спокойствием, бесстрастностью обнаружила, что ненавидит его – с разговорами о каком-то горгазе, о зарплате.
– Ладно, получишь развод, – сказала она ровным голосом. Но дальше у нее не хватило терпения, и она почти выкрикнула ему в лицо: – Да уйди ты… не стой!..
Он ошарашенно глянул на нее, шагнул в сторону. Она устремилась вперед и почти побежала, ни разу не оглянувшись.
ГЛАВА ВОСЬМАЯДни стояли совсем теплые, девчонки во время обеденного перерыва уходили гулять в сквер перед заводоуправлением. Слонялись, дурачились, грызли арахисовые орешки, иные покуривали. Зинка Жданова, которая прежде сторонилась девчонок, также ходила вместе со всеми. Теперь она стала городской жительницей, устроилась в общежитии и упорно готовилась к экзаменам в техникум. Конечно, зря она поспешила, жила бы себе все лето в деревне. Но ей, наверно, видней.
Зинка шла, ухватив Алю под руку, и громко рассуждала:
– Что значит жизнь в городе! В деревне сколько жила, ни одного мальчика. А тут за месяц двое. То есть теперь-то один. – Что-то невеселое слышалось в ее голосе, и это, пожалуй, означало, что первый – то есть сын Бурлачихи – ей нравился, а второй – так, не очень.
Хотя «мальчики» и серьезно занимали ее мысли, однако Зинка не забывала и о других насущных делах: зубрила физику и математику, обновляла на городской манер одежку, в целях экономии ездила в деревню за продуктами. Всепоглощенность своими заботами делала ее злой и настырной. Так, она ни в какую не хотела уступать ночную смену Агнии Павловне, на которую тоже навалились свои заботы, в основном связанные с садом. Агния Павловна тоже не хотела уступать и этим так разъярила Зинку, что та устроила настоящий скандал, обозвала Агнию Павловну дурой и швырнула ей в лицо перфокарты. Аля тогда ударила взбеленившуюся Зинку по рукам, затем увела из табуляционной в коридор и отчитала на чем свет стоит.
Она и сама не ожидала от себя такого: по рукам у нее пошли красные пятна, губы дрожали, и она, пожалуй, готова была отхлестать Зинку по толстым щекам.
– Ладно, ладно, говорю, – бормотала перепугавшаяся Зинка. – Я ведь сейчас же и извинюсь. Я такая – себя не помню, а потом сразу извиняюсь.
– Извинись.
– Я же сказала. Вот увидишь.
Но Зинка, конечно, не извинилась тотчас же. А Аля не стала принуждать: тоже не дело – нахамить, а через минуту с кротким видом просить прощения. Пусть уж остынут обе, а там загладится, забудется.
С того дня Зинка поглядывала на Алю с каким-то робким, даже заискивающим выражением. Але это было смешно, но она находила нечто приятное… нет, не в робости Зинки, а в том, что сама она, Аля, почувствовала к этой взбалмошной девчонке неравнодушие. Все-таки было очень трогательно стремление Зинки жить в городе, учиться и быть ничем не хуже других.
Стычка мало-помалу стала забываться. Агния Павловна была отходчива и своею умудренностью старалась понять и простить Зинку. А Зинка, в общем, была совсем незлобива. Мир и покой, и они гуляли в сквере, а однажды всею гурьбой пошли провожать Мару, она уходила в декретный отпуск.
Мара шла, прижимая к боку кожаную сумочку, в которой были только что полученные отпускные деньги, и вслух сожалела, что девчата не согласились угоститься вином и еще чем бог пошлет.
Аля с Зинкой шли поотстав; Аля глазела по сторонам и краем уха слушала, что болтает Зинка.
– Вот попомни, – говорила Зинка, – у Мары родится девочка. Если живот круглый-прекруглый, то будет девочка.
– Ну, как твои-то дела? – спросила Аля, чтобы только переменить тему разговора.
– А тебе девчонки ничего не говорили?
– Нет.
– Не говорили, что есть такой молодой человек, который тоже поступает в механический техникум? А не говорили, что он меня называет… ну, не скажу!
– Откуда им знать, как тебя называют, – заметила Аля.
Ну, Зинка, Зинка! Она была так откровенна в своем вполне понятном желании поделиться, что вроде ничего и не оставалось такого, о чем следовало бы умолчать. Она как будто не знала сладостного чувства тайны.
Впереди послышались веселые голоса девчат, и Аля поспешила к ним. На выходе из сквера, царственно повернувшись к подругам, стояла Мара и помахивала сумочкой, усмешливо глядя на глупых, глупых девчат.
Она выделила взглядом Алю, кивнула ей, но первая подошла сама и сказала тихо:
– А я все собиралась поговорить с тобой, да так и не собралась. Если захочешь к н а м наведаться, то мы будем во второй железнодорожной больнице. Ну, я всех перецеловала… – Она боком придвинулась к Але и смущенно попросила: – Да наклонись ты, наклонись! – И когда Аля наклонилась, поцеловала ее в щеку.
Аля понимала, что та не питает к ней никакого особенного чувства, что просто минута такая, что Маре грустно, и страшновато, и жалко расставаться с подругами. – Аля понимала это, но ей сделалось так грустно, и так она сожалела, что не вышло случая раньше с ней поговорить. Девчонки звали – уже время возвращаться, Агния Павловна станет ругаться, но она взяла Мару под руку и повела ее от девчонок.
Они шли молча, теплый шумный день окружал их, и то, что они молчали и как бы несли в этом молчании сквозь суету и шум что-то свое, тайное, переполняло Алю кротким и ласковым чувством. Доведя Мару до автобуса, она помогла ей сесть, молча помахала рукой и пошла обратно.
Ласковое чувство не оставляло ее. Вчуже, с доброжелательной усмешкой, думала она о себе. О том, что не скоро сходится с людьми, бывает щепетильной в выборе друзей и что приязненное чувство к Маре, или Зинке, или Агнии Павловне еще не обещает дружбы, но все они уже не чужие ей…
Приехала жена Александра, худенькая, глазастая девка с голоском тихим и слабым, как у мышонка. Мама тут же где-то с кем-то переговорила, и через недельку Ольга уже работала нянечкой в детском садике.
Молодожены были слишком нетерпеливы в своем стремлении жить отдельно, так что пришлось срочно искать квартиру. Илюшка и Аля знали каждый уголок в Першино и вызвались помочь. Наконец отыскалась подходящая квартирка, чистенькая, в одну комнату, с отдельным входом и садиком во дворе. Осмотром остались довольны все – и молодожены, и мама, и, конечно, Аля с Илюшкой, главным образом потому, что именно они нашли квартиру.
Александр и Илюшка за два раза на тележке перевезли немудреный скарб молодоженов, а вечером все они отметили заодно и свадьбу, и приезд, и устройство на работу.
«Ну вот и хорошо, что так все устроилось!» – думала Аля, глядя на счастливое лицо мамы. Але и самой было приятно от соучастия в добром и веселом деле.
Они сидели рядышком с Илюшкой и оживленно перешептывались:
– Я сделал планки и рейки для изгороди, – шептал Илюшка.
– Молодец, я так рада.
– И, знаешь, Алька, я достал замечательно длинный шланг поливать грядки.
– А маме пока ни слова, понял? Ни одного словечка! Удивится и порадуется, так что и забудет продавать сад.
– Конечно!
В первое же воскресенье они собрались в сад и поехали, нагрузившись сумкой и рюкзаком. Дня за два до этого Илюшка ездил туда один, отвез планки и рейки, а скоро обещал завезти с участка непригодные щиты – там найдется им применение. Сперва они не хотели звать маму, пусть бы приехала, когда Илюшка построит изгородь и починит домик. Но в самый последний момент не удержались, позвали маму, тем более, что Ольга согласилась посидеть с с Женечкой…
Поезд остановился на девятом километре, народ высыпал из вагона. И они в толпе веселых садоводов спустились с насыпи, зашагали тропинкой, которая тянулась меж кустарниковой чащи, затем среди берез, мимо аккуратных дачных домиков. Когда шли с в о е й улочкой, то и дело здоровались с соседями, и в этом было что-то похожее на то, как если бы они вернулись из продолжительного странствия на прежнее место, к прежнему жилью. Ничего подобного Аля не знала, не знала, как люди возвращаются к прежнему жилью после долгих лет. Ей, если уж говорить правду, казалось, что люди никогда не возвращаются туда, где жили прежде. Однако чувство возвращения еще более усилилось, когда они вошли в оградку и мама села на порожке, точнее, на опрокинутом ящике перед дверью домика. Але показалось, что мама слишком долго сидит молча и что слишком задумчивое и грустное у нее лицо.
А ведь правда, что было, того не вернуть. Может, сейчас будет лучше, чем когда-то, но т о г о уже не вернуть…
Илюшка сразу же принялся за работу, неспешно, как бы даже с ленцой – и в этой неспешности ей опять почудилось что-то знакомое. Он показался ей вдруг этаким крестьянским пареньком. Почему? – вот странно, она и в деревне-то никогда не была, а Илюшка самый что ни на есть городской. Это все кино. Столько фильмов смотришь, а потом кажется, что ты что-то такое знаешь, чего сама не видела и не испытала.
И не только знаешь, но как будто бы это как-то повлияло, наложило на тебя свой отпечаток. Ее охватила задумчивость. Она машинально поднялась и стала собирать мусор у порожка – щепу, обрывки тряпья, прошлогоднюю ботву. Все это она снесла к печурке, чтобы сжечь. Ей всегда нравилось что-нибудь жечь. Но печка развалилась, плита съехала с места, и ей пришлось сперва основательно поправить очаг, тогда только она сгребла всю ветошь и сор и сунула внутрь.
– Дай мне спичек! – крикнула она Илюшке.
Он разогнулся и с улыбкой бросил ей коробок. Она лихо подхватила его. Пламя, будто живой, с норовом, зверек, не хотело оставаться среди смрадного мусора, скакало поверху, пока не погасло. Она побежала в домик и, сгребя в обе руки старые газеты, снова пошла растапливать. Печка разгорелась, пламя выхлестнулось резво, с шумом и отпугнуло Алю. Она села поодаль.
Мать поставила на плиту кастрюлю с водой и стала чистить картошку. Но тут появилась соседка и напугала ее: сообщением о том, что к утру ожидаются заморозки – радио слушала.
Мама оставила картошку, заохала, засуетилась. Прежде, Аля помнила, они окуривали дымом тогда еще совсем молодые саженцы. Насобирают хворосту, мусора, палых листьев, навозу, затем присыплют немного землей. А под утро мама поджигала, и кучи здорово дымили. Аля просыпалась от горького дыма, проникшего в домик.
«А что, может, заночуем в домике, а утром подожжем кучи!» – подумала она с восторгом. И крикнула, вскочив:
– Мама, а где грабли? Илюшка, изгородь потом, потом!..
Часа полтора они рьяно сгребали листвяную ветошь, остатки прошлогоднего навоза и подкладывали под каждый кустик. Потом Илюшка опять принялся за изгородь, мама села дочищать картошку. Аля бросила грабли, молча поднялась и торопливо вышла за загородку.
– Ты в лес? – крикнул Илюшка.
Она кивнула, улыбаясь, но не позвала.
В рощице было светло, дурманно. Она шла медленно, как будто влекомая белым парусом огромного и ясного дня. Удивительно: не яркое пространство дня давало ощущение необыкновенной светлоты, а сама рощица. Аля наклонялась за цветком, а другие цветки как бы рассыпались. Но стоило разогнуться – опять они сбегаются, опять их видимо-невидимо!.. Она быстро набрала букет. Потом стала рвать дикий чеснок и с такою жадностью есть, что, опомнившись, засмеялась.
Выйдя из рощицы, она побежала к домику. Мама и Илюшка сидели перед расстеленной скатеркой возле очага и ели картошку. Лица их были оживлены едой и разговором. Илюшка обернулся к ней смеющимся лицом:
– Садись, садись, а то картошки тебе не останется.
Она положила подснежники на скатерку и, придвинув ящичек, села на него. Мать продолжала начатый разговор:
– А то ребятки ездят на мотоциклах, девчонок понасадят, галдят – спасу нет! А ты не купил мотоцикл?
– Нет, – сказал Илюшка.
– Что так? Нынче молодежь вон как модничает.
Илюшка, смеясь, ответил:
– Боюсь я мотоцикла. Панфилов на днях говорит: возьми мотоцикл да прокатись на девятый километр, погляди, как там мой домишко. А я говорю: боюсь.
– Знаешь его домишко-то? А вон зеленый, с верандой. Больно роскошный – а то бы купил, а?
– А что, он продать хочет?
– Панфилов-то! Да он в лето раз покажется, и больше не видать его. Ему только рыбу поудить, больше ничего не надо. А Паша его, так та сразу говорила: зачем мне сад? А то погляди, может, купите, мама-то не противилась бы.
Илюшка опять рассмеялся:
– У нас таких денег нет, тетя Тася.
– Сейчас нет, а потом будут, – уверенно ответила мама. – И желание будет купить сад. Все будет.
– Не знаю, – сказал Илюшка. – Я ведь собираюсь учиться.
– В техникум собираешься или в школу мастеров? Небось, Борейкин агитирует?
Илюшка улыбнулся:
– Он в самодеятельность агитирует.
– И в самодеятельность ходить надо. Все надо. Учись, а выучишься – мастером поставят, а там прораб, а там и дальше пойдешь.
Он сказал:
– Я ведь, тетя Тася, в зооветеринарный хочу поступить.
– На́ поди! – удивилась Таисия. – И в деревню поедешь работать? А я агрономом по льноводству хотела быть. А стала строителем. Про меня сейчас говорят: не баба, а черт! А была я самая что ни на есть баба, через день ревела, пока насобачилась. А теперь: кто первый? Бригада Сазоновой…
– Да ладно тебе, мама, – попросила Аля.
– Уж чего не ладно, когда в няньку превратили Сазонову.
– Вот Женечку в ясли устроим…
– Ох-хо-хо, – завздыхала мама, собирая со скатерки хлебные крошки и кидая себе в рот. – Подыматься надо, дети, еще маленечко набросаем, да и ладно будет.
Аля оживилась:
– А что, мама, я подожгу?
– Зачем? Вот под утро сама я подожгу.
Вдруг Илюшка подбежал, глаза его блестели.
– А, знаете, – сказал он воодушевленно, – я, я останусь ночевать! А утром, если похолодает, зажгу кучи. Нет, правда!..
– Проспишь, чай, – ответила мама, посмеиваясь.
– Не проспим, честное слово, – все более оживляясь, сказала и Аля. – Да мы и спать не будем, будем сидеть всю ночь и потихоньку жечь костерок.
Мама отвернула от нее посерьезневшее лицо и принялась граблями подтаскивать лежалую ботву. Потом она повернулась к Але:
– А тебе в самый раз бы домой поехать. И ребенок, чай, исплакался, да и Ольге несладко…
Аля ничего не ответила. Искоса глянув на Илюшку, она увидела, как он покраснел. Ей было так досадно на мать, она готова была накричать, но и она смущалась, и смущение усмиряло в ней раздражение. Она принялась сгребать ботву и не подняла головы до тех пор, пока мама не окликнула.
– Собирайтесь, – велела она. – А я завтра утром приеду.
Аля молча отряхнулась, надела плащ, повязала косынку и направилась к выходу. Илюшка сперва шел за нею, потом поравнялся, глянул коротко, но ничего не сказал.
По сторонам, во двориках, жгли прошлогоднюю растительную ветошь. Облачка дыма улетали к небу, а запах дыма насыщал воздух. Они шли, и рядом как бы тек шумок, состоящий из людского говора, звяканья лопат, плеска воды.
Несмотря на смущение, которое она испытала перед матерью, и раздражение против нее, Аля в эту минуту чувствовала приятное, хотя и странное, может быть, удовлетворение от простоты и прямоты, с какою мать приказала ей отправиться домой..
«Если мама не продаст сад, то все у нас будет хорошо», – думала она, идя мимо оградок, за которыми шла неторопливая, несуетная работа.
– А что, мог бы ты купить мотоцикл? – вдруг она спросила, поворачиваясь к Илюшке.
– Мотоцикл? – переспросил он. – А что, вот поеду в тургайские степи, там от фермы до фермы десятки километров – так я буду шпарить там на мотоцикле.
– Значит, правда, – сказала она, и голос ее прозвучал грустно и нежно, как при прощании. – Значит, ты поедешь учиться на зоотехника.
– Очень хочу, – сказал он. – А хочешь, я дам тебе книжки по зоологии? Тебе понравится, вот увидишь.
Она не ответила ему, но подумала, что обязательно возьмет у Илюшки книги. Господи, как давно она не брала книги в руки!..







