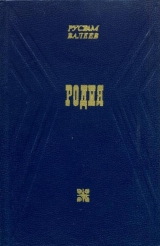
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Соседи
1
В жизни такого не было, чтобы он выезжал из городка дальше областного центра, а тут оставил старенькую бабушку, огромный дом с постройками, который наследовал по деду, – и понесся в какой-то там город Навои в знойных песках. И чего ради? А чтобы поработать там на КРАЗе.
Уезжая, он заручился обещанием Длинного Заки, что тот напишет ему, как только в городок прибудут КРАЗы.
– Я слово сдержу, – сказал тогда Длинный Заки. – Но и ты, смотри, уступишь мне амбар, когда вернешься.
Давно уж зарился он разобрать дедовский амбар и перенести его к себе во двор.
– Как приеду, – сказал Апуш.
– А может, не будем откладывать? – спросил вдруг Длинный Заки и, не получив ответа, сердито рассмеялся: – Ах, язва! Вот и дедушка у тебя такой же был. Ладно, дашь мне чемоданчик. Я в Пермь еду, машину покупать.
Апуш молча встал, и оба они вышли на крыльцо.
Широкий двор лежал перед крыльцом, как пустынная равнина; и точно склеп стояла голубятня, основательная, из толстых досок, обитых жестью; пустая конюшня, завалившийся саманный курятник, и старая банька, и амбар – из матерых, засмуглевших бревен, с двустворчатыми тяжелыми дверями и бурым железным засовом.
Все эти строения как-то поживее, что ли, глядели, когда бабушка, пока не обратала ее старость, возилась на морковных и помидорных грядках; когда возле тех строений время от времени появлялся дедушка – в длинной, навыпуск, сатиновой рубахе, широких шароварах, в тюбетейке, будто налепленной на свежескобленный череп, с цигаркой в резкой, подвижной руке – хлопотливый, кричащий высоким беззлобным голосом на глупых кур, на задумчивую пожилую собаку и бесстрастно воркующих голубей.
Похлопотав этак, он направлялся в дом, в ту заветную комнатку, где его ожидала работа. Дед был шапочник и пренебрегал столь обширным хозяйством, оно его тяготило, было бесполезным – он и купил-то его по настоянию жены. («Дочь на выданье, – говорила она, – внуки пойдут. Что ты им оставишь?»)
– Идем, дядя Заки, – сказал Апуш.
Они спустились с крыльца и пошли к амбару тропинкой, тускло светящейся в гусиной травке.
Снимая засов, Апуш заметил, как взволнован Длинный Заки, и усмехнулся: соседу, видно, не терпелось просунуться в сумрак амбара и глянуть в бесцельную, глупую пустоту этакого сооружения.
Он молча выбрал подходящий чемоданчик из груды ему подобных и отдал его Длинному Заки.
А через день он и себе выбрал чемоданчик и, сложив кое-какие пожитки, поехал в Навои, где работал его приятель, внук чемоданщика Фасхи, – он-то и обмолвился как-то в письме, что там, на руднике, много КРАЗов и шоферы очень нужны.
Этот мальчишка всегда, сколько помнится, злил Длинного Заки. И он, и дедушка его, шапочник, и потакавшая во всем своему мужу старуха, и старший внук – все они злили его, но особенно этот мальчишка, младший внук шапочника.
Бывало, выйдет Длинный Заки утром на крыльцо – еще роса не испарилась, солнце едва только взошло – и видит через низкий забор, как мальчишка уже склонился над верстаком у себя во дворе и строгает доски и пилит фанеру. «Здравствуй, сосед!» А мальчишка поднимет голову, кивнет, и потом, сколько ни заговаривай с ним, сколько ни насмешничай, он так и не отзовется, упиваясь строганием и пилением. И завидно же было воображать запах дерева и собственного пота, сладость в мышцах, которую порождает движение рук и туловища, и Длинному Заки мнилось что-то такое, что будто бы он знал и забыл или не успел никогда узнать, но что всегда было в нем, томило и уснуло неизбывно. И он вспоминал деревню и сожалел, что не остался т о г д а в деревне…
С печальным чувством отправлялся он на работу.
Возвращаясь на обед, он опять смотрел с крыльца и опять видел мальчишку, склоненного над верстаком, – как мелькают под ярким солнцем голые плечи и лопатки, а на верстаке сушится готовый чемодан, крашенный в коричневый, или в синий, или еще в какой-то замысловатый чудной цвет, в котором уж неизвестно сколько слито красок.
Длинный Заки обычно уставал уже к полудню, и никакое занятие не казалось ему привлекательным, но при виде работающего мальчишки он начинал испытывать некий горячий задор. Иногда возле внука оказывался старик, и Длинный Заки окликал его: «Здравствуй, сосед!», на что старик, совсем как внук, кивал слегка и продолжал наблюдать работу своего любимца. Длинному Заки хотелось крикнуть что-нибудь грубое, злое – ошеломить, заставить бросить работу, но, ругнувшись про себя и низко склонив голову, он уходил к себе в дом…
Поселяясь на тихой, окраинной этой улице, он и не предполагал, на какую мучительную жизнь обрекает себя. Шоферскую свою работу Длинный Заки не особенно любил, но равнодушно ею дорожил: заработки были хорошие, так что со временем он мог бы и машину купить. Но завидовал старику… нет, не хозяйству его, а тому равнодушию, с каким старик относился к своему добру. Он видел, как земля на обширном дворе соседа парит весной, томится, жаждет зерен; как иссыхает потом, не оплодотворенная в летнюю сухмень; как пустует амбар, как стоит бездельно лошадь, жиреет и дичает. Но если бы даже старик предложил ему все свое добро в обмен на его скромное пока хозяйство, он и тогда бы не успокоился, не избыл тоску зависти…
Однажды, когда Длинный Заки приехал на обед и только-только вышел из кабины грузовика, его окликнули. Он поднял голову и увидел, как от ворот соседа идет к нему человек в кителе, в галифе и в сапогах, с кожаной папкой под мышкой. Потом, когда они шли по двору старика (он, и тот человек с папкой, и еще один их сосед, безрукий Ахмед), Длинный Заки даже возомнил себя таким же, с властью, и силой, человеком, каким, без сомнения, был этот не то фининспектор, не то работник милиции, – он возомнил так и почувствовал, как отдается э т о в мускулах, в походке, какой-то легкой, не обремененной усталостью. Ему померещилось на минуту, будто он не просто понятой, призванный всего лишь подтвердить то, на что ему укажут, а вершитель судьбы человека, который лишил его покоя.
Старуха шапочника сидела на кровати, у самого изножья, просунув руку в решетку кроватной спинки и согнув ее в локте, – неподатливо и настороженно. Смекнув кое о чем (пока тот, явившийся с обыском, ворошил в сундуке), Длинный Заки крепко тронул старуху за плечо и двинул, точно сковырнув ее с места, успел при этом значительно ей подморгнуть, а затем быстрым неслышным движением отвернул матрас и, взяв оттуда отрез сукна, сунул себе под мышку, задрав на животе рабочую куртку. Его крупная фигура, просторная куртка надежно скрыли самую главную, может быть, улику.
Тот, кто пришел с обыском, выкладывал между тем на широкую поверхность стола молотки, колотушки, колоды, подушечки с иглами, наперстки, гребешки, обрезки овчины и сукна – и все это сдвигал, громоздил в кучу, будто бы для того, чтобы куча выросла внушительной и сразила неопровержимостью своих размеров упрямствующего старика. Но жалкая вышла кучка, и на лице того, кто делал обыск, выразилось неудовольствие. Длинному же. Заки приятно было все это видеть. Так вот что давало старику уверенность – всего-то жалкая кучка мерзко пахнущих вещиц!
Тот, кто пришел с обыском, обшаривая углы, вдруг наткнулся на фанерный ящик и вытащил из него связку катушек. Их было, наверное, штук пятьдесят, а то и больше, надетых на суровую нитку, и катушки эти были несомненной уликой, ибо найдены были в доме, где хозяин занимался шитьем.
– Это так, – сказал Длинный Заки, – это ребята играют. Моя баба дает им катушки, да и баба Ахмеда. Так ведь, Ахмед? – И тот подтвердил уверенным суровым кивком головы. – А если вы имеете в виду инструменты, – продолжал Длинный Заки, показывая на молотки, наперстки и прочие орудия мастера, – если вы это имеете в виду, то старик, конечно, в молодости шил шапки. Потому у него и сохранился инструмент…
– Зачем вы морочите мне голову? – сказал сотрудник. – На базаре его задержали с шапкой.
– С одной, – сказал Длинный Заки, и сотрудник, немного смутившись, подтвердил, что с одной. – А та шапка была для меня сшита и ровно на один сантиметр оказалась мала. Давайте смеряем мне голову, а потом, стало быть, шапку. Давайте сюда шапку, давайте.
– Он успел ее продать, – сказал сотрудник.
– Раз он продал, нет, стало быть, поличного.
Сотрудник спросил, глядя на него устало:
– Вы где работаете, товарищ, хотел бы я знать?
– Я девятнадцатый год работаю в четвертой автоколонне, – ответил Длинный Заки. – Со дня основания колонны. Вы можете хорошенько расспросить обо мне нашего начальника, депутата горсовета Григорьева.
Длинный Заки торжествовал от чувства собственной неуязвимости, от великодушия к поверженному старику, которого он к тому же и поддел вроде ненароком: дескать, шапка-то была сшита неудачно!
Младший внук старика, до этого молча глазевший на происходящее, вдруг точно сорвался и крикнул, подбегая к сотруднику:
– Отдайте! Отдайте игрушку! Отдайте!.. – И вырвал почти из рук сотрудника связку катушек.
Из того далекого дня Апуш помнил жутковатую тишину, оставшуюся в доме, когда ушли сотрудник и понятые, и печальную отрешенность дедушки. Вдруг он привлек Апуша к груди и, притискивая больно, сказал: «Инженер у меня растет. Слышишь, мальчик мой? Инженером будешь…»
Бабушка махнула перед глазами ладонью, сказала вроде ни с того, ни с сего:
– Хороший человек наш сосед.
Дедушка кивнул согласно, но мысли его были, пожалуй, далеки от соседа и всего, что произошло в этот день. Он, скорей всего, думал о судьбе внуков. Ему нравилось, когда их называли «мальчонками шапочника», но такой же доли, как у него, для внуков он не хотел. Отец их погиб на войне, и он должен был вырастить мальчишек и выучить, чтобы до конца сдержать слово, данное их отцу. Но он был стар и понимал, что может сдать до того, как внуки станут на ноги, и он хотел пораньше приобщить их к ремеслу, только не знал, к какому.
Он заметил однажды, как пристально наблюдает Апуш за работой чемоданщика Фасхи. И всякий раз, собираясь к старому приятелю, он звал с собой внука, и они подолгу, бывало, сидели у Фасхи, глядя, как он работает. А потом Апуш и сам сколотил чемодан, очень, однако же, неказистый на вид, но дедушка похвалил его. Сперва мальчику достаточно было слышать похвалы деда и бабушки – она говорила: «Вот помощник растет!» Потом же, когда был сколочен десятый, наверное, чемодан, который был лучше, чем девятый, восьмой и ни в какое сравнение не шел с первым, одних похвал ему стало мало, и он сказал однажды вроде как бы шутя: пойду, мол, и продам на базаре. Но дедушка ответил: «Погоди».
Он не понес чемодан на базар, но попросил чемоданщика Фасхи прийти и посмотреть то, что он сработал, и тот, кажется, остался доволен и не преминул дать несколько советов. Мальчик опять взялся за работу, но дедушка опять запретил ему нести чемодан на базар. И так он делал чемодан за чемоданом, выдумывал разные завлекательные наклепки из жести, красил в немыслимые цвета, а дедушка, осмотрев очередную поделку, уносил ее в амбар и бросал в угол, где лежало уже десятка два чемоданов.
– Ты не мастер, – сказал он наконец. – Бросай. Город имеет мастера, чемоданщика Фасхи. Ты не мастер.
Апушу стало обидно, несколько дней он тосковал без дела, а потом забыл о чемоданах…
2
Апуш прилетел из Навои, как только получил письмо от Длинного Заки. И не позже чем через полчаса, едва поздоровавшись с бабушкой, сидел у соседа (перед тарелками с мясом) и рассказывал:
– Может, я сразу получил бы КРАЗ, у меня там хороший друг работает экономистом. Да ты знаешь – внук чемоданщика Фасхи, он после института поехал туда. Может, сразу получил бы… но я по такому пути не пошел, дядя Заки.
– Понятно, – отозвался Длинный Заки.
– Начальник гаража говорит: «Хочешь на дизеле работать – погляди вон ту машину». У забора старый «язик» стоит, раскулаченный вконец… Два месяца восстанавливал, по вечерам литературу читал, с мужиками советовался. Ну, поездил, помучился. Зато, когда новые дизеля пришли, получил КРАЗ.
Посидев, поговорив, они запоздно вышли во двор. Стояла теплая ночь. Они пошагали от крыльца и остановились около забора, где, укрытый брезентом, стоял «Москвич». Длинный Заки стал мочиться. В простом этом действии, в позе Длинного Заки было что-то от жестов удовлетворенного хозяина: моя машина – возле нее я волен поступать, как сам пожелаю.
– Григорьев привязался, бес, – заговорил Длинный Заки, – продай, говорит, машину. Ты, говорит, себе достанешь еще…
– Это какой Григорьев? – спросил Апуш, настораживаясь.
– Тот самый, – со смехом ответил Длинный Заки, – который КРАЗы получил!
– У меня ведь второй класс… и на дизелях работал…
– Поговорю, поговорю.
«Отдам я ему амбар, – подумал Апуш, – пусть гараж построит. Мне он ни к чему».
Едва он подумал, как больно заныло сердце. Но как, как об этом сказать: давай, дескать, раскатывай по бревнышку, тащи к себе! Дедушке амбар тоже был не нужен, однако он не трогал его.
– Пойду я, – сказал он глухо.
– Ступай, – согласился Длинный Заки и накрыл его плечо ладонью, и она, такая глубокая, вместительная, вобрала в себя его острое и маленькое, хотя и не хрупкое, плечо.
Сильная усталость не давала Апушу уснуть, и он, поворочавшись в горячей постели, вышел на крыльцо. Охолонув, выкурив сигарету, он спокойно подумал о том, что надо бы крепко заснуть до утра, чтобы завтра, если придется идти к Григорьеву, не выглядеть вовсе уж заморышем – чего доброго, не посадят на огромный КРАЗ.
«Надо отдать ему амбар, – опять он подумал. – Много хорошего сделал для меня дядя Заки».
Помнится, когда тосковал он без дела, забросив чемоданы, Длинный Заки стал звать его в поездки с собой. Поехали как-то за дровами. Нагрузились, тронулись обратно, и тут накрыл их сильный дождь, дорогу размыло, и в одном месте, переезжая мосточек через ручей, они застряли. Сперва они все подкапывали, подбрасывали под колеса щебень и ветки, а потом, уже в темноте, Длинный Заки пошел в село похлопотать насчет трактора. Апуш остался в машине и до утра не сомкнул глаз. В предрассветных сумерках услышал тарахтение… Колесный маломощный трактор чихал, задирал перед, но сдвинуть их машину не мог. Тогда они стали сбрасывать бревна и все посбросали, и тогда только их ЗИС выкарабкался на дорогу.
– Ну? – говорил Длинный Заки. – Еще поедешь кататься?
С того раза он больше не звал прокатиться, но зато сам Апуш спозаранок стерег его у ворот на утреннем холодке; поздоровавшись, пристраивался рядом с Длинным Заки и шел с ним до гаража. И в тесной, душной кабине ездил целый день и был так радостен, так счастлив!..
Вскоре Длинный Заки устроил его в автошколу, а потом взял стажером к себе. Днем они работали положенные часы в городе, а вечером ехали за зерном в глубинку, километров за восемьдесят-девяносто. Едва минуют окраинные домишки, а тракт уже обрушивается на них тяжелым ревом, мглою пыли… Ах, сладостным испытанием было это борение с жарой и пылью, коварным блеском металла и стекол, ядом запахов и хлестанием шумов!
На элеватор возвращались в полночь и пристраивались в хвосте длинной очереди, кишащей звуками моторов, голосов, огоньками папирос. Длинный Заки засыпал в кабине, а он подвигал медленно, очень медленно машину к весам. В гараж возвращались в предрассветных сумерках, отупевшие от бессонной ночи, тряски и грохота, и тут Длинный Заки говорил: «Надевай комбинезон, осмотри машину», и он, молча кивнув, лез под автомобиль и, на мгновенье ощутив блаженство неподвижности, принимался, лежа на спине, подкручивать гайки.
Когда закончился срок стажировки, Длинный Заки пересел на новую машину, а ему оставил свою старую. «Я ведь думал, крику моего не выдержишь», – признался потом Длинный Заки. Да, глотку драл он здорово! Переключишь с небольшим шумом скорость – орет, тряхнет автомобиль на выбоинах – опять орет. Но пусть. Ни тогда, ни позже он не думал о Длинном Заки с обидой, и тем более со злостью: тот был его учителем, помогал, подсказывал, а когда Апуш уехал в Навои, обещал написать, как только в городок прибудут КРАЗы. А теперь вот обещал поговорить с начальником…
«С Григорьевым я потолкую, – думал Длинный Заки, лежа в сенцах на раскладушке. – Дались ему эти КРАЗы! Хиляк, в чем только душа держится, а в Азию ездил, в пекло!»
Он вполголоса выругался. Чего было срываться с родного куста и ехать в эту Азию? Опять он выругался и вспомнил, как сам давно, в юности, ушел из села. Строил железную дорогу от Карталов до Магнитки, бригада их бурила каменистый грунт, долбила кувалдами, грузила в грабарки и сваливала вдоль линии. Так дорога привела его в Магнитку, там он проработал на известковом карьере, затем пожелал учиться на машиниста нефтедвигателей. Как судьба играет человеком: не будь этих колхозов, так бы и жил себе в селе, пас скот, засевал свою полоску, а там перенял бы мельницу после смерти отца.
Ох, тяжко было на стороне, и года через два он вернулся в родную Табанку и узнал, что отец давным-давно пропил мельницу, смиренно явился в колхоз, был принят и даже поставлен работать в сельпо, потому что имел грамотешку. И жил не в прежнем пятистеннике, а в избенке одинокой тетки Сарвар, на которой он женился после смерти жены.
Делать нечего, пришлось Длинному Заки перебраться в город. Работал машинистом локомобиля на откачке воды – строили железнодорожный мост через речушку, – днем работа, вечером то скука в трезвости, то отчаянная пьянка. Где теперь мельница, где их земля, их дом, где семья? Какая могла быть у него жена, дочь их соседа Шафигуллы!
Судьба, казалось, улыбнулась ему однажды: прогуливаясь по улицам слободы, он лицом к лицу столкнулся с Мастурой, дочерью Шафигуллы. Девка обрадовалась ему, стала расспрашивать о селе, о людях, но он ничего почти не мог рассказать, и она поскучнела. «Ничего, – отвечала на его вопросы, – живем. У отца лошадь». Он проводил ее до калитки, напрашиваться на следующую встречу не стал, чтобы не услышать отказа, а на третий вечер был у той калитки.
– А мы на велосипеде едем кататься, – сказала девушка. И тут как тут подкатил на лакированной машине чубатый городской парняга…
С тех пор он стал примечать, как мимо окраинных домиков слободы везет ее чубатый в степь, злился и проклинал судьбу, сведшую его и Мастуру в этом тусклом пыльном городке на горе ему. Сперва он хотел было умотать подальше из городка, в Сибирь куда-нибудь, в тартарары, но слишком ослаб он от ревности, злости, от неутоленного честолюбия, чтобы решиться кануть в неизвестность. И по вечерам стал ходить на курсы шоферов, а через два месяца получил права. В автоколонне дали ему не старую еще полуторку, и он возомнил себя героем. Теперь частенько подстерегал он девушку и чубатого, катящих на велосипеде, пылил некоторое время рядом, а затем, свирепо газанув, мчался дальше, оставляя ничтожное, хрупкое сверкание велосипеда в тучах непроглядной пыли.
Он только побаивался, что, прежде чем иссякнет его сердитый пыл, она возьмет да и выйдет замуж за того чубатого. От мысли такой он стал было сдавать, слабеть, но воспрял духом, когда однажды послали его на мясокомбинат вывозить шкуры и там он увидел вереницу повозок у ворот, а среди возниц – Шафигуллу. Поздоровались. Шафигулла рассказал ему, что после того как ушел из села, промышлял здесь на лошади, но закон не разрешает, и вот уже год как он вступил в артель лошадников, получает зарплату, слава богу, жить можно, главное – покойно. Слишком уж удовлетворенным показался ему лошадник. И про дочь, старый жулик, вовсе не помянул, хотя и знал, по деревне еще, про его симпатии к зеленоглазой Мастуре. Он с ухмылкой переспросил: «Покой, говоришь? Скоро конец придет твоему покою, дядя Шафигулла!» – и поглядел на свою полуторку.
Через некоторое время автоколонна смогла послать на вывозку шкур не одну, а три полуторки, и Длинный Заки заметил, что повозок у ворот мясокомбината сильно поубавилось, а еще через несколько дней повозки исчезли. Позже он видел Шафигуллу у ворот пимокатной фабрики, тот жалко стоял у морды лошади и слабо кивнул, когда Длинный Заки просигналил ему из кабины…
Теперь он как-то не думал о Мастуре, упиваясь местью, самовозвышением. Он так и не подъехал к той калитке, так и не поговорил с девушкой. Он молча, явно травил, уничтожал ее отца.
Однажды, прослышав о том, что артель лошадников распущена за ненадобностью, он затосковал. И муторной показалась ему работа шофера.
…Теперь, лежа на раскладушке в пыльных сенцах, он снова пережил ту давнюю тоску мести, зависти и ненависти.
«Хиляк! – подумал он. – КРАЗ ему подавай!.. На что ему КРАЗ, этому хиляку, заморышу?..»
3
Апуш подъехал к дому и с подножки КРАЗа увидел поверх забора, как взлетает желтая древесная пыль, как с треском вскидываются вверх доски, услышал, как ударяются оземь плотные тяжкие стропила.
Он медленно пошагал к воротам и, открыв калитку, остановился. Крыши над амбаром не было, из глубины его, из нутра, как облачка глубокого, трудного вздоха, подымалась пыль, почти пыльца, и медленно рассеивалась. На земле лежали бревна и доски. Возле баньки раскиданы некогда ярко крашенные, а теперь выцветшие чемоданы.
Он вернулся в машину, сильно захлопнул за собой дверцу и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. Вот уж не думал, что ему доведется увидеть этакое!
С тихим стоном он прижал ладонью сигнал – прокатился мощный отчетливый сигнал и словно напомнил ему о другой заботе, которая была посерьезней других: КРАЗы, поговаривали, передают Бобровскому карьеру – это в сорока километрах от города, там у них будто бы уже и гараж готов. Что, если правда? Нет, свой КРАЗ он не отдаст никому! Да ведь машину у него и не отбирают, а направляют в Бобровку. Вот и он поедет в Бобровку, снимет там комнатку, а на воскресенье будет приезжать в город – проведывать бабушку. Или он будет вставать пораньше и выходить за город и ловить попутную, это ему нетрудно. Ну, может, спать придется поменьше. С Длинным Заки надо будет посоветоваться.
…Из калитки вышел Длинный Заки, раскачиваясь, вяло стряхивая пыль с пиджака. Стал близко у кабины и, задрав голову, увидел тоскливое лицо Апуша.
– Ну, как дела? – бодро спросил он.
Апуш повернул к нему лицо, не шевельнувшись туловищем, и сказал – глаза его будто не видели Длинного Заки:
– Неважные дела… Дизеля хотят передать в Бобровский карьер.
– Что? Что? – сказал Длинный Заки.
– Бобровские шофера будут работать на тех дизелях…
– Что?..
– Но если я поеду в Бобровку и буду там жить, то дизель у меня не отнимут…
– Я весь амбар, черт подери… весь развалил! – крикнул Длинный Заки. – Нету вас амбара, понял? Дизеля-а, черт подери!..
– Дизель я никому не отдам, я в Бобровку поеду…
– Поедешь, поедешь, – пробормотал Длинный Заки и вдруг побежал, раскорячивая тяжелые длинные ноги, к своему дому. Вскоре открылись ворота, и Заки выехал на своем «Москвиче».
Он поставил автомобиль рядом с КРАЗом, это сверкающее, чистенькое ничтожество, и посидел с минуту, высунув из кабины голову. Затем вышел, захлопнул дверцу и отошел в сторонку – поглядеть.
– Какой же я дурак, – услышал он, – ох, какой же я дурак!
– Ты… чего это, а? Ты о чем? – обеспокоенно спросил Длинный Заки. – Ах, да его не поймешь! Одно долдонит: «Дурак, какой же я дурак…»
4
По всему дому распространились вкусные запахи, – жена готовилась встречать гостей. Длинный Заки сидел у окна. Ветер упруго терся о стекла, летали белые мухи – как быстро лето прошло. «Еще две осени до пенсии», – думал Длинный Заки.
– Эй! – окликнул он. Жена в ту же минуту стала в дверях, разгоряченная жаром плиты. На ее лице было выражение кроткой и глупой радости, как у немой. – Ладно, – сказал он, – ступай.
Жена послушно исчезла.
«Дура», – подумал он обычно. Он считал ее как бы виноватой в том, что она согласилась стать его женой, когда он, разъязви ее, сходил с ума по дочери Шафигуллы. Не нравилась Длинному Заки ее покорность, которую сам же он и вколачивал в нее своей суровостью. Он гулял от нее не втихомолку, а явно, искал не забвения, не встреч послаще, а добиваясь подспудно непокорства жены, гордого отвержения, но так ничего и не добился, кроме опустошающей душу свободы…
Между тем, слышал он, явились гости. Дочь Аниса пришла с сыном однорукого Ахмеда. А он все сидел, посунувшись к окну, и ждал. Наконец он увидел Апуша: тот шел, сцепив руки на крестце, ссутуленный, усталый и задумчивый. Длинный Заки спешно перешел ко второму окну, затем перебежал к третьему и глядел, почти касаясь лбом студеного стекла. Наконец крепко постучал в стекло, и Апуш, вздрогнув, но не нарушив прежнего выражения на лице, повернулся к окну.
Длинный Заки грузно проспешил через кухню, не обращая внимания на хлопотавших там старушек, и выбежал на улицу.
– Сосед, – сказал он, заступая ему дорогу, – сосед, гости у меня… зайди, уважь! Аккордеон возьми, песенки поиграем, а?
На лице у парня слабо отразилось протестующее выражение, но он сказал:
– Ладно, зайду.
Длинный Заки вернулся в дом и сел в передней.
Когда в дверях наконец-то появился Апуш, Длинный Заки встал и пошел ему навстречу, гостеприимно улыбаясь, уютно, притягательно раскидывая руки. Он бережно принял из рук соседа аккордеон. И потом, пока медленно, скучно расшевеливалось застолье, он смотрел упорным, сосредоточенным взглядом на аккордеон и не слышал, о чем говорили гости.
Он засуетился, заметив, что Апуш вертит в пальцах, расплескивая вино, легонькую рюмку – весь в какой-то невеселой сокровенности.
И мягким, но непреклонным жестом отнял у него рюмку и сказал:
– Нам, сосед, в стаканы бы налить. О чем думаешь?
И прежде чем тот встрепенулся и блеснули сквозь туманец усталости глаза, он понял, что зря спросил. И вот, морщась, кривясь лицом, то подвигаясь к Апушу, то изнеможенно отстраняясь, он слушал.
– Обидно, дядя Заки, такая техника под открытым небом стоит. Мастерских нет, есть только смотровая канава…
А дочь Аниса и сын однорукого Ахмеда, студент-медик, говорят о своем. Апуш точно не слышит их.
– …Холода наступили, песок примерзает ко дну, за смену с полкузова нарастает. Самое время сделать двойное дно… подвели бы выхлопные газы, чтобы кузова обогреть. Да, говорят, листового железа нет…
Аниса с сыном однорукого Ахмеда продолжают о своем. Аниса жалуется, немного жеманясь:
– Я с ног валюсь от работы, а надо столько заниматься! Профессиональный пианист должен заниматься по шесть часов каждый день. Мне, как минимум, два – только тогда добьешься некоторой беглости.
Дура, специальность есть, а впряглась на пять лет музыку заочно учить!
– Слушать внимательно! – гаркнул Длинный Заки, вскидываясь над застольем. – Слушать!.. – И он решительно взял аккордеон, пронес его над головами гостей и ткнул в колени Апушу. – Сыграй им «Сарман-реку».
Он смотрел на Апуша в упор, он вроде умолял, даже грозил своей угрюмостью и нетерпением и, когда тот заиграл, молча, угрюмо дослушал до конца, и сказал, как вынес приговор, не подлежащий никакому сомнению:
– Хорош!
– Да, хорошо, – сказала дочь, искренно соглашаясь, но недоумевая, чего же хочет отец.
– Хорош, хорош! – повторил он, как бы требуя еще, еще похвал.
И она, недоумевая и боясь, что, если рассердит отца, гнев его обрушится на ни в чем не повинную мать, сказала, повернувшись к Апушу:
– А почему бы тебе не записаться в музыкальную школу для взрослых? Есть вечернее отделение…
Апуш пренебрежительно усмехнулся, притянул к себе инструмент и заиграл «Аллюки».
Старушки расчувствовались, гости наперебой стали хвалить артиста, даже молчаливый однорукий Ахмед ласково ткнул его культяпкой.
– Во! – гаркнул Длинный Заки, выставив большой палец.
Апуш сидел, вскинув ошеломленное лицо, бессловесный, не защищенный перед напором восторга и лести, и вряд ли понимал, что Длинный Заки, хваля его игру на аккордеоне, хулит, уничтожает его главное ремесло, без которого ничто другое ему не радостно.
Наконец он встал, сильно покачнувшись. От смущения он пробормотал что-то несуразное, потешное – что-то про аккордеон, про то, что мог бы сыграть еще лучше. Когда он кое-как набросил на плечи пальто, Длинный Заки сунул ему в руки аккордеон и глядел с минуту, как стоит он, шатаясь, глупо улыбаясь жалким побледневшим лицом и прижимает к узкой груди сверкающий инструмент.
– Ну, ступай, – сказал Длинный Заки. – Иди, иди, говорю. – И не вышел его проводить.
Утром Длинный Заки опохмелился и, прихватив бутылку водки, пошел к соседу.
Апуш сидел на кухне – в трусах и майке, растрепанноволосый – и чему-то криво усмехался.
– Доброе утро, сосед, – сказал Длинный Заки.
– Нехорошо вчера вышло, – отозвался Апуш. Тонкий голос его хрипел. – Стыдно… Никогда я столько не пил.
– Бывает, – сказал Длинный Заки. И вдруг на полуслове смолк: в углу, в полутьме, лежал разнесенный в щепки аккордеон.
– Эт-то зачем же? – спросил он сиплым резким голосом. – Не пожалел, а?..
Апуш не ответил, глянул на часы и зашаркал в сумрак комнаты, затем вышел оттуда одетым. Он умывался, медленно утирался большим и мохнатым, кажущимся в его руках тяжелым, полотенцем. И Длинный Заки молча наблюдал за ним, не смея окликнуть, скованный его невозмутимостью, отрешенностью от всего – от разбитого инструмента, от присутствия Длинного Заки, и даже тяжелого похмельного состояния для него вроде не существовало. Весь он был – опять! – в заветной своей сокровенности, и перед мысленным его взглядом опять, наверное, маячила огромная машина.
– Зачем же? – повторил Длинный Заки и почувствовал отчетливо, остро всю силу своей ненависти к этому худосочному парнишке, несокрушимому, и твердому, и равнодушному ко всему, что не имело отношения к его профессии, – он даже не замечал ненависти к себе! Вот только в этом – неведении, слепоте, – пожалуй, он был уязвим. Длинный Заки извлек из кармана бутылку и поставил ее на стол.
– Освежимся! – сказал он твердо. – По маленькой. Потом зажуешь чаем, никакой зануда не учует.
Глотая жгучую теплую жидкость, он смотрел, как пьет Апуш. Затем быстро поднес ему на вилке кружок ссохшейся неочищенной колбасы и опять проследил, как тот жует – бесстрастно, медленно, вроде плохо соображая, что он делает.
5
Когда внутри у него, от груди по всему животу, почти до паха, распространилась горячая волна, он, вдруг опомнившись, глянул на стол, увидел ополовиненную бутылку, стаканы и с запоздалым чувством протеста укорил себя.
С улицы послышался гудок дежурной машины, он вышел к бабушке, сказал, что за ним приехали, что обедать он будет в столовой, и с Длинным Заки они вышли в студеное подслеповатое утро.
…Дежурная машина въехала на территорию гаража, освещенную лучами двух прожекторов и крепнущим светом утра. Апуш выпрыгнул на ходу через задний борт кузова и пошел туда, где в ряду других стояла его машина.







