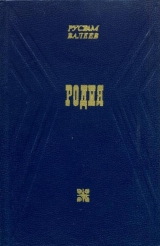
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Досье Дамир
1
Отец у него починял гармошки, целые дни просиживая у окна, – глаза уже видели плохо. Прохожие заглядывали в окно – отец чертыхался, а то еще поворачивался спиной к любопытным, задирал рубаху и дурашливо чесал поясницу.
Дамир с сожалением думал: «Зачем он так делает? Ведь каждому, наверно, интересно подглядеть, как хрипловатые планки соберутся, замкнутся в темном блестящем ящичке и запоют так звонко, так хорошо».
Когда, случалось, подвыпивший горожанин принимался плясать под окном, отец обрывал игру и отступал в сумеречный угол. Глаза его блестели оттуда, как из засады.
Странный он был человек. Пообещает хозяину гармоники, что починит к такому-то сроку, и не сделает. Хозяин попрекнет слегка, посмеется смущенно. Отец в ответ хмурился, выпрямлялся и, приложив руку ко лбу, будто всматривался вдаль, – показывал свое превосходство. А горожане ничем его не обижали, разве что подвыпивший плясун ругнется, да и то без злобы, а только с досады. Отец, возможно, был обижен на судьбу, которая оставила его прозябать в городке, и он всячески подчеркивал разницу между собой и всякими там лошадниками, скорняками, шапочниками.
Он был страстный любитель кино. Сперва смотрел фильм в кинотеатре «Марс», потом шел в клуб дортехшколы, куда перекочевывала картина, затем – в клуб кожзавода, в Красные казармы к солдатам. И всюду водил с собой Дамира, даже на поздние сеансы. Горожане говорили: мальчонку пора обучать ремеслу, а он его по клубам таскает. И хотя говорилось это смехом, Дамиру чудились в голосах горожан намеки на то, что может ожидать его, если он останется необученным. Он подымал глаза, как бы ища защиты у отца, и видел его горделивый жест: выпрямившись и поднеся ладонь ко лбу, отец как бы всматривался вдаль, презирая тех, кто смел потешаться над ним…
Когда умер отец и дом заполнили старушки, мальчик стоял, высокомерно глядя над головами старушек, презирая, как ему казалось, суету горести, мельтешение жалости. Но утром он убежал далеко за речку, взобрался на студеную скалу над омутом и лег у входа в пещерку. Пролежал там все утро и день, пока опять не остыли камни. Потом он медленно спустился по каменистой осыпи, по скользкой траве и вошел в горячую пыльную улочку.
Среди отходящих дневных звуков ему слышалась одна запавшая в голову мелодия из фильма и виделись дома и каналы Неаполя. Шуршала, набегая, вода, гомонили люди на берегу, наконец из тумана моря возникала лодка, и молодой рыбак, глядя на берег, усыпанный людьми, начинал петь. Он пел, как бы призывая себя бросить, презреть все, и уйти, и покорить Неаполь, весь мир.
И вот он покидает рыбачий поселок… стучат копыта, потрескивают колеса в сумраке Венского леса, клонящего ветви к высокому лбу над грустным лицом… нет же, это не парнишка-рыбак, это Штраус едет в коляске, стучат копыта, назревает музыка «Венского вальса»!
Мальчик остановился и перевел дух, точно сам пел. Музыка замирала на высокой ноте в темнеющем небе городка, камни и волны побережья, каналы и дома Неаполя стремительно теряли очертания…
Он шел и не замечал городка, и даже заветный домик с низкими оконцами, почти глухо закрытыми кустами акаций, – даже он не задержал мальчика. Задержал ее голос.
– Иди сюда, иди же сюда! – услышал он, как звала его Катя, белея платьицем в сумерках. – Где ты пропадал? Ты хочешь есть?
Он удивился ее вопросу, но ответил спокойно, точнее, равнодушно:
– Да, я бы поел чего-нибудь.
Она тут же убежала, оставив калитку открытой.
Она вынесла ему огурец, кусок мяса и почти полхлеба.
Когда он поел, Катя позвала его к реке… Мокрые мостки блеснули. По темной глубокой тропинке меж высоких белесых кустов полынка спустились они к воде. Песок здесь был мелкий, мягкий, не то что у подножия скал – колючий, почти режущий.
– Катя, – заговорил он, найдя ее руку и сжимая крепко. – Знаешь, может быть, я сыграю когда-нибудь… – Поднялась и зазвенела в темноте над водой мелодия, которую, кажется, отец все пытался ухватить, но так ему и не удалось. – Наверно, я сам смогу придумать что-то такое… или сыграть в кино Федьку-партизаиа…
– Да-а, – ответила она, – да! И, может быть, я… нет, я только послушаю и скажу тебе, что это… хорошо, так хорошо!
Городок в яркие дни похож был на цыганку: неряшлив, пылен, смугл, цветаст. Приезжие бывали небрежны к нему, но не любоваться не могли. Прежде любили они ходить с отцом по улицам его. Потомок поволжских хлеборобов, чьи горемычные сыновья и внуки давно уже забыли плуг и борону, запах земли и спелого хлеба, – он учил сына городу, водил у древних соборов и мечетей, замысловатых домов, кладбищенских стен и часовен, рассказывая историю каждого сооружения.
Но вот отец умер, и мальчик ходил теперь один, сиротливый и скорбный, дитя городка, в котором еще многое-многое было ему незнакомо. Но одно местечко он знал близко, и его там знали. Это был сенной базар. Так он назывался с той поры, когда городок был богат и знаменит, встречал и провожал караваны из Индии, Бухары, прикаспийских степей, Вычуга и Тобольска, – с той поры, когда имел, кроме сенного, еще и конный базар, и мануфактурные ряды, и шикарные пассажи, и просто толкучку, где отиралась разная шантрапа. Сейчас на сенном продавали сено, хворост и полынь в связках, древесный уголь, кизяк, березовые веники и березовые дрова, бывало, коней продавали, ходки на рессорах. И всегда здесь толокся разноликий люд: голубятники, воришки, картежники, цыгане.
И вот в один из дней яркого бабьего лета мальчик стоял на краю сенной площади, вприщур глядя на пестроту, суету, слегка морщась от шквального наката голосов. Потом он заметил, что к нему направляется карманник Роба. Правое плечо высоко вздернуто, левое повисло. Он щурился и сплевывал сквозь фиксы.
– Здравствуй, Дима, – сказал он, протягивая тонкие, вялые пальцы. – Я слышал, Дима, отца ты похоронил. – Он вздохнул, вынул за уголочек платок из нагрудного кармашка и вытер губы. – Что поделаешь, Дима, жизнь.
Дамир не ответил.
– Я в город Фрунзе еду, Дима. Поедем, слушай!
– Зачем же ты едешь? – спросил Дамир, глядя на его худое наивное плечо.
– Крыс у нас поразвелось… пики под рубахами носят, щенята! – Робик презрительно усмехнулся. – Поедем, слушай!
Дамир отрицательно покачал головой. Робик двинулся своей дорогой, а Дамир пошагал в толпу. У забора под косым навесом сидели шапочники, сапожники и прочие торговцы – кто скобяной мелочью, кто уздечками или поясными ремнями, кто старьем. Дамир приостановился около чемоданщика Фасхи. Фанерные желто-, красно-, коричнево-крашенные чемоданы окружали его, точно развалины карточного домика, а чемодан, обитый дерматином, был под ним, прикрытый полою брезентового плаща.
– Мать приходила, – сообщил чемоданщик Фасхи. – Я говорю: «Если твой парень не побрезгует, то через три месяца научится делать чемоданы».
Дамир только усмехнулся.
– Может, ты и прав, – быстро согласился чемоданщик Фасхи, но обиды ему не удалось скрыть. – Тебе к шапочнику Ибраю надо идти – в самый раз.
Дамир опять усмехнулся и пошагал дальше. Он увидел, как на площадь въехал на своей полуторке Мишка-цыган и, высунувшись в окошечко, стал слушать спор торговца березовыми дровами и покупателя. Торговец кивал то на дрова, то на тощую унылую лошадку и доказывал, что ему нет резона везти дрова за речку по кривым разбитым улочкам, а лучше продать тому, кто живет поближе. Тогда Мишка-цыган посигналил чуть и кивнул покупателю.
Дамир подошел к Мишке, когда дрова были сняты с повозки и погружены в кузов автомобиля.
– Привет, Дима, – оживленно сказал Мишка. – Я слышал, ты себе дельце подыскиваешь? Айда ко мне стажером!
Дамир покачал головой, совсем так, как на предложение Робика поехать в город Фрунзе.
– Да, никак, он и шофером не хочет? – услышал он удивленный голос и увидел пимоката Зевакина. – Может, отец ему наследство большое оставил?
Из-под навеса крикнули:
– Ты спроси, Зевакин, может, он по дворам пойдет тряпье собирать?
– Или, может, коней красть надумал?
– А жену чем будешь кормить?
– Что, ты сам показываешь кино?
Назавтра он опять был на сенном базаре. С Робиком они сидели в тени огромного фургона, запряженного волами. Робик угощал пирожками с требухой. Потом он убежал куда-то, а вернувшись, лег возле огромного колеса.
Дамир начал подремывать, когда вдруг услышал возгласы: «Держи! Во-он, держи-хватай зимогора»! – и увидел, что прямо к фургону бегут пимокат Зевакин, сапожник Шавкет, а за ними еще с пяток завсегдатаев базара и вопят почем зря. Он ощутил толчок в спину и, плохо соображая, что делает, вскочил, ошеломленно глядя на подбегающую толпу.
– Беги! – пронзительно крикнул Робик, и он рванул за Робиком, не чувствуя за собой вины, а только отвращение к вчерашним обидчикам.
Он ведь ни в чем не был виноват, а базарники – не могли же они заподозрить его в краже! – однако преследовали. Пимокат Зевакин и сапожник Шавкет гнались за Робиком, а остальные бежали именно за ним, только за ним.
Он резко остановился и повернулся к преследователям.
– Чего надо?
Те остановились и точно боялись подступиться к нему. Один из них, известный маклер Харун, ответил:
– Да мы хотели догнать тебя и спросить: не хочешь ли ты сделаться карманником?
– Или, может, ты хочешь быть гармонистом?
Он крикнул, задыхаясь от возмущения:
– Болваны! Дураки!.. Чего надо?.. Болваны!
Он изнемог, но у него хватило сил выпрямиться, приложить ладонь ко лбу и глянуть как бы вдаль над этими злоязыкими, беспощадными базарниками.
– Ха! – услышал он. – Он, как и отец его, тронутый! Эй, ты, тронутый, хочешь шить шапки? Хочешь валенки катать? Не хочет.
И опять он был на базаре. Он уверенно подошел к навесу и вежливо поздоровался. Он был слишком серьезен, чтобы над ним сейчас отважились посмеяться.
– Зря вы ругаетесь, – сказал мальчик. – Может быть, я и соглашусь учиться у шапочника или пимоката. Но почему бы вам не пойти ко мне во двор и не посмотреть кино? Бесплатно, а?
Те удивились:
– Бесплатно, говоришь? Значит, из этого самого ты не хочешь делать ремесла, раз не просишь денег?
– Нет! – сказал он. – Я приглашаю вас! Ну?
День склонялся ко второй половине, базарники отупели от зноя, их лица были скучные, изнывшие. Они стали переглядываться друг с другом, стыдливо посмеиваться и наконец согласились. Он шел впереди, а все они кучкой шли поотстав, как свита маленького принца в царстве духоты и пыли и бубенцовых ударов зноя.
В сарайчике у Дамира была натянута простыня, сбоку к стене приколочен кусок холста с кармашками, над каждым из которых висела табличка с названием фильма. Кинопленки он добывал у киномеханика Самата, а платил ему тем, что таскал коробки с кинопленками от кинопроката до «Марса».
И вот базарники, пропахшие потом, спиртом и кожами, шли гуськом в дверь, тяжко пыхтя, матюкаясь от смущения, и рассаживались кто где мог. Оставив их в полной темноте, мальчик вышел из сарайчика, приставил к отверстию в стене увеличительное стекло и стал крутить пленки. Вскоре он услышал приглушенные голоса: «Ишь ты! Картинки-то как живые! Ну и парень!»
Минут через двадцать вся эта братия вышла гуськом из сарайчика, ошеломленная, глуповатая, – наверное, все у них в голове чудно перемешалось. Еще бы: ведь он прокрутил обрывки из десятка фильмов!
Чего он добился? Нескольких минут победы, превосходства? И того, что на следующий день базарники встретили его взглядами, намекающими на некую общую тайну?
Он стоял на краю сенной площади, глядя на копошение толпы, морщась от криков, дурея от запахов, с слабым отблеском надежды в печальных глазах. И тут он увидел Самата, хромающего меж возов, и подбежал к нему.
– Самат! – сказал он с болью в голосе. – Самат, – и, ухватив того за рукав, дернул в отчаянии, – неужели меня не возьмут в кинотеатр, а, Самат? Ведь ты мог бы словечко сказать…
Самат поглядел на него пристально.
– Ты хорошо начал, малыш. Всякий уважающий себя человек начинал так или примерно так. Но не будем спешить. Городу пока хватает трех киномехаников. – Он задумался, вынул кисет и стал крутить цигарку. – Приходи сегодня к прокату.
– Опять? – сказал он почти плачущим голосом. – Как всегда? Ты не думай, мне не тяжело тащить кинобанку…
– Приходи, – повторил Самат.
Мальчик едва дождался вечера и помчался на угол к кинопрокату, где с пяток мальчишек уже стояли, дожидаясь Самата. В этот день все было как прежде: получив кинобанки, они поделили их между собой и понесли к «Марсу», Самат пропустил мальчишек в зал, но Дамира позвал с собой в кинобудку. И подряд три сеанса мальчик подавал Самату бобины с пленками, когда надо было менять части, глядел в объектив на экран, а потом подмел в будке, сложил бобины и сел отдохнуть.
Теперь каждый вечер он пропадал в кинобудке, исполнял все, что ни прикажет Самат. Однажды в перерыве между сеансами к ним заглянул директор проката Капустин и спросил, почему в аппаратной находится посторонний.
Самат уверенно посмотрел на директора и сказал:
– Вот кто поедет в Белебей, Иван Яковлевич. Уж если кого посылать в Белебей на курсы, так вот его! Образованный парень, семилетку закончил. И имеет правильный взгляд на самое массовое искусство!
Директор весело хмыкнул и, потрепав Самата по плечу, вышел из аппаратной.
– Белебей – столица лаптей! – ликующе крикнул Самат.
И мальчик спросил растерянно:
– Столица лаптей?
– Столица лаптей, – повторил Самат, – точно! Сам увидишь и скажешь, что дядя Самат не врал.
2
Белебей был прекрасный город! Мальчик хорошо это понимал теперь, вновь очутившись в городке и сидя в худом сарайчике, где по-прежнему висела простыня с бурыми потеками и холст с кармашками и табличками над ними; сквозь щель пронзительно бил в сумрак солнечный ретивый лучик. И теперь, задним числом, каждый шаг по земле Белебея казался интересным и значительным; каждый шаг на пригорок, где стояла школа киномехаников и куда они подымались, меся студеную липкую грязь босыми ногами, а ботинки держа в руках; каждый шаг на базар за картошкой, где они стоически выдерживали соблазн купить что-нибудь вкусное; каждый шаг вокруг огромной груды лаптей, свезенных на продажу, такой огромной, что ему вспоминалась картина с изображением горы черепов и воронья над нею…
Теперь он сам показывал кино в красном уголке дортехшколы, кожевенного завода и в казармах у солдат. Аппаратуру приходилось носить на себе, но он не унывал, носил: кожевенный завод был совсем рядом, а на пути в казармы всегда попадались солдаты, возвращавшиеся из увольнения, и помогали ему. Дортехшкола стояла далеко – надо было шагать за речку и подыматься в гору с километр, а то и два.
И вот однажды тащился он в гору, обливаясь потом. И обогнала его телега, этакий вихлястый шарабан, полный цыганок и цыганят. А за шарабаном верхом на гладком истовом коне ехал Мишка-цыган, бывший шофер полуторки. Он остановил коня и поднес ладонь козырьком ко лбу.
– Ой-ё-ё! – сказал он, словно любуясь Дамиром, а на самом деле любуясь собой. – Ой-ё-ё, кого я вижу! Я к твоим услугам, Дима, если, конечно, пара цыганят бесплатно смогут ходить в кино.
И правда, иной раз он выезжал со двора на гладкой истовой лошади, запряженной в узкий потрескивающий ходок, и вез Дамира с аппаратурой до самого клуба. А потом возвращался пешком, ведя за руки племяшей-цыганят…
А дома был сущий ад! Младший брат остался на второй год, да и теперь учился ни шатко, ни валко; сестра Венерка, длинная красивая дуреха на шестнадцатом году, бросила школу и пропадала в горсаду на танцах, и мать пугали не столько танцы, сколько ее провожатые, совсем взрослые парни. И сам он, возвращаясь поздно, видел то у калитки, то в сенях, как мелькали дерзкие, шальные глаза Венерки рядом с горячими глазами ее провожатого.
Уступив настояниям матери, он как-то решил поговорить с Венеркой. Он поднялся утром и стал, мрачный, стыдящийся предстоящего разговора, над ее кроватью. Она спала, разбросав рыжие волосы, выпростав из-под одеяла полные белые ноги, посапывая, ухмыляясь, как ему казалось, гадко. Мать поощрительно подмигнула ему, и он, мучительно стыдясь гадкой ухмылки сестры, белых открытых ног, крикнул с дрожью в голосе:
– Вставай… дура такая! Слышишь?
Она только дрыгнула ногой. Тут он хлестнул по заду ремешком. Та, вскочив, закричала, будто и не спала.
– Не твое дело, понял! Я выйду замуж и уйду из вашего нищего дома, понял!.. Это ты живой бабы боишься, а носишь открытки артисток!..
Он плюнул и ушел в кинопрокат, не позавтракав.
Дня через два мать опять завела разговор про Венерку. На этот раз неким таинством посвечивали ее глаза.
– У иных дочери сидят, пока сухотку не наживут, – сказала она веселым шепотком. – А тут отбою нет от женихов. Вот что!.. – примолвила строго: – Придут сваты. А ты за-место отца ей. Говорить будешь!
– Она еще сопливая замуж выходить. Пусть топает в школу. Или, может быть, я пристрою ее в кинопрокат.
И тут мать заплакала:
– Опозоримся на весь город… Пусть эта гулящая уйдет честь честью!
– Ладно, пусть приходят, – сказал он со вздохом. – Только о чем мне говорить с этими сватами?
– Все скажу. Будешь знать, – пообещала мать и стала учить его.
Весь вторник, свой выходной, он просидел дома, ожидая сватов, угнетенный предстоящим событием, враждебный. И вдруг на пороге стал чемоданщик Фасхи. У Дамира отлегло от сердца. Дружелюбно улыбнувшись, он подвинул соседу стул. Мать всполошилась, схватила стул и перенесла его под матицу, а чемоданщик Фасхи, поозиравшись, сел наконец, подложив под себя шапку. Фу, черт, а он и забыл, что сват должен сесть именно под матицу и обязательно подложить под себя что-то, ну хотя бы шапку, – тогда сватовство пройдет успешно.
Чемоданщик Фасхи ерзал на стуле, морщился, изнывая непонятно отчего, – может быть, ему жалко было шапку, – и лицо его, обычно резкое, одухотворенное, когда он кричал напряженно звенящим голосом: «А вот чемоданы, чемоданы!..» – теперь это лицо расплывалось луноподобно, щерилось улыбкой отменного враля. На Дамира напала сонливость, в один миг он так неосторожно сдержал зевоту, что щелкнули скулы, – тогда-то чемоданщик Фасхи и проговорил:
– У вас золото, у нас серебро. Сольем их вместе.
Он усмехнулся прекрасному лицедейству свата и сказал поспешно:
– Ладно, давай сольем.
Мать подтолкнула его в бок. Он вспомнил, что ему надо еще покочевряжиться, даже если он и не против отдать сестру замуж.
– Погодить бы надо, – сказал он. – Рано ей замуж.
Опять чемоданщик Фасхи нес околесицу, после чего Дамир сказал:
– Ладно, мы еще посоветуемся с родичами.
Теперь свату полагалось уйти, а им звать родичей и советоваться. Но родных у них в городке не было, и условности тут были немного нарушены.
– Ладно, – сказал чемоданщик Фасхи. – Давайте мету, да я пойду.
И мать поспешно сунула ему в руки полотенце, мету, которая означала, что невеста, Венерка, стало быть, помечена-просватана.
В оставшиеся до свадьбы дни были встречи-пирушки с родственниками жениха. Дамир вставал пораньше и уходил из дома, а возвращался поздно и валился в свою кровать и засыпал, одурманенный усталостью, запахами табака и браги, укоренившимися в доме за эти суматошные дни…
В день приезда жениха у ворот его должен был встречать мальчонка, родственник невесты, и это с удовольствием проделал бы младший брат. Но у того, как назло, оказался синяк под глазом, и мать стала упрашивать Дамира, чтобы он встретил дружек. Ну что там: ухватить лошадь под уздцы и не пускать во двор, а потом получить подарок и исчезнуть из дома, если ему так хочется.
– Ты у меня худенький и малорослый, так что и за мальчонку сойдешь.
И вот он стоял у ворот, глядя в конец улицы, худой и малорослый, и мальчишеская челка косо падала ему на сморщенный лоб. День был яркий, ворота растворены настежь, из открытых окон ретиво звенели тальянки, зевак полно, так что он сместился во двор и не видел, как вывернулась из-за угла повозка, расцвеченная лентами, с колокольчиком под дугой. И дружки, не замечая у ворот никого, хотели, видно, проскочить, не сбавляя хода, а может, не знали обычая. Уже во дворе он метнулся к оскаленной морде лошади и повис на узде. Тут из окон закричали: «Раздавите мальчонку! Остановитесь!..»
Он выпустил узду и, шатаясь, похрамывая, пошел от повозки, косясь на гульливую братию, – он искал глазами жениха, он еще надеялся, что тот окажется приятным на вид, на душе стало бы легче. Но жених был явно стар, то есть, конечно, не белобородый старик, но для шестнадцатилетней Венерки этот матерый, с синими от скобления скулами, с глазами прожженного блудника, был стар…
Гостей садили за стол, вкусно пахло угощением, но в суматохе о нем забыли, не позвали. И пора было бежать на работу. Запахи долго его преследовали, усиливая чувство голода, усталости, собственной ненужности и тоски.
Вид у него, наверное, был неважный, потому что Самат сказал:
– Гляди-ка, ему дают лучшую картину сезона, а он будто любимого ишака похоронил!
– Ничего, ничего, – отвечал он, хватая бобину, оживляясь. Настроение было хуже некуда.
Потом он шел к речке, тащил аппаратуру и бобину с пленками. А жители городка тоже спускались к речке и спрашивали:
– Ты несешь «Аршин мал алан»?
– Да, – отвечал он и вздрагивал, будто готовили ему какую-нибудь каверзу.
Но горожане были веселы и дружелюбны, взяли у него аппаратуру, а мальчишки поделили бобину, так что он налегке шел в гору и рассказывал, какая замечательная получилась картина. Два или три поколения горожан знали эту забавную историю проворного парня Аскера, и не было, наверно, ни одного, кто не смотрел ее или сам не играл на клубной сцене…
Билеты все уже были проданы, счастливчики рассаживались по местам, а люди все шли, и он, взмокший от пота, счастливый, повторял охрипшим голосом:
– Все, все, говорю! Билетов больше нет.
Двери закрыли, а толпа все шумела и прибывала. И он побежал, растворил окно и, встав на подоконник, закричал:
– Пожалуйста, не волнуйтесь… сегодня два сеанса! А завтра кино у кожевников!..
И тут он увидел в толпе Катю. Сперва он растерялся, потом замахал руками, приказывая толпе:
– Прошу! А ну, прошу пропустить!.. – И толпа послушно расступилась, и Катя, крепче прижимая к себе портфель, отряхивая со лба волосы, стала пробираться к нему, улыбаясь, блестя ярко глазами. Он поднял ее на подоконник и захлопнул окно.
И вот с экрана запел аршинмалчи, пока еще просто себе купеческий сын, еще не лукавый аршинмалчи, и песня у него печальная, почти заунывная. А потом он даст жару, потом он плясать будет на диво своей тетушке и такую ли песенку споет:
Я любовь свою нашел,
Под собою ног не чую —
Свою милую нашел!..
Не уставая, пел этот парень-аршинмалчи, и страстно вторил ему Дамир… Сперва он и не слышал, что экран онемел, а в зале смеются, потом глянул в объектив и бросился исправлять звук. И опять пел вместе с аршинмалчи, и с его продувным слугой, и с невестой, и с тою толстой тетушкой.
Запоздно он вышел из клуба. В глубине улочек замирали голоса. А Катя, конечно, раньше ушла, после первого сеанса. Он пошагал под горку улочками гончарной слободы, перешел мост и остановился. От усталости и голода кружилась голова, в глазах проносились отрывки чужой, давней чьей-то жизни… Гости, наверно, разошлись, а мать с соседками убирает остатки угощения, моет посуду. Ах, глупая, зачем поставила его у ворот? «Нет, – подумал он, – не стоит обижаться». И громко запел:
Соловей над розой алой
Серебром рассыпал трель…
Он пошагал, улыбаясь, глядя в небо на пролетающую звездную стаю.
Соловей над розой алой…
Он услышал, как растворилось окно, и рядом с белой занавеской замерла чья-то фигура. Когда он прошел дальше, распевая свою песенку, то еще одно окно растворилось. И еще. Они слушали его. Слушайте, слушайте! Пусть вы обидели меня, посмеялись надо мной… слушайте, открывайте окна, приподымитесь на цыпочках, затаите дыхание, слушайте!
Соловей над розой алой…
Миновал год. Он был отмечен несколькими событиями в жизни городка. Во-первых, на его улицах стали курсировать автобусы. Во-вторых, Венерка вернулась в родительский дом с ребенком на руках. Правда, еще случился пожар, и о нем поговорили всласть, но пожар отдельно не был событием – он был частью Венеркиного возвращения, потому что случился во дворе у Дамира, и сгорел сарай с его экраном, с кинопленками и табуретками. Говорили, муж Венерки подстроил, но вряд ли – он давным-давно укатил куда-то в Чимкент, да и зачем было поджигать ему сарай?
Как-то, выйдя из кинопроката, груженный аппаратурой и бобиной Дамир направился к автобусной остановке. Он пристроился на заднем сиденье, и кондукторша пробралась к нему, когда уже отъехали порядочно.
– За багаж уплати, – сказала она, и вдруг, вглядевшись в банки, на которых было написано «огнеопасно», побледнела и, нажимая на кнопку сигнала, закричала шоферу:
– Останови! С огнеопасным грузом пассажир!
Шофер остановил машину, вошел через заднюю дверь и молча, с суровой миной, за которой, может быть, прятал страх, вынес кинобанки, поставил у дороги и облегченно, зло прошипел:
– Машину мог взорвать… балда!
Автобус поехал, скрылся за поворотом, а Дамир смотрел на взбаламученную пыль, ухмылялся, глотая в горле комок, и бормотал: «Ничего, это ничего». Но было ах как обидно! В перерыве между сеансами он написал заметку и наутро отнес ее в редакцию, а еще через день держал в руках газету и десятки раз повторял свою фамилию, стоящую под заметкой. Наконец он прочитал и заметку, и в ней, кажется, не изменили ни одного слова, во всяком случае, заголовок был у нее такой: «Как заблагорассудится шоферу».
К тому времени злость и обида у него прошли, но теперь он чувствовал какой-то страх – например, перед возможностью оказаться опять у края дороги с выброшенной аппаратурой. Или у ворот в ожидании жениховской повозки. Но почему это-то вспомнилось? Нельзя же обо всем писать в заметках…
Так он шел, посмеиваясь над собой, и вдруг услышал позади потрескивание колес, бодрый храп лошади. Он обернулся и увидел Мишку-цыгана.
– Читал! – крикнул тот, придерживая коня. – Читал, читал, здорово, Дима! – И улыбнулся так ласково, обожающе.
На скамейке у ворот сидели соседи, тетя Биби с мужем, и муж ее, здороваясь с ним, приподнялся с лавочки:
– Здравствуй, сынок. Читали в газете…
Он поспешно прошел мимо соседей, от калитки бегом пробежал до крыльца и там остановился, приложив ладони к горячим щекам. Дома Венерка сидела на кровати, прикачивая на коленях своего мальчонку, и читала газету. Когда он вошел, она отложила газету и глянула на брата удивленно. Лицо у него пылало, он торопливо направился во вторую комнату, но мимоходом заглянул в газету и увидел, что его заметка толсто отчеркнута карандашом.
Сперва он лежал на спине, что-то шепча, чего-то стыдясь и чему-то радуясь. Потом, сморенный необычным возбуждением, уснул, а когда открыл глаза, окна были темны. Он умыл лицо, попил чаю и пошел в вечернюю школу встретить Катю. Ученики уже расходились, и он повернул назад и стал на углу. Из толпы ребят кто-то крикнул:
– Ты Катю ждешь?
– Катю, – ответил он.
– Она не была в школе.
Было уже поздно, но он пошел к ней. Акации в палисаднике были обсыпаны светом из окон, В ее оконце он бросил камешек и, не задерживаясь, прошел к калитке. Он улыбнулся про себя, когда они одновременно ступили на порожек калитки.
Смеясь, охватывая себя руками, она сказала:
– Ты бы еще позже явился! Ну, как у тебя дела?
Ему показалось странным, что так она спрашивает, будто они целую вечность не виделись. Словно пытаясь ее понять, он спросил:
– А у тебя?
Она опять засмеялась:
– Что у меня… Ведь я уезжаю.
– Куда? – спросил он. – Сейчас?
– Почему сейчас? Может, послезавтра. Ты Лильку знаешь?
– Не знаю, – сказал он.
– Знаешь, Лильку-то!
– А-а, – сказал он.
– Вот. Она едет в Челябинск. И я с ней.
– Ты мне ничего не говорила.
– Поедем, – сказала она, – поедем! Ну что нам здесь?
– Белебей – столица лаптей, – проговорил он как бы про себя.
– Что ты? О чем?
Он, усмехнувшись, ответил:
– Да вспомнил… ерунда вообще-то.
А что вспомнил, то не было ерундой. Приятный озноб страха и восторга пронизал его, как в тот день, когда Самат сказал ему про поездку в Белебей. Он встряхнулся, отступил от нее и сказал, как бы напрашиваясь на ссору:
– А я не поеду, потому и не поеду, что мне ты ничего не говорила…
– Только поэтому? Только поэтому! Так вот, я скажу… прости меня, я дура, что раньше не сказала. Ты простишь, правда? И мы поедем…
Он молчал. На кого он оставит стареющую мать, глупую бездельную Венерку с маленьким ребенком, брата-школьника. Каково им придется без его помощи? Но об этих причинах ему не хотелось говорить Кате, такой возбужденной, веселой.
– Видишь ли, – сказал он глухо, – видишь ли… в общем, ты поезжай. Я, конечно, тоже приеду, – поспешно добавил он. – Только не сейчас… когда-нибудь.
– Когда?
– Не знаю, – ответил он искренно.
После ее отъезда он ходил унылый, отрешенный и чувствовал себя не то чтобы обделенным, а так, будто в любую минуту ему прикажут торчать у ворот в ожидании жениховских дружков, или выставят из автобуса, или погонятся за ним, как однажды гнались базарники.
На автобусной остановке толпились люди. «Даже скамеек не могут поставить», – подумал он мельком. Потом он прошел дальше и вернулся, опять подумав: «Чего стоит поставить скамейки?» И вдруг помчался домой и сел писать заметку в газету.
Через неделю он получил от Кати письмо. И потом каждые пять-шесть дней получал письма: она ждала его, вот и в кинотеатре «Аврора» побывала и узнала, что там требуются опытные киномеханики. Сама она училась в парикмахерской делать женские прически.
Он тосковал и надеялся, что, может быть, Катя все-таки вернется. Он боялся думать о том, что сам поедет вслед за ней: не скоро он соберется, ох, не скоро!
Дурное настроение немного отступило, когда однажды в кинопрокате он посмотрел фильм с Лолитой Торрес. Пока на экраны города картину не выпускали, и он ходил по улицам полный звонких песен актрисы, томился, что не может передать встречным людям даже малой доли того, что увидел сам. Тут он вспомнил о газете и написал, что скоро выходит замечательный фильм, в котором играет и поет артистка Лолита Торрес; писал, напевая потихоньку запомнившиеся мелодии, и заметка получилась очень хорошая. Ее напечатали моментально. Первым обласкал его директор кинопроката Капустин:
– Мы расписывали афиши и ставили на людных перекрестках. Но газета!.. – И сгреб кучу старых журналов и отдал их Дамиру, сказав, что в журналах, может быть, он почерпнет кое-что для будущих заметок.
А как-то Дамира вызвали в редакцию.
– У вас, кажется, способности, – сказал редактор. – Есть вакансия. Как вы смотрите…







