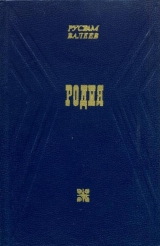
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
– Марсель, – сказала она как-то властно и скорбно, – прошу тебя, сядь вот сюда. Нет, против меня, вот так. А теперь скажи, что это? – И она подвинула к нему раскрытый дневник.
– Это? Это дневник, – отвечал Марсель.
– Это документ, мой милый! А это что?
– Это? Это родительская подпись.
Мама на мгновение опешила: ведь не могла же она сказать, что у него никаких родителей нет.
– Верно, подпись. Но чьей рукой она сделана?
– Ну, моей.
– А ты знаешь, что бывает за подделку документов? – Голос у моей мамы прозвучал совсем уж грозно. – Знаешь? Тюрьма!
– Ну, тюрьма. – Но он-то знал, что никакой тюрьмы за дневники не бывает. Между тем вид у Марселя стал до того унылый, что мать оживилась: проняло-таки проказника!
– Наконец-то ты понял. Надеюсь, впредь ты не будешь так поступать.
Когда она вышла из комнаты, я подсел к Марселю и хихикнул:
– А давай я буду расписываться за твоих родителей?
– Подбери сперва сопли, мелкота. – И он несильно щелкнул меня по лбу. – Ладно, буду давать на подпись дяде Ризе. А там – брошу учиться.
– Ну и останешься темнотой.
– Ты, что ли, будешь светлой личностью? Запомни, ты невозможная дубина!
– Зато меня не наказывают, Динку и Галейку наказывают, а меня нет.
– Тебя? – Он презрительно усмехнулся. – Тебя лупят через одеяло.
Он, что называется, заткнул мне рот. Действительно, однажды меня лупила мама – только однажды, но моя гордость была уязвлена надолго. Я курил, и тетя Лида, проходя по двору, увидела лезущий из щелей уборной дым. Скажи она об этом в тот же день, дедушка под горячую руку отхлестал бы меня, и на том бы все и кончилось. Но тетя Лида припомнила злополучный случай только через несколько дней. И сказала маме. И мама тут же прибежала домой и, возбуждая, горяча себя, закричала:
– Мерзавец, так ты куришь?
Ее смятение и нерешительность не укрылись от меня – слишком неудачное время выпало для наказания – я уже лежал в постели и сонно кутался в одеяло. На крик мамы явился дедушка.
– А знаешь, что сделал мой отец, когда заметил за мной этакий грех?
Мама закричала:
– Я сама, я сама сумею примерно наказать! – И принялась хлестать ладонями по толстому одеялу, а дедушка стоял и иронически усмехался. Боли я не чувствовал, а я ждал ее, дрожа и страдая от жалких потуг зареветь. Наконец я взвыл неискренним, озлобленным голосом, и мама оставила меня в покое. Даже Галейка понял все и съехидничал: «Меня бы так наказывали!»
Марсель, конечно, знал про тот случай и вот не преминул кольнуть меня.
– Марсель, – сказал я жалобно, – ты не рассказывай ребятам.
Я закашлялся, слезы побежали из моих глаз. Я кашлял и давился тяжестью в горле, ощущал, как набухает моя шея, мое лицо и глазам делается больно, будто кто-то на них надавливает.
– Что ты, что ты! – воскликнул Марсель, обнимая и тряся меня. – Конечно, я не скажу, вот дурачок.
Кашель на этот раз прошел быстро, но я все еще боязливо прижимался к Марселю, постепенно утешаясь его участливым бормотанием.
Что там редкие, нечаянные обиды – в остальном же я чувствовал себя с Марселем хорошо и надежно!
Но, случалось, его присутствием тяготилась моя мама. Это были дни, когда на ее уроки являлся завуч пли, того хуже, инспектор гороно. Мама приходила в смятение. Ей казалось, что ее подсиживают, третируют и только и ждут момента, чтобы уволить из школы. Обиженная, суровая, готовилась она к бою с ненавистным инспектором, ночи напролет просиживая над учебниками и с упорством зубрилы повторяя урок от начала до конца: «Дети, сегодня мы познакомимся с правописанием…» или «Земная кора и ее поверхность за многие миллионы лет непрерывно изменялись…»
Она подробно посвящала бабушку в перипетии своих отношений с инспектором, и бабушка однажды посоветовала: «А что, не отнести ли ему наших сливок? Прямо из-под сепаратора?..» Мама задумалась. Бабушка тем временем позевывала, будто все это она со скуки, а там ей все равно. Наконец мама тряхнула головой, так что волосы ее взлетели и упали на глаза. Мама опять тряхнула головой и громко воскликнула: «Нет, ни за что! Ни за что!»
Ее страхи в конце концов оканчивались благополучно, и она как ни в чем не бывало спрашивала:
– А куда это запропал Марсель? Что-то давно его не видно.
У дикариков были городки, и играли они отменно. Вдохновение оживляло их лица, обычно тусклые и туповатые. Их отец выходил во двор и наблюдал, как его отпрыски разделывают под орех любого из нас. Временами его сухие жесткие губы неумело и стеснительно складывались в улыбку.
– Дядя Харис, – спросил я однажды. – А где теперь собака?
– Собака? – ответил он мне. – Из собаки сшили унты, если только это интересно твоей бабушке.
Я не поверил ему. Я только грустно вздохнул и сказал:
– Что делать, бабушка терпеть не может больших собак.
– Ах, не сваливай, пожалуйста, на бабушку! – сказал он ожесточенно, как будто от меня зависела судьба собаки. – Тебе нравилась собака?
– Да, – сказал я тихо.
– Ну вот! – заключил он, повеселев. – Значит, можно надеяться, что у тебя будет добрая собака. – Голос у дяди Хариса прозвучал не то утвердительно, не то вопросительно, и это меня слегка озадачило.
Амина уже с минуту стояла за спиной дяди Хариса и делала мне знаки рукой. Я подошел к ней, и она тут же повела меня к калитке.
– Собаку он отвел к своему брату, – сказала она. – Но когда мы переедем на другую квартиру, он возьмет ее обратно.
– А вы собираетесь переезжать?
– Не знаю. Еще, наверно, не скоро.
Мне сразу стало грустно.
– А ты возьми себе щенка, – сказала Амина.
– Мне не разрешат.
– А хочешь, я возьму? Но это будет твой щенок.
– А если ты уедешь?
Амина вздохнула и ничего не ответила.
– Поехать бы в лагерь, – сказал я тоскливо.
– Нынче, наверно, поздно. А на будущий год нас уже не возьмут в лагерь.
– Я никогда не был в лагере, никогда!
Никогда, ни разу в жизни. Я должен был сидеть дома, чтобы бабушка моя видела, что я не тону в реке, не блуждаю в лесу, что я живой и маячу у нее перед глазами, как ее старинные часы, которые она бережет пуще клада.
Я решил тут же пойти к маме и потребовать, чтобы она отправила меня в пионерский лагерь.
– Только, пожалуйста, не груби, – предупредила Амина.
Мама сидела в гостиной над раскрытой книжкой. Она встрепенулась, когда я вошел.
– Тише, бабушка только уснула. Я дала ей лекарство.
– Ты читаешь н у ж н у ю книгу или бред собачий? – сказал я словами бабушки.
Мама улыбнулась, притянула меня к себе и обняла.
– Мама, я хочу поехать в лагерь. Ведь ты любишь меня, ведь ты не откажешь?
– В лагерь? Откуда ты знаешь, что я собираюсь в лагерь?
– А разве ты собираешься в лагерь?
– Мне надо повидать Веронику Павловну.
– А кто такая Вероника Павловна?
– Учительница этого маленького шпиона, доносчика. Надо, чтобы она дала ему характеристику. Пусть следователь знает, какого человека он берет в свидетели.
– Ну а если?..
– Что, что если? Может быть, ты думаешь, что твой брат вор?
– Ой, мама!
– То-то же! Кстати, я купила Галею баян. Он в комнате у бабушки, поглядишь, когда она проснется.
– Галей умеет только на мандолине.
– Я поговорю с Марвой, чтобы его записали в кружок баянистов.
– Да он не захочет в кружок. Раньше он здорово хотел.
– Раньше, – сказала мама, – раньше… ты что, не знаешь нашей бабушки? «Ой, смеркается, ой, поздно, где наши дети?» – Она засмеялась, махнула рукой. – Теперь я сама возьмусь за своих детей.
– Конечно, ведь бабушка болеет.
Она пытливо на меня поглядела, затем погрозила пальцем:
– Мелешь! – И резко поднялась, волосы ее встрепались, лицо загорелось. – Я все это должна сделать сегодня – поговорить с Марвой, съездить в лагерь… Что, ты хочешь поехать со мной? Нет, приглядишь за бабушкой. Ну, подашь ей воды.
– А горшок подавать не буду.
– Ужасные дети! Я с вами сойду с ума.
– Я лучше поговорю с тетей Марвой.
– Поговори. И пусть она немедленно запишет Галея в кружок.
Она уехала в лагерь, пообещав вернуться к вечеру. А был еще только полдень. За шторами, закрывающими дверной проем, я слышал хрипловатое дыхание бабушки. Тихонько ступая, вышел я в сенки, где надрывались черным роем безумные мухи.
У забора, в тени акации, сидела Амина и задумчиво перебирала в руках четки из косточек фиников.
– Гляди, я сделала бабушке.
– А Галейке купили баян, – сказал я.
– Ага, – она кивнула и потупилась, не переставая считать финиковые косточки.
– Тебя обидели дикарики?
– Никто меня не обижал. – Она оставила четки и улыбнулась, в уголках ее дружелюбного рта возникли, как лучики, две морщинки. – Мама и дядя Риза поспорили из-за пустяков.
– Дикарики?..
– Дядя Риза запер шкаф с моими книжками, а мама велела немедленно открыть. Дядя Риза рассердился: все до одной растащат проклятые мальчишки. А мы с мамой… пусть шкаф открыт и пусть они читают, правда? Они порвали только одну книжку – «Базар», помнишь? Кот Федот кошку Матрешку под руку берет… Шли, шли, на базар пришли. – Она засмеялась. – Первоклашки!
– Я давно хочу спросить, – сказал я, – кто такой Пер Гюнт?
– Бедный лесоруб.
– Я думал, какой-нибудь упырь.
– А упыри – это тролли.
– А Сольвейг?
– Она всю жизнь ждала Пер Гюнта.
– Наверно, лет десять? («Через десять лет мне будет двадцать четыре года, – подумал я, – и нам можно будет пожениться».)
– Всю жизнь, – повторила Амина, – всю, понимаешь?
Мы помолчали. Зной нагонял томление и тоску, не хотелось никаких движений, и я молил бога, чтобы только не проснулась бабушка. Долго, однако, она спит. Ее бабушка, рассказывала она сама, умерла во сне, и моя бабушка откровенно рассчитывала на такой же конец… «Когда у тебя еще жива старая бабушка, ты все еще ребенок… Старики и больные чаще умирают весной или осенью. А сейчас лето».
– Моя бабушка говорит, если человек поет, значит, он кого-то любит.
– Я люблю птиц, – сказала Амина. – Вот если бы у тебя были голуби.
– Голубей хотел Галейка, но ему не разрешают. Вон идет твоя мама.
Шла тетя Марва, а вслед ей, придерживая рукой калитку, мягко ее закрывая, крича, договаривал дядя Риза:
– …я давно уже ни во что не вмешиваюсь!..
– Риза-а.
Они подошли к нам и сели на бревна. Тетя Марва привлекла к себе Амину и посадила ее к себе на колени.
– Ну что ты, мама, ведь я не маленькая, – сказала Амина.
– Ты маленькая, – ответила тетя Марва. – Ты очень маленькая, а я люблю маленьких.
А дядя Риза потянулся за мной, охватил меня тяжелыми мягкими руками.
– Как жизнь, сынок? – Уткнувшись лицом в мой живот, он точно дышал мной, подымал глаза и опять спрашивал: – Как жизнь, сынок? – И теребил меня, и тискал.
Тетя Марва урезонивала:
– Оставь, оставь ребенка.
– Нет, она и в самом деле думает, что вы маленькие! А вы не маленькие. Ты помнишь, сынок, День Победы?
– Помню, – сказал я.
– Он не маленький, он помнит нашу победу. Ты хочешь быть шофером?
– Нет.
– Жаль. А то бы я взял тебя стажером.
– Галейка хочет. – И тут я вспомнил, что наказывала мне мама: – Тетя Марва, а мама просила, чтобы вы записали Галейку в кружок баянистов. Ему купили баян.
– Но у нас нет кружка баянистов.
Дядю Ризу как будто обидел ее ответ.
– Ну что ты, Марва, – нет кружка баянистов. Неужели в целом городе нет кружка баянистов? Ведь тебя просит Асма!..
– Мама обязательно поможет, – сказала Амина.
– Я же знаю, Марва поможет. – Он погрозил пальцем Амине: – И ты помогай!
Амина великодушно улыбнулась его хмельным речам.
– А кому я должна помогать?
– Всем фронтовикам. Потом всем маленьким… если только они помнят нашу победу.
– Ну что ты, право, разболтался. Ну будь сдержанней, – сказала тетя Марва.
Амина спрыгнула с материных колен и побежала в дом. С порога она крикнула:
– Я поставлю чай!
– Дикарики идут, – сказал я.
Тетя Марва не успела нахмуриться, как тут же дядя Риза хлопнул по ее плечу ладонью. Она притворилась, что сердится вовсе не на меня, а на брата:
– Ну и шуточки у тебя, Риза! – И пошла в дом, дикарики побежали за ней, что-то весело гундося.
С минуту дядя Риза сидел молча, затем спросил:
– А где твоя мама?
– Поехала в лагерь. А меня оставила присматривать за бабушкой.
Он поднял палец и пошевелил им назидательно:
– Твоя мама лучшая из мам! Она не сучка, которые… – Он поперхнулся от смущения и, стыдливо прокашлявшись, спросил: – А что бы ты сделал, если бы она вышла замуж?
– Не знаю. А когда-то мы с Галеем думали: запряжем его в телегу и будем бить кнутом до смерти.
– Ка-кие зверята, – сказал он, опять привлекая меня и тиская. – Зверята, зверята.
– Но скоро мне будет все равно, – сказал я.
– Почему же?
– Потому что я буду жить самостоятельно.
– А шофером ты не хочешь быть?
– Нет, – сказал я, слегка сожалея, что не могу ответить иначе.
Он стал совсем печальным.
– Я, пожалуй, подожду, а? Когда она обещала приехать?
– Конечно, подождите, – сказал я, – к вечеру мама обязательно приедет.
Однако он не стал ждать, наверно, потому, что пришел дядя Харис и тетя Марва позвала всех ужинать. А вскоре же явилась мама. Какой-нибудь час, проведенный ею в лесу, освежил ее. Потряхивая головой, откровенно радуясь удаче, рассказывала она тете Марве:
– Учительница этого оболтуса так прямо и говорит: он такой фантазер, такой лгунишка, может придумать что угодно. Понимаешь, его фантазиям верить нельзя!
Она смущала меня чувством счастья, так явно кипевшим в ней. «Неужели, – думал я, – неужели можно быть счастливой только оттого, что учительница Вероника Павловна в угоду ей опорочила своего воспитанника?» Но откуда было мне знать, что в тот день мама совершила на редкость самостоятельный шаг, потому что бабушка болела вот уже четыре года, и ее повелевающий голос, бросаемый с высоты царственных перин, не мог достигнуть ушей ни Вероники Павловны, ни молодого следователя, угрожающего благополучию нашего дома.
Тут мама заметила меня и спросила:
– Ты присматривал за бабушкой?
– Она все время спала.
– Спала? А вон кричит. Ну, достанется мне! – И потрусила к крыльцу.
3Осень и зима были для моей мамы суматошными, тревожными, она заметно похудела, но глаза блестели задорно, даже вызывающе, и на усталость она не жаловалась.
Только в ноябре напали на след воров, а до этого всем нам было как-то не по себе. Впрочем, Галейку оставили в покое почти сразу же, тем более, что Вероника Павловна авторитетно охарактеризовала своего подопечного как болтунишку и фантазера, потешающего класс невозможными измышлениями.
Совсем плоха была бабушка, и мама уходила на занятия изможденная ночным бдением, а после занятий искала редкие лекарства, потом стояла в магазинах и возвращалась еле живая.
Галейка не пошел ни в какой кружок – маме теперь было не до своей затеи, – он целыми днями пиликал на баяне, и старшие были очень довольны: благо, мальчик не шатался по улицам.
Мы с Динкой учились ни шатко, ни валко, к тому же моя сестра намеревалась оставить школу и поступить на работу. Марсель уже работал – монтером в «Водосвете» – и ходил теперь по улицам, перевесив через плечо «когти», жил в своем саманном домишке и к нам не являлся. Между переменами в его жизни и решением Динки бросить школу существовала несомненная связь, о которой мама пока еще не подозревала.
Вообще многое проходило мимо нее совсем не замеченным, потому что так или иначе выпадало из упорядоченного бытия. Так, уже все, даже мы, дети, знали: дядя Риза развелся со своей женой, надеясь найти благосклонность у моей мамы; он любил маму давно и тяжело переживал ее равнодушие, стал попивать и мрачнеть; но мама была верна памяти мужа и ни с кем больше не была намерена соединяться, так о чем же может быть речь и возможны ли какие-то страдания…
В мае умерла бабушка. Я видел ее накануне, она сидела прямая, я бы даже сказал, стройная, в белом платке, натянувшемся на ее выпуклом высоком лбу, и лицо у бабушки было свежее, будто совсем не задетое болезнью, свежее и горделивое лицо. Говорили, и со смертью она не потеряла красоты, но я уже ее не видел.
Я испугался смерти в нашем доме. Это был испуг, смешанный с каким-то еще стыдом. Может быть, это было смущение перед ритуалом, хотя и обычным в нашей среде, но необычайным, непривычным для среды более широкой, для города, в котором преобладали иные ритуалы и порядки. Я ушел со двора в день бабушкиных похорон. Я лежал на островке, потом бродил по улицам, плакал и бормотал: «Где моя собака, она все понимала, она любила меня, где она? Чем она провинилась? Перед кем?.. Теперь она пропала, пропала…»
Потом я отправился в сквер на улице Красных гвардейцев, сел на скамейку и стал смотреть на дом, в котором жила Тамарка. Я не надеялся – да, наверно, и не хотел – увидеть ее и, уж подавно, говорить с нею, я никогда с нею не разговаривал. То, что я испытывал, было мечтой, тоской по какой-то другой жизни, отличной от нашей, которую я тоже любил и не мыслил, чтобы все это привычное вдруг исчезло.
И вот я сидел в сквере, смотрел на дом и не сразу заметил вокруг него людское копошение. Возле одного из подъездов стояла группа женщин, в подъезд входили и выходили женщины и мужчины, стройные строгие военные, одетые как на парад. Потом к дому стали приставать автомобили, легковые и грузовики, и с одного грузовика сняли и понесли венки. В этом доме кто-то умер. Скорее всего погиб. Здесь жили летчики, а самолеты иногда разбивались.
Вот еще один грузовик подъехал – из него выгрузились со своими инструментами музыканты и потихоньку стали располагаться вдоль стены напротив подъезда и спокойно опробовать инструменты. Все происходило так медленно, так монотонно и смиренно, что вот уже за полдень перевалило, а я все сидел, расслабленный, присмиревший, даже утешенный тягучим и вроде бессмысленным действом, не вызывающим во мне никакого напряжения – ни любопытства, ни томления, ни сострадания. Кажется, среди этой тихой, почти безмолвной суеты мелькнула фигурка Тамары. Да, это она вывела на улицу братишек-близнецов лет по пяти. Лицо у нее было заплакано.
«Это ее отец погиб», – подумал я.
Я встал со скамейки и подошел к ней и к ее братишкам.
– Здравствуй, – сказал я. – И прими, пожалуйста, мое сочувствие.
Она молча наклонила голову.
– Он погиб позавчера, – сказала она. – Он летел над Пугачевской горой, и у него отказал мотор. Самолет упал на скалы.
– Не плачь, Тамара, – сказал я. – Его, наверно, похоронят на братском кладбище?
– Конечно.
– Рядом с красными мадьярами, рядом с председателем Реввоенсовета Ильиным. И весь город будет помнить его всегда.
– Боюсь, моя бедная мама не переживет…
– А ты крепись, Тамара, ведь я тебя никогда не брошу. И братишки твои будут жить с нами.
– Спасибо. Ты всегда был так добр ко мне.
– И у меня несчастье – умерла моя бабушка.
– Прими, пожалуйста, мое сочувствие.
– Больше всего на свете я любил свою бабушку. Например, однажды она подарила мне собаку. Но ее у меня украли. Какая это была собака!
– Да, я помню, – сказала Тамара. – Это была редкая собака. А нельзя ее отыскать?
– Навряд ли. Она сказала:
– А ты поцеловал бабушку, когда прощался с ней?
– Поцеловал. Она была как живая. Только лоб немного холодный. – Я вздохнул. – Ей бы еще жить да жить.
– А моему папе было тридцать семь лет.
– О, твоему папе было порядочно! А моему, когда он погиб, тридцать два.
– Тоже порядочно, – сказала Тамарка. – Ну, нам надо идти и успокоить маму. Знаешь, пожалуй, мы сядем с тобой в машину, на которой повезут моего папу. Но там надо будет плакать. Ты готов плакать?
– Да! – сказал я истово. – У меня болит сердце, и я, пожалуй, поплачу.
Я сидел и плакал, но легче мне не становилось. Я думал, что плачу оттого, что жаль бабушку. Но (потом, потом, я это понял!) плакал я о том, что убежал из дому и вернусь в него, только когда мою бабушку уже похоронят.
Видела ли меня Тамарка, когда проходила со своими братишками? Но ей было не до мальчика, плачущего неизвестно о чем.
Заиграл оркестр, и, в тот же миг вскочив на скамейку ногами, я увидел, как из подъезда выносят гроб, похожий на клумбу, тихо плывущую в горячих струях дня. Гроб поставили на грузовик, и в него по приставной лестнице поднялись несколько женщин и Тамарка. Оркестр ждал, когда они сядут. А когда они сели, заиграл навзрыд.
Я оставался на месте, пока процессия выстраивалась, вытягивалась, налаживая свое скорбное течение. Наконец и я пошел и пристроился в хвосте шествия. В густом рокоте оркестровых труб временами мне чудился плач Тамарки, и я плакал, плакал так, что женщины мне стали говорить:
– Почему же ты отстал? Ступай, ступай вперед, тебя посадят в машину.
Но ни их слова, обращенные прямо ко мне, ни вообще их любопытствующий говор, реявший вокруг моей головы, не трогали меня, и мое скорбное равнодушие приносило мне какое-то удивительное облегчение… Я не сразу заметил возле себя Марселя. Ему пришлось дернуть меня за рукав.
Я обрадовался, И эта радость почему-то тоненько кольнула в мое сердце. Марсель был очень красив, я это сразу отметил про себя. В ту пору любой подросток, любой юноша, уверенно обретающий черты мужественности, казался мне красивым. Так вот, Марсель предстал перед моими глазами взрослым. В рабочей подбористой спецовке, облегающей пока еще угловатые плечи, в кепке-восьмиклинке, чуть ухарски сдвинутой к затылку.
– Ты идешь на работу? – сказал я.
– Нет. Сегодня я отпросился. Мы рыли могилу. А теперь я иду домой… туда. Ведь скоро будут выносить.
– Скоро?
– Да. Ты пойдешь сейчас или…
– Нет, нет, – замотал я головой.
– Понятно, – сказал он, потупясь. – Тогда… если спросят, я скажу, что видел тебя в сквере. Я скажу, что ты немного боишься… всего этого.
Он тут же оставил меня, а я продолжал свое сумасбродное и горестное движение и опять стал плакать: «Где моя собака, она все понимала, она любила меня, где она?..» – И в иную минуту мне казалось, что жаль только собаки, одной собаки, а все остальное меня не трогает, точнее, всего остального вообще нет – ни смерти бабушки, ни гибели Тамаркиного отца.
Я плохо помнил дальнейшее, как доплелся я вместе с процессией до братского кладбища, пробыл там, пока все не кончилось, потом… когда ударил винтовочный залп, я тотчас же поглядел в небо, как будто хотел увидеть улетевший туда залп. Потом, помню, почти рядом проехала машина, в которой сидела Тамарка, и мне очень захотелось забраться в машину, но только потому, что ноги уже не держали меня. Оставшись один, я вернулся к свежему холмику, на котором лежали полевые цветы, а над цветами всходила в синих искрах дня красная звездочка…
Когда я пришел домой, и там все было кончено. Мама кинулась ко мне и обняла.
– Больше всего я боялась за него, – сказала она учительницам, которые пришли разделить с мамой ее горе. – Он такой ребячливый, такой ранимый. И хорошо, что сам догадался исчезнуть. Я сразу сказала папе: нет, не надо его искать, он придет сам.
Учительницы смотрели на меня, как бы стараясь увидеть что-нибудь необыкновенное, делали понимающие лица, но взгляды их не были теплы.
Потом они ушли, а мы стали собираться к дяде Заки, за нами пришла тетя Айдария, жена дяди. С ними наша семья почти не общалась, я не помнил случая, чтобы кто-нибудь из родичей взял да и просто забежал на минутку. Но в святые праздники дядя звал всех нас в гости. Дедушка, едва кончив трапезу, сурово говорил: «Ну, пора!» – и тут же выходил из-за стола.
Прохладные отношения длились вот уже два десятка лет, и хождения в гости вовсе не означали потепления. Просто дедушка отдавал дань порядкам – вкушал хлеб-соль у своего отпрыска, прочитывал короткую молитву, и на том все заканчивалось. А нынче нас звали потому, что по обычаю в доме, проводившем покойника, не готовят пищу.
Дедушка и сегодня не изменил своему правилу, но мы с мамой остались. Старшие вспоминали, как добра была бабушка к дяде Заки, хотя он ей был не родной сын. А дедушка, конечно, бывал суров и не всегда справедлив.
– Ох, несправедлив!.. – начал было дядя Заки, но жена его перебила:
– Мы все-таки не счеты сводим.
– Не будем вспоминать старое, – поддержала мама. – Я только хотела сказать, что покойница наша матушка действительно тебя любила. А помнишь, Айдария, как ты впервые появилась у нас?
Тетя Айдария сдержанно кивнула. Девочки нашего дяди, прижавшись к матери, настороженно смотрели на нас, и мы с Галейкой тоже прижимались к матери, только Динка сидела как истукан, всем своим видом говоря: а мне на все наплевать.
Тетя Айдария вышла проводить, и мама услала нас вперед. Она догнала нас, когда мы были уже у наших ворот.
– Милые мои дети, – сказала она проникновенным голосом. – Запомните, у нас нет других родственников. А тетя Айдария ангел. Нам надо держаться вместе, запомните это!
Ее беспокоило, что со смертью бабушки в нашем бытовании могло что-то перемениться. Бабушка всегда все делала сама: покупала, варила, стирала, помогала дедушке шить, держала нас, ребят, в чистоте и холе и, надо сказать, в жесткой узде. Мама же знала одно: занятия в школе, занятия дома. Теперь же на нее свалились все заботы по дому, да ведь и мы, уже великовозрастные оболтусы, требовали неусыпного догляда. Она была так неловка, так несведуща: глиняная латка или крынка, извлеченные из таинственных отсеков чулана, приводили мою маму в изумление; повздыхав и не найдя им применения, она возвращала посуду в ее надежные покои.
Но вопросы посерьезней она решала с истинно бабушкиной твердостью. Дело в том, что приятели дедушки, в особенности чемоданщик Фасхи, стали внушать ему мысли о женитьбе. Мама сердилась, отмахивалась от стариков, как от упырей, и бежала к тете Айдарии.
– Но, может быть… – говорила тетя Айдария.
– Никаких «может быть»! – отвечала моя мама. – Все пойдет прахом. Да нет, о чем я! Вчера еще в доме царило дыхание мамы, а нынче придет какая-то старуха… нет, нет! Да он ведь уже стар.
Сам дедушка смущенно смеялся, но по лукавым огонькам в его глазах можно было предположить, что он не прочь обзавестись какой-нибудь бойкой старушонкой.
– А что, – говорил он, подбадривая себя смешком, – женился же Фасхи второй раз. Да поглядите, какой он теперь молодец. В прошлом году быка забил, так ведь один управился.
Мама слушала его с брезгливым выражением лица, затем мягко парировала:
– Старик Фасхи и мне покоя не давал своими советами выйти замуж. Но я отвечала: извините, дядя Фасхи, но я не терплю подобных советов. А ведь мне было всего двадцать восемь лет, когда я осталась вдовой.
Каждый вечер, когда мы, отужинав, сидели в полусвете сумерек, мама вела с дедушкой душеспасительные беседы.
– Ты не представляешь, что будет, если в такую семью, как наша, придет чужой человек… Ты всегда, по-моему, боялся раздела. Так вот из-за твоих нескромных желаний все может пойти прахом. Не станет дома, который вы с мамой, все мы лепили столько лет…
С каждым разом дедушка становился все смиренней, все пришибленней и уже не смел возражать маме.
Пришел сентябрь, первый за два десятилетия сентябрь, когда моя мама не пошла в школу. Со школой было покончено навсегда, начиналась новая, по сути малознакомая ей жизнь – хозяйки в доме.
Мама плакала. Если и бывают светлые слезы, то они были у моей мамы. Она вверяла их мне, самому строптивому, самому несносному своему ребенку, так часто грозившему умереть от астматического бронхита, – от страха потерять меня слез она пролила больше, чем пролила бы на моей могиле. Может быть, думая, что я все равно в конце концов умру и унесу ее тайны с собой, или, может быть, доверяя моему болезненно обостренному восприятию, она делилась со мной:
– Я была прилежна и, возможно, талантлива. Да! Ведь я училась в двух школах и обе закончила с похвалой. Да, разве ты не знал, что я закончила еще школу при мечети и учила меня жена священника и прочила мне судьбу мудрой и беспечной абыстай. Но я не хотела быть ни женой священника, ни учительницей – я хотела быть бабушкой. – Она смеялась и обнимала меня. – Да, я хотела быть хранительницей очага, властительницей огромного и шумного, как улей, дома. Господи, плакала я, когда погиб твой отец, господи, он погиб, а у меня только трое детей. А если бы он вернулся с войны, у нас было бы шестеро или семеро детей! Но мне и с тремя-то не совладать, – грустно заканчивала она, и опять смеялась, и опять обнимала меня. – Вот ты, я это в точности знаю, ты, именно ты не задержишься в доме. Но тебя я не стану удерживать по крайней мере с восемнадцати лет. А Динка глупа, и я удержу ее.
А Динка между тем решительно отказалась учиться. После двух или трех истерик мама наконец успокоилась, но взяла с моей сестры обещание, что та будет ходить в вечернюю школу.
Стояло теплое, мягкое степное бабье лето. Зеленый островок качался на воде и лукаво приманивал нас. Мы уходили туда вчетвером – Динка, Марсель, Амина и я, – сидели подолгу, разговаривали о будущем. Динка удивляла меня отсутствием полета в своих мечтаниях: она хотела быть киномехаником. Марсель умудренно кивал ее спокойным и расчетливым словам. Сам он тоже невелика птица – монтер, «пляшущий» на уличных столбах, однако мне он очень нравился своей самостоятельностью. Его намерения жениться тоже не могли не внушать уважения.
Однако наши с Аминой мечтания были куда возвышенней. Мы отрешенно блуждали в тальниковой теплой чаще, мы прощались с нашей тихой родиной и целовали друг друга. Она мечтала о консерватории.
– Мама говорит, у меня есть голос. Она знает.
– А я буду военным, – говорил я, – и обязательно поступлю в военно-воздушную академию.
Временами нас тревожил голос моей мамы. Он робко звенел на стеклянной осенней воде и саднящей болью сказывался в моей душе. «Вот ты и стала бабушкой, – думал я, – ведь сама ты этого хотела». Как и бабушка, она звала нас, просто чтобы мы оказались возле нее и чтобы она видела – никто из нас не тонет в реке, не падает с дерева, не попадает под автомобиль. О, как томителен был ее голос!
Я кричал:
– Э-эй, мама, мы здесь!..
Динка выбегала из кустов и с шипеньем набрасывалась на меня:
– Чего орешь? Ну, ступай, ступай, да не вздумай сказать, что мы здесь.
Мы с Аминой уходили, договорившись встретиться с нашими друзьями вечером.
– В испанском доме, – уточнял Марсель.
– В испанском доме, – отвечали мы заученно, как пароль.
Мама встречала нас радостной улыбкой.
– А Дину вы не видали?
– Нет, – твердо и поспешно отвечал я, ограждая Амину от невинной лжи.
Мама почти в ту же минуту теряла к нам всякий интерес и рассеянно произносила:
– Не знаю, куда я буду девать котят. Пойду загляну к Айдарии, может быть, она возьмет котенка.
Мама жалела приблудных кошек и не гнала со двора, те приживались и множились и ставили ее в тупик.
– Так я пойду. А Галея вы не видали?
– Так ведь он с дядей Ризой.
– Да, да. Я купила ему баян, а он возится с машиной. Я уж устала его отмывать. Горе, да и только!.. – Тут мама наклонилась к моему уху и озорно шепнула: – Я сейчас задала жару старухе Сарби.







