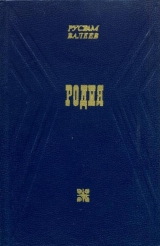
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Дядя! Это он, Танкист, так думает, что Мирвали его дядя. А на самом-то деле – седьмая вода на киселе. Так что, если спросят, можно сказать, что родичей у него нет. И никто не докажет, что они есть. Но мальчик ответил:
– Да, есть дядя.
– Стало быть, ты не сирота. – И, пряча глаза, Танкист вздохнул. Грустный, щуплый такой, с закатанными выше колен брючинами, с подвернутыми рукавами выцветшей гимнастерки, на руках и ногах цыпки, какие бывают только у мальчишек. И грусть у него как бы не совсем взрослая. – Вы не унывайте, ребята, – сказал он. – Это последнее дело – унывать. Это, прямо скажу, хреновина. Да вот… закурите. Злющий табачок! – Он закинул черпак на телегу и, обтерев руки о гимнастерку, достал кисет и бумагу, Свернув цигарку, дал Салиму, скрутил вторую и – Лукману. Потом он свернул себе, потолще.
И дымили они втроем, стоя по колена в воде, синие дымки от цигарок мгновенно линяли в раскаленном белом воздухе, их едкий дурман мешался с дурманом трав и цветов. Потом, когда докурили, Танкист взялся за черпак, а мальчики вброд пошли к противоположному берегу. Там побежали через картофельные поля по тропинке, на которой сухой, спекшийся подзол пылил и обжигал им ступни. За чащами, укрытыми маревом, посвистывали суслики.
Забравшись в расщелину и попив из родника, мальчики долго сидели остывая, а когда жар немного отошел, они попили еще и стали купаться. Купались долго, до озноба, потом поплыли к островку напротив и легли на песке.
– Здесь все нас знают, – заговорил Лукман. – Здесь у нас ни черта не выйдет.
– Да, – сказал Салим.
– Но если мы уедем куда подальше и скажемся сиротами…
– Нас тут же пошлют в детдом.
– Но если там не будет детдома, а будет как раз военная часть, а? Ну, е с л и, а?
– Ну, если… – Салиму хотелось ответить, что все это пустое, все только игра, взрослых не проведешь и хитростью тут ничего нельзя сделать. Уж лучше все оставить как есть. Но сказать так – значило бы огорчить Лукмана. Да и сам он испытывал противоречивые чувства: ведь было же, было в их замысле что-то и не совсем детское, да и сами они только наполовину жили детской жизнью, а во всем остальном – ну, в работе, которую они делали, в том, наконец, ощущении голода, которое не проходило даже после некоторого насыщения и которое пройдет, наверное, только с войной, – во всем остальном не были детьми и, значит, могли потребовать для себя полных тягот в этой жизни, в том числе и тягот самых тяжелых, какие бывают на самой войне.
– Он сусликов жрет, – глухо сказал Лукман.
– Ага, – машинально отозвался Салим.
– Я говорю… он сусликов жрет! – крикнул Лукман и вцепился ему в плечо, задергал, крича: – Я говорю, жрет, жрет!.. Ты думаешь, он тушки выбрасывает? Как же, как же… все сам пожирает, ведь это харам – запретная пища… я давно знал, только не говорил тебе.
– А Магира? – спросил он зачем-то.
– Нет. Мы лучше с голоду помрем…
«Значит, вот оно что! – подумал мальчик. – Значит, он всегда сыт!»
– Бог его накажет, – сказал он. И ему показалось, что Лукман успокоился от этих его слов. И сам он успокоился, и тяжесть, которую он чувствовал, понемногу оставляла его.
Весь вечер мальчики просидели в саманном домике Салима, варили картошку в кожуре. Потом, когда картошка сварилась, Салим накрыл ее салфеткой: приедет Нина и поест горячей, вместе они поедят, и не пойдет он ужинать к Мирвали. Сидели и разговаривали.
– Я знаю, – говорил Лукман, – я знаю, где встречается Танкист со своей Танькой.
– Ну и что?
– Да так. В талах они встречаются, на берегу.
– Там комаров пропасть.
– А махорка у Танкиста!
– Да… А почему комары не выносят дыма?
– Не знаю. У меня что-то живот болит, – сказал Лукман. – Я домой пойду, полежу.
Салим остался один в уютной саманной прохладе. Окошко на улицу было открыто, и с воли доносились вечерние звуки и запахи, воздух осязаемо подкатывал речным холодком, и холодок этот, сходясь с жаром, который был в его теле, знобил его. Трели лягушек вибрировали в воздухе и будто маленькими камешками вкатывались в сумеречную пустоту домика. Прокричала ночная птица, а может быть, голосом ночной птицы кричала Магира. Она иногда гуляет вечером по берегу, но если вдруг появится какой-нибудь парень, Мирвали тотчас же окликает Магиру, и она прибегает во двор. Мирвали любит дочь, не нахвалится ею: у других дочки только и знают, что с парнями балуются, а Магира парней этих гонит прочь.
Мальчик пролежал в этом состоянии полусна-полуяви с закрытыми глазами, но все, все слыша и все ощущая лицом, голым телом, пока наконец комары не подняли его. Он быстро, легко вскочил, стал одеваться, не испытывая ни малейшего неудобства от темноты – он точно руками, лицом и телом видел все предметы в доме. И почувствовал он себя бодрым, свежим и подумал о том, что хорошо бы пройтись по берегу, и встретить там Танкиста, но без его подруги, и побродить с ним возле реки или посидеть в талах, окутываясь махорочным дымом. Он услышал опять крик ночной птицы, но подумал: «Наверно, это Магира балуется, нравится ей кричать странным клекочущим голосом. Мать ругает ее за эдакие шалости: нельзя! Дескать, в темноте летают падшие ангелы и высматривают себе жен среди людей».
Он вышел во двор и направился было к воротам, но вернулся, запер дверь на замок. Ключ он положил под половичок у порога. Какой-то шорох заставил его вздрогнуть, оглянуться. И он увидел за низким забором фигуру, шевелящую в темноте рукой.
– Ты что? Ты не спишь, Магира? – спросил он.
– Нет. Перелезай сюда.
– А что… вы не пили еще чай?
– Нет. Куда же ты? – Она сама перелезла через забор, тихонько смеясь, закашливаясь от пыли, поднятой в кустах. – Ну что, куда ты собрался? – сказала она, выходя к нему.
– Да так, никуда.
– И я никуда. – Она все смеялась мелким, знобким каким-то смешком. – А в талах Танкист развел костер, ды-ымный.
– Это он от комаров.
– Ну да. А ты любишь ночью купаться?
– Люблю… Но комары опять же…
– Ну да, – сказала она, приближаясь к нему. – Ну… А руки-то холодные. – Она схватила его руки и крепко сжала. – Давай погрею, – и прижала его руки к груди.
– Да погоди, – пробормотал он, однако рук не убрал, и тут она обняла его крепко-крепко.
Его тело неуступчиво напрягалось, бунтуя всею мужественностью мальчика, не терпящего никаких нежностей; но внутри у него теплела и плакала его тоска: ему хотелось материнской, женской, родственной любви и нежности. И он почувствовал, что тоже обнимает ее, жалея ее, любя в ней все, все родное, что боялся он потерять. Почувствовал – падают они. Прохладной, бесстыдно голой показалась ему трава, он ощущал ее руками, лицом – прохладную траву и прохладные руки, ноги девушки.
И тут что-то с ним произошло. Он ощутил пронзительную вспышку счастья и пустоту после ее исчезновения.
«Что-то она со мной сделала, – подумал он с болью, уверенный, что такое не могло с ним произойти с одним. – Что-то она со мной сделала!»
– Пусти, пусти, дурачок, – сказала она, толкая его рукой в грудь, отпихивая сильными, твердыми коленками и наконец вскакивая. – Не вздумай ходить за мной.
Он не проронил ни слова. Он видел, как белые большие ноги промелькнули перед его глазами и потерялись в темном теплом воздухе. Потом он услышал стук досок в пазах забора, шорох в кустах уже по ту сторону забора. Исчезла, сгинула, как ведьма.
Он поднялся, взошел на крыльцо и, отворив дверь, прошел в комнату. Не зажигая света, он лег на свою кровать и напряженно затаился, точно следя за собой, за своим телом. Он чувствовал сильный жар. Значит, ведьма еще была в нем.
4
После всего, что с ним произошло, побежать бы ему к омуту и броситься головой вниз в темную холодную глубину – и вынырнуть заново рожденным, очищенным от скверны, юным и чистым. Или подраться с целой толпой мальчишек, до боли, до крови, чтобы вместе с кровью стекла с него грязь, и легкий, чистый дух победы освежил и обновил бы его. Но вместо этого мальчик уснул тяжелым сном, и снились ему кошмары. Спасительными казались любые звуки, любые действия, которые извне, из яви подняли и оторвали бы его от кошмаров.
И такой вот спасительный миг пришел перед самым рассветом. Он мгновенно, радостно вскочил, когда по оконной раме кто-то заколотил громкими и частыми ударами.
– Эй, Салим! – услышал он голос Мирвали. – Вставай, сынок, эй!
Мальчик подбежал к окну и растворил его.
– Побыстрей, сынок! Мы еще сможем догнать…
«…и спасти его!» – послышалось мальчику, и он отбежал от окна, быстро натянул штаны и рубашку и выпрыгнул из окна прямо в руки Мирвали. Мирвали показал перстом в пролет улицы, узкий, смутный, как тоннель, и, подталкивая мальчика, побежал.
Предутренний туман заметно светлел на глазах, и этот слабый намек на светлый день странно порождал ощущение назревающих звуков. Но это звенело у него в ушах, а все вокруг было погружено в глухую, неживую тишину. У чьей-то подворотни они увидели сонно-взлохмаченного пса, который глянул на них изумленно и даже не заворчал.
– Мне казалось… я слышал, как этот негодяй собирается… а проснулся, его уже и след простыл, – хрипло рассказывал на бегу Мирвали. – Но он далеко не уйдет… и поезда до утра не будет… разве что товарняк…
– А товарняк… чем не поезд, – отозвался мальчик с каким-то радостно-злым чувством.
– Да, да… ох, негодяй, ох, сучонок!
Они должны были пробежать улочку насквозь, выйти к мосту через другую речку, огибающую городок с западной стороны, а за мостом – мимо беспорядочно разбросанных домиков слободы – в гору, к домикам пристанционного поселка, к пакгаузам, к водокачке, к вокзалу, откуда по утренним звенящим рельсам уходят поезда на запад. Только бы Лукман не успел!.. И хорошо, и больно ему было, и хотелось только одного: увидеть Лукмана, дотронуться до него, ставшего ему таким родным, хоть плачь. Но он понимал и то, что они насильно должны вернуть его домой. И ничего с собой не мог поделать: раз позвал его Мирвали, он не мог воспротивиться, с главою рода не спорят.
Они бежали теперь уже по мосту, по гулким его доскам, взбивая легкую пыль. За мостом начиналась улица, зажатая между приземистыми домиками и подымающаяся все вверх, вверх, овражистая и то пыльная, то сухая и гладкая, как асфальт, желтый асфальт. Они бежали, но утро бежало быстрее их, уже солнце светило им в спину и подымало туман, который с минуту еще лежал на крышах, а там отрывался медленно и воспарял ввысь, чтобы тут же раствориться в светлеющем воздухе утра.
Они окончательно изнемогли, когда услышали паровозный гудок, и, подстегнутые им, сделали еще один рывок, и взбежали на горку, на вершину ее, откуда сразу же увидели пристанционные строения, водокачку, серо-зеленое здание вокзала и сквер перед ним с растрепанными кустами акаций и гипсовой фигурой купальщицы у входа в сквер.
Мирвали на бегу свернул в сквер и, склонившись перед гипсовой купальщицей, точно перед богиней, подставил просящие ладони, сложенные лодочкой, и водой, наполнившей ладони, ополоснул острое, гневно-осунувшееся лицо.
Мальчик тоже подставил ладони, поднес к глазам и увидел, какая вода чистая и как просвечивают сквозь ее холодящую стеклянность розовые его ладони с извилинами, похожими на узкие русла в мокром песке. Теперь он осознавал вполне, зачем они здесь, – должны поймать и вернуть домой Лукмана, – но вряд ли догадывался о последствиях их вмешательства в то, что задумал этот сумасбродный Лукман. Одно только волновало его: не зря ли бежали, не успел ли удрать Лукман? «И я останусь один, совсем один…» Но почему один? И почему… зачем ему оставаться после всего, что сделали с ним?
Еще один гудок, продолжительный и соединившийся с длинным лязгом колес, подтолкнул их, и они выбежали из сквера, кинулись к перрону, где толпа ожидала пассажирский. А тот поезд, товарняк, готовый к отходу, стоял далеко, передом зайдя почти за водокачку. Они растерялись, но в ту же минуту увидели Лукмана.
Он бежал, перескакивая через рельсы и забирая вправо, где протянулись два стальных рельса, чье дрожание то ли чудилось им, то ли вправду оно каким-то непостижимым образом давалось их зоркому взгляду.
И они побежали, тоже забирая вправо, и Салим кричал ликующим, добрым, увещевающим голосом:
– Постой, постой же, Лукман! – И себе: – Ах, да ведь все равно догоним.
Он настигал Лукмана, бежавшего из последних сил, настигал – и какая-то тоска, виноватая нежность настигала его самого и сковала бы, наверно, по рукам и ногам. Но он уже догнал, наскочил на Лукмана и упавшего охватил его руками. И удивился, как резко, с ненавистью тот оттолкнул его…
Поезд медленно уходил, и шпалы дрожали, по рельсам прокатывался густой уверенный звон, и тело Лукмана сотрясалось в такт колесному стуку, и бормотание мальчика, сливаясь с шумом, тоже как будто уносилось вслед за стуком колес.
– Ох же ты и гадина, – сказал он наконец отчетливо. – Ты, ты гадина!
Подбежал Мирвали, совсем не злой, а смеющийся, красный, с лицом теперь уже не гневным, не острым, а широким.
– Ну и задал ты нам работку, сынок, – сказал он, наклоняясь и дотрагиваясь до худого плеча. – Подымайся, пойдем потихоньку, пока народ не собрался. – Он поднял его мешочек, забросил за спину и пошел не оглядываясь, ловко перешагивая через шпалы, к перрону.
Когда прошли железно-решетчатые ворота, то увидели перед зданием вокзала «коломбину», крытый брезентом грузовик с прорезанной дверцей в заднем борту, с железной лесенкой. Пассажиры уже образовали толпу, и они с трудом протиснулись в кузов, заняли место на длинной дощатой скамейке. Билетерша закрыла створки, повернулась к пассажирам и стала выдавать им билеты, ловко ловя мелочь и кидая ее в кожаную сумку, висевшую у нее на груди.
Мальчики сидели рядом, теснота прижимала их друг к другу, но Лукман напряжением в теле, отчуждающим и острым, словно оставлял между ними пустоту. В душном, быстро полнящемся запахом пота кузове от Лукмана исходило какое-то сухое тепло. Салим не совсем еще понимал гнева и отчуждения друга – зачем, ведь опять они вместе, это лучше, чем ехать одному куда-то в неизвестность. Но чем дальше, тем тревожней он думал: что-то будет? Что будет потом, когда они выйдут из машины, пойдут к себе домой… как все у них потом будет?
Машина остановилась на базарной площади, дальше она не шла, пассажиры один за другим стали вылезать, качаясь, толкая друг друга, и, даже оказавшись на земле, как-то странно, будто нарочно задевали друг друга.
– Ах, сынок, сынок, – говорил Мирвали, крепко хватая Лукмана за руку и ускоряя шаг. Салим зашел с другого бока, хотел мягко взять Лукмана за руку, однако он не дался.
Когда он пришел к себе домой, Нина заканчивала завтрак, собиралась на работу. Она очень удивилась, что с утра он где-то пропадает.
– Ты что, не ночевал дома?
– Ночевал, отстань.
– Ну, ладно, ладно. Мальчишки, слышь, передают тебе привет. А что, писем не было?
– Не было, – сказал он и лег, не раздеваясь, на свою кровать и отвернулся к стене.
Он не спал, но ощущение времени потерял совсем, так что, когда опять увидел Нину, удивился.
– Я прибежала попить чайку, – сказала она и замолчала. Потом тихо сказала: – Вот… собирались мы к Мирвалиеву, а он умер. Сегодня будут хоронить.
Он долго молчал, затем повернулся и сел в кровати. Потом спросил:
– На братском?
– На братском. Что же ты плачешь?
Он не отозвался и опять лег. Молчал и лежал с открытыми глазами, глядя куда-то в одну точку, и Нина больше ни о чем его не спрашивала. Потом она ушла. Привычно проходили в окно звуки с улицы: мягкое тарахтение тележных колес в пыли, кудахтанье кур, голоса с речки, где женщины стирали половики, – и звуки эти в какой-то миг почудились ему музыкой, сопровождающей печальное движение.
Он встал, вышел из домика и, заперев дверь, задумался на минуту. Глянув в соседний двор, он увидел: там пусто, глухо, но почему-то уверенно решил, что Лукман там, больше ему негде быть. Он вышел на улицу и побежал в соседний двор. Лукмана он увидел сразу: он сидел на сухом навозе между банькой и сараем.
– Идем в город, – сказал Салим. – Сегодня Мирвалиева будут хоронить.
– Гадина ты… гадина!
– А ты… рехнулся совсем.
– Гадина ты, гадина!..
Салим резко повернулся и пошел со двора. Из окна выглянуло испуганное лицо Магиры и тут же скрылось. Он почувствовал тоску, от которой заболело в висках, в груди, и сжатой в кулак рукой он сильно потер себе грудь. Музыка теперь слышалась отчетливо, но уже издалека, уже исчезая.
Когда он вышел к окраинным домикам, на просторе увидел купы деревьев – кладбище было там. В тот же миг он услышал, как сухо и сильно рокотнуло, и над купами взвились птичьи стайки. Он побежал… Навстречу ему проехала машина, в которой сидели солдаты с трубами, и медь огромных этих труб обдала его мгновенным блеском.
Когда он вошел в ограду, на кладбище никого уже не было. Он сразу почти нашел свежий холмик, подошел к нему и опустился на колени, стал читать молитву. Прочитав, он поднял глаза и увидел обелиск и вделанную в гипс карточку молодого, красивого, улыбающегося юноши с погонами на гимнастерке, а под снимком надпись:
«Ст. лейтенант М. Г. Мирвалиев. 1923—1944 гг.»
Юноша в погонах, он улыбался мирной, живой, неистребимой улыбкой, точно говоря, что со смертью одного – и даже сотен, даже тысяч – не оставляют надежды оставшиеся.
– Прости меня, прости, – шептал мальчик. – Может быть, ты как раз и был моим родичем, единственным, кроме отца. Я собирался к тебе, да не поспел, прости… – И смотрел на юношу глазами, полными слез, и лицо на карточке виделось ему лицом Лукмана – доверчивым, теплым, без тени попрека и обиды.
Путешествие на острова
Много уж лет прошло, а помню, как мама говорила: «Не дай мне бог детей своих пережить, остальное всё ладно!..» А мы с братом были совсем еще молодые, в беспечном и дурном возрасте.
Теперь вот сам шепчу: «Не дай мне бог, не дай бог!..» – когда малыш мой кашляет и задыхается, на слабой шейке вздуваются синие жилки, лицо бледнеет, а глаза, кажется, и не узнают уже нас. Шепчу виновато что-то о том, что и сам я, по рассказам матери, болел этой пугающей болезнью – так давно, таким маленьким, что собственных ощущений уже не помню, но помню, что курил папиросы, – травный запах, исходящий от специальных этих папирос. И как нравилось, что курю папиросы. А дядя мой, вспоминается в ночные часы, когда сидим мы с женой над дрожащим и обмирающим тельцем, – дядя мой уже взрослым задыхался и синел, когда такой вот жуткий кашель схватывал его внезапно.
Прежде жена возила малыша в садик, в то время как я сладко досыпал, в полусне-полуяви слыша и топоток его, и слова, пока одевались они с матерью в коридоре. Теперь же, когда малышу полегчало, когда опять он стал веселым и голосистым, я сам стал возить его в садик, может быть, из смутного чувства вины своей перед ребенком. Он знал уже, что и я когда-то болел так же и что курил какие-то загадочные папиросы, и все пытал меня насчет этих папирос.
В то утро вышли мы, как обычно, часу в восьмом, и я постлал на саночки одеяло, посадил малыша, укутал, подоткнул одеяло по бокам и, наказав не раскрывать рта, повез. Был декабрь, мороз и ночная еще темень, но звуки, множество звуков, были так утренни, так отчетливы – людские шаги, звонки трамваев, шуршащий шум троллейбусов, и как открываются и закрываются их двери на остановке. Все это слышалось и виделось в просветах ворот, через решетки оград, пока ехали мы по дворам.
– Папа, – вдруг он окликнул, и когда я обернулся, он уже ладошкой поспешно прикрывал рот. – Папа, – сказал он из-за варежки, – а если так будет и сегодня?
– Ну… Молчи, пожалуйста, ладно?
– Ладно. А когда ты курил те папиросы, сразу у тебя проходило?
– Кажется, да.
– А сейчас нет таких папирос?
– Наверно, есть. – Я никак не мог пресечь наш разговор – жалел малыша и оттого еще, что всегда радовался, когда он хотел со мной разговаривать. – Ладно, – сказал я, – только молчи, а я вот покажу тебе кое-что. Гляди.
Серпик стареющей луны узко, тонко светился на темно-синем предрассветном небе. Но в этом была еще не вся прелесть – а прелесть, что огнистый этот серпик окаймлял лунный круг, светящийся мягко, нежно, как остывающий пепел костра.
– Видишь, – сказал я, – какой пепельный свет у луны?
Он кивнул, хмыкнул, не разжимая губ, и, наверно, излишнее старание не раскрывать рот вызвало у него кашель. Правда, он только раз и кашлянул, а там я повез его быстро-быстро, уже пугаясь и ругая себя за болтовню.
В тот день малыша увезли в больницу из детского сада, и пролежал он там очень долго. Когда я вез его в машине домой, он молчал и поглядывал на меня так умно, печально и терпеливо, а дома сразу спросил:
– Я не совсем тогда хорошо рассмотрел… какой, ты сказал, свет луны? Северный?
– Пепельный, – ответил я.
– Пепельный, – повторил он. – Но северный тоже хорошо, ведь правда, папа?
– Правда.
Теперь уже, хотя и выходили мы с ним около восьми, бывало светло, случалось, видели луну, точнее, слабый туманный рисунок ее в светлых уже облаках, но пепельного света больше не видели.
– Придется подождать до следующего года, – говорил я. – Тогда тебе уже будет семь, ты будешь ходить в школу.
С тех пор мы бредили этой луной. А летом собрались в Кёнкалу, город моего детства, где, говорили врачи, триста солнечных дней, как в Крыму, и воздух сухой и здоровый.
Пока мы собирались туда, потом ехали в электричке четыре долгих счастливых часа, путешественники, полные нетерпеливого ожидания и самых лучших надежд, он словно позабыл о зимних утрах, а все вспоминал мои сказки о необитаемом острове посреди речки Елги, куда не раз приплывали мы в наших фантазиях, и жгли костры, и водились с индейцами, и делали там разные Открытия.
Дом наш в Кёнкале я расписывал ему на все лады: «Да ведь и сам ты все, наверно, помнишь!» – но где ему помнить, совсем еще маленьким привозили его сюда.
А дом наш был огромный, полукаменный, как некогда горделиво говаривал мой дедушка. Первый этаж – кирпичный, беленный известкой, второй – бревенчатый, обшитый досками и крашеный, с крашеными ставнями и наличниками. Издалека видать было зеленые, свежие эти ставни и шатровую, то есть четырехскатную, крышу, покрытую железом, и тоже зеленую, всегда какую-то чистую, приветливую, когда издалека смотришь на нее. Был сад, в котором перемешались сирень, желтая акация, и яблони, и кусты крыжовника и малины; огород с раскидистыми картофельными кустами, с огуречными и морковными грядками. Были сараи в два этажа, с длинными балконами-антресолями, как опять же горделиво называл их дедушка, который временами принимался хвастать своим хозяйством. Была баня, снаружи оштукатуренная и беленая, изнутри – с потемневшими уже бревнами и закоптелыми пучками мха. Приземистые кадушки, полок, каменка – словом, все то, что перестает уже быть обычным для нас и кажется гораздо краше, чем на самом деле. Бывало, как затопят у нас баню, так моются в ней до самой ночи: и сами мы, и все, какие есть, родичи, и соседи.
Только здесь поняли, какую тревожную, трудную зиму пережили мы. Страхи наши за малыша сближали нас так, как никогда прежде, но иной раз странный внезапный холодок возникал между нами как предвестник того холода, который мог бы возникнуть, если бы вдруг не стало его.
Впереди было долгое, и по всему видать, сухое и жаркое лето. Ревностно, упоенно взялись мы устраиваться. Нам отвели нижний этаж полностью. Незадолго до нашего приезда здесь красили полы, белили стены, перекладывали печь, но мы с женой перебелили еще раз стены, перемыли окна, полы, купили в магазине новый умывальник, покрасили его и оставили на солнце сушить. Мать пользовалась старой, смрадной керосинкой, а также глинобитным очагом с вмазанным в него котлом – очаг стоял посреди двора, подальше от старых, сухих заборов. А мы купили электроплитку: кипятить молоко, заваривать травы, которые нам обещала мать.
Вот уже неделю жили мы в гостях. Дни были яркие, знойные, вечера теплые и шумливые. Говор, плеск воды, музыка транзисторов покрывали скрытый мягкими лунными сумерками берег, куда сходились люди после жаркого дня. Вода в реке была теплая, парная, и мы купались помногу, подолгу, малыш был без ума от воли, от ненасытного восторга, который не покидал его весь день и даже во сне вдруг прорывался звонким кратким смехом.
Мы все еще опасались за него, но магические «триста солнечных дней», обещанные докторами, придавали нам бодрость и надежду. Жена моя, радостно смеясь, говорила о том, что нет на свете ничего лучшего, чем степной чистый воздух возле реки, что вот местные женщины привозят в колясках детей, баюкают их у воды, дети спокойные, крепкие, совсем не знают простуд.
Однажды я зашел в редакцию, где когда-то в молодости работал, и позвонил в кумысолечебный санаторий. Я просил уточнить, сколько же здесь у нас солнечных дней. И мне ответили: двести девяносто шесть, как и в степном Крыму, и что целебные свойства здешнего воздуха не уступают крымскому. Я побежал домой и влетел во двор такой сумасшедше ликующий, что мать и жена, сидящие на крыльце, заулыбались, заподтрунивали, даже не спрашивая, отчего же я весел. А узнав, в чем дело, заговорили наперебой – как здесь хорошо, как полезно, мать стала рассказывать о дяде Тауфике, который приехал с мучительной своей болезнью, но, поживя тут, исцелился удивительно быстро.
Бабушка, думая, что у Тауфика чахотка, первое время ходила с ним по докторам. И всегда крепко держала его за руку: до того он был робок, стыдлив и дик, что мог и удрать. В рентгеновском кабинете ему велели раздеться и стать к аппарату, а когда погасили свет, рассказывала бабушка, она услышала жалобный, срывающийся голос: «Мама, ты здесь?» – «Здесь я, здесь, – отвечала бабушка, – не бойся, сынок». – И услышала томительный, облегченный вздох из темноты. Потом, оказалось, что кашель у него астматический, не от чахотки, бабушка успокоилась, стала поить его травами и в конце концов вылечила сама.
Он робел перед докторами, милиционерами, даже почтальонами, но вовсе не боялся лихих людей, ночной темени и всего такого, что было действительно страшно. Жили они тогда в глухом переулке, домик стоял в глубине огромного заросшего бурьяном двора. Случалось, в глухую полночь лаяла собака, он вставал, хватал витую тяжелую плетку и шел в темноту, даже и не думая посвистать для острастки. Так же просто, без боязни, шел он в ночь-полночь, когда за ним приходил вызывальщик с железной дороги, где дядя работал кондуктором.
Из кондукторов ему пришлось все-таки уйти, все из-за той же болезни, и дедушка пристроил его в мануфактурный магазинчик к общему их удовольствию – и дедушки, и самого Тауфика.
Но дедушка бывал суров к нему. Когда однажды Тауфик, уже парень, уже работяга, пришел домой припозднившись, – пили с товарищами пиво в городском саду – дедушка, не говоря ни слова, ударил его наотмашь. Тауфик слегка покачнулся, да и то от изумления только, а дедушка ударил его ногою в пах, подкосив сразу. «Мы думали, он убил Тауфика, – рассказывала мама и, рассказывая, бледнела, уходила из комнаты, а потом сожалела: – Зря я ворошу все это!..»
О том, что у нее есть брат, мать моя узнала уже будучи студенткой педтехникума: он приехал из деревни, похоронив мать, помыкавшись, хватив батрацкого лиха. Дедушку женили почти мальчиком на троюродной его сестре, на несколько лет старше его, чтобы хоть как-то удержать, не распылить бедняцкого имущества, собраться в еще более тесном родстве. Но жили так бедно, что доили козу, арендованную у кулака. Дедушка бежал в город – от бедности, от нелюбви, наслушавшись рассказов о том, как иные отчаянные преуспевают в городах. А он, надо думать, был из отчаянных, ибо вскоре же стал владельцем первого, да, кажется, и последнего, омнибуса в городке. По какой-то странной прихоти судьбы этот его омнибус оказался запечатленным на фотографии, а фотография до сих пор хранится в городском музее: две понурые лошадки, громадный, с высоким облучком, фургон, крытый, по-видимому, брезентом, с окошечком сбоку, с огромными колесами. Можно представить, как громыхал и подпрыгивал на ухабистых мостовых этот фургон, прозванный горожанами Авраамовой колесницей. Дело между тем оказалось неприбыльным, дедушка распродал лошадок, колеса от фургона и пошел к старому шапочнику учиться его ремеслу.
Неудача с омнибусом выглядела сущим пустяком в сравнении с мытарствами, растянувшимися на годы. Чего стоил хотя бы один год, двадцать первый, когда дедушка с женой и двумя малолетними дочками отправился в хлебный Ташкент, но оказался в калмыцких степях, затем в Астрахани, наконец в Баку, на нефтепромыслах. Пеший путь среди солончаков, качка на море, холерные бараки – и везде голод, голод, такой, что даже смерть младшей дочери кажется не горем, а избавлением от лишнего рта… Обо всем этом, помню, рассказывала бабушка…
Так вот, когда Тауфик приехал к отцу, у того была за плечами целая жизнь, прожитая вдали от родины, ставшей, наверное, уже призраком. И не призраком ли, не напоминанием ли о давнем нищенском существовании с ее обидами и потерями явился вдруг некто, назвавшийся его сыном? Я пытаюсь объяснить, оправдать его суровость, которая ведь происходила не от равнодушия, именно суровостью старался он воспитать юношу, и суровость, может быть, тоже говорила о том, как сожалел он, что сын слишком мягок для этой жизни, что нет в нем той отчаянности, и живучести, и крепкого здоровья, которыми обладал он сам.
А между тем пора нам было на острова. Последнее время я так и говорил себе – на острова. Что-то широкое, раздольное было во множественном этом числе, а так хотелось раздольного, далекого, в любой конец – в прошлое или, может быть, в будущее, бог весть. Но о с т р о в а эти были – островок, каменистой серой горкой возвышающийся над дальнею и тоже сероватой водой, даже блеск ее в солнечные дни сохранял сероватый оттенок, похожий, скорее всего, на сдержанный блеск графита.
Прежде это был полуостров, связанный с берегом узкой песчаной полоской. Между этим полуостровом и скалистой высокой грядой берега грузно чернел омут, очень глубокий и очень студеный благодаря ключам, бьющим из глубоких расщелин. Лет десять назад на речке Елге построили электростанцию, и водохранилище разлилось как раз напротив нашего дома, воды этого самодельного моря и превратили полуостров в островок. Вот, собственно, куда мы и собирались с малышом. Среди десятка лодок, качающихся на привязи у берега, я присмотрел одну, широкую, с округлыми боками, с широкими скамейками, с прекрасными длинными веслами. Поговорил с хозяином лодки, нашим соседом, и тот предоставил ее нам в полное распоряжение на любой будний день, в выходные он сам ездил рыбачить.







