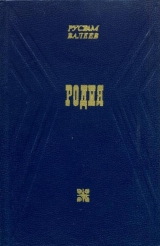
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
– Из кино я не уйду. Вы уж извините.
Редактор очень удивился и стал звать еще горячее. Но тем непреклонней он отвечал:
– Нет, я не собираюсь. Вот, может, у вас фотоаппарат есть? – Он почувствовал, как покраснели у него уши.
– Да, – просто, как будто речь шла о пустяке, сказал редактор. – У нас есть фотоаппарат. Правда, нет должности фотокора. Да вот!.. – Он стремительно встал и, открыв шкаф, вынул из него фотоаппарат. – Берите. У нас и цинкографии-то нет, снимки в Челябинск посылаем…
Но он уже плохо понимал, что говорит редактор.
В руках у него был фотоаппарат! Им можно было снимать все, все: вон ту красивую девчонку с распущенными на ветру волосами, Мишку-цыгана на пылком рысаке, его живописных племяшей, омут в яркий полдень, когда тени от скал резкими кусками ложатся на темную поверхность воды!..
Однажды, гуляя в городском саду, он заметил, что навстречу ему шагает Реформатский, долголетний директор городского сада и по совместительству – музея.
– Здравствуйте, – первым заговорил он, останавливаясь. – Хочу обратиться к вам с предложением. Видите ли, наше с вами обиталище – идиотическое местечко. Жаль, наши предшественники не позаботились запечатлеть этакий анахронизм для будущих поколений. Однако еще не поздно. – Он рассмеялся. – Мы запечатлеем осколки седой древности и оставим на обозрение потомкам. Опереточный Мишка-цыган. Старик Фасхи с фанерными чемоданами. Заносчивые торговцы кизяком. Или… – Он показал, и Дамир, проследив за его рукой, увидел сквозь решетки ограды тощую, унылую фигурку возле лабаза. Эта фигурка напомнила ему карманника Робу, которого он знал когда-то. – Но вы сами располагайте вашим воображением, – продолжал Реформатский. – Пугачевская пещера над омутом, собор на берегу… прелестная горожанка татарского типа на фоне достопримечательностей, а?
– У нас в городе солдаты есть, – сказал Дамир.
– Солдаты? Не понимаю…
– И оркестр играет, когда они идут… И новый мост построили, и дом для учителей, трехэтажный.
– Верно, небоскреб, – пробормотал Реформатский. – Ах, молодой человек, молодой человек!
Он ушел. А Дамир за решеткой садовой ограды опять увидел унылую тощую фигурку. «Ей-богу, мерещится», – подумал он. И вскрикнул тихонько, заметив одно примечательное движение: фигурка взбросила одно плечико, оставляя другое низко опущенным. И он побежал прямо через кусты, скакнул за ограду и закричал:
– Робик, Робик!..
И опять как бы подтвердилась его догадка: тот сделал такое движение, будто хотел дать стрекача.
Вот стояли они друг против друга, он радостно смеялся, а Робик краснел и приговаривал:
– Ладно, ладно тебе, Дима…
А он:
– Так ты, значит, приехал из Фрунзе? Долго же ты был в этом Фрунзе!
– Шестнадцать городов, Дима, – отвечал Робик, – шестнадцать городов я объездил, а ты говоришь – Фрунзе… – Он задумался, затем сунулся за пазуху и вынул бумажник, а из бумажника карточку. И протянул карточку Дамиру. Юное, с мягкими очертаниями лицо, еще не задетое лихим выражением карманника. Руки скрещены на груди, и оба плеча вровень.
– Таким я был, – сказал Робик и усмехнулся. – Я бросил воровать, – сказал он с такой гордостью и печалью, что Дамиру стало не по себе. – У меня, Дима, болит грудь и сохнет рука. Если бы даже я мог протянуть эту руку, Дима, то я бы все равно не протянул ее, чтобы попросить кусок.
– Ну, ты даешь, – сказал Дамир, – ну, ты даешь!..
Через полчаса они сидели дома и пили чай. Дамир говорил:
– Конечно, никого сразу не возьмут киномехаником. А с чего я начинал? Носил кинобанки, то-се – помогал Самату. А хочешь – научу фотографировать? Глядишь, со временем будку откроешь. «А ну, девушки-красавицы, задержитесь. Запечатлим вашу цветущую молодость!» А, неплохо?
– Неплохо, Дима. Спасибо.
– Спасибо! Вот тогда скажешь спасибо, когда откроешь свою будку. Или киномехаником станешь.
У Робика глаза слипались. Он улыбался, точно сон хороший видел.
– Ну, ты ложись отдыхай, – сказал Дамир. – И учти, вот твое место… Мама, пусть раскладушку не убирают, скажи Венерке. Так ты ложись. И учти – вот твое законное место.
Теперь в сарайчике, построенном на месте сгоревшего, висело много снимков. Это было почти кино, каждый снимок – красноармейцы с оркестром впереди, новый мост через речку, трехэтажный дом и красивая горожанка на фоне резной ограды сада – точно кадр. Почти кино, почти! Ведь снимки-то были неподвижны…
И он уходил на работу страждущий, готовый без конца крутить кино, уставать, но видеть, как на белом экране скачут кони, идут красноармейцы, поется песня и раздается плач… разве это могло сравниться с его мертвыми снимками!
4
Ему все еще казалось, что он помнит и узнает тот злосчастный автобус, с которого его ссадили. Но на самом деле он, конечно, не узнавал – каждый с полинявшей краской на помятых боках, чихающий, гремящий дверцами автобус мог показаться именно тем.
И базар постарел. Оградка и земля его, истоптанная сотнями, нет, тысячами копыт, ног, колес, – и оградка, и земля, и выцветшее небо, и пыльная гусиная травка, все неуклонней подползающая к площади, были и тогда стары, но теперь обитатели базара постарели. Даже Мишка-цыган, забывший свою полуторку и сменивший, наверно, не одного конягу, даже он казался если и не старым, то каким-то очень уж давним обитателем, обсыпанным древней пылью того пятачка земли, который был пристанищем для дальних караванщиков…
Дамир возвращался во двор к себе, садился на порожек сарая и задумывался. Он видел: Венерка выходит с сынишкой на крыльцо и просто, деловито говорит ему:
– Поиграй тут. А я схожу в школу, спишу расписание. Понял?
– Понял, – серьезно отвечал малыш.
До чего умница этот малыш! Дамир не помнил, чтобы он капризничал, ревел, привередничал. Он рос спокойно, безмолвно, как цветок на подоконнике вырастает. Никогда бы не подумал, что Венерка, эта красивая, нахальная девка, за которой увивались все, от края до края городка, кобели, – никогда бы не подумал, что Венерка вырастит такого опрятного, умного мальчишку. Да ведь и сама Венерка теперь не та, что прежде, – куда подевался ее вызов всем мужчинам, вызов и покладистость, теперь она знала только сынишку, работу и школу (нынче она заканчивала десятый класс в вечерней школе). И младший брат, чья разболтанность и небрежение к учебникам сулили ужасные неприятности, и он остепенился, помогал кое в чем матери, прилежно учился. Правда, не отличник, но одолевает восьмой класс.
Сам Дамир давно уже не таскал кинобанки и аппаратуру по точкам, а работал в «Марсе», и Капустин поговаривал, что как только построят широкоэкранный кинотеатр, так он перейдет туда незамедлительно. Как и прежде, о каждом новом фильме он писал в газету, представляя жителям городка того или другого актера, который бог весть в каком году играл там-то и там-то. Но фотоаппарат он вернул редакции. Нет, не хотел он снимать прелестных горожанок на фоне ветхих достопримечательностей городка.
Если бы у него была кинокамера!
В городе цвела сирень. Из пыли сверкали тучные гроздья, перевешивались через изгороди палисадников, качались на руках у женщин, свежие, ароматные, как здоровые охоленные чада. Даже на телеге у Мишки-цыгана лежал огромный букет, смягчая ухарский, воровской вид коня и седока. К знакомому бодрому потрескиванию тележных колес примешивался некий мелодичный стыдливый звон.
Мишка остановил коня.
– Ой-ё-ё! – сказал он, покачивая головой. – Время – река, Дима. Как ты изменился!
Сам он тоже здорово изменился. Прежде всего удивительной была его одежда – длиннополый китель со стоячим воротником, по полам которого было нашито что-то вроде газырей у горцев, галифе, яловые сапоги, светящиеся сквозь свежий налет пыли. А лицо Мишки – в густых, кудрявых бакенбардах. Поговаривали, что Мишка после смерти старика Садырина стал старейшиной слободских цыган. Наверно, старейшина: вон китель с нашивками и бакенбарды.
– А где, Миша, тот конь? Больно уж хорош был.
– Тот конь, – ответил Мишка, – тот конь, Дима, наверно, скачет по полям Молдавии! А ты, если охота на хорошего коня поглядеть, зайди ко мне во двор. Зайди, не побрезгуй.
– Ну что ты, Миша! Зайду. А куда ты бутылки везешь?
– Бутылки? – как бы удивился Мишка, оглядываясь на ящики со стеклотарой.
– Что, новый промысел, Миша?
– Время – река, – с грустью ответил Мишка, но грусть его была наигранной. – Заскочи коня поглядеть.
И он пошевелил вожжи, и замечательный конь, романтический, разбойный конь повез телегу со стеклотарой.
А он стоял и долго смотрел вслед: на гладкую спину коняги, буйную шевелюру Мишки, горлышки бутылок, посверкивающих, позванивающих под акустирующим полдневным небом, – на все это яркое, высокомерное, жалкое… Он испытывал чувство стыда и жалости, как если бы его родной брат так надсаживался в потугах самоутверждения.
«Если бы у меня была кинокамера!»
Венерка ему сказала:
– Приехала Катя. Она, знаешь, очень красивая стала.
– Очень красивая?
Он погладил брюки, надел голубую тенниску и, сунув в карман портсигар и спички, пошел на Кирпичную улицу. Он шел и улыбался.
Катя сидела на лавочке.
– Здравствуй, – сказал он, подойдя, и голос его дрогнул.
Она встала и протянула ему руку. Лицо ее пылало, и он, глянув только раз на это пылающее лицо, потом все смотрел на ее платье такой мягкой, матовой голубизны.
– Прошлым летом ты не приезжала, – сказал он, но в словах не было упрека, просто ему надо было начать разговор с какого-то давнего дня, чтобы уверенней почувствовать себя. И она, точно поняв его, сказала:
– А позапрошлым я приезжала, но не застала тебя. А потом надо было возвращаться в Челябинск – ведь я почти все лето провела в лагере вожатой.
Он поднял руку и небрежно, но точно убрал прядку с ее виска, как будто готовился фотографировать ее.
– А тебе не попадалась там кинокамера? – вдруг спросил он.
– Кинокамера? Я редко хожу в магазины… может, и есть. А ты, между прочим, сам бы мог приехать.
Он только вздохнул.
– У нас нынче открывается институт культуры.
– Ты хочешь туда поступить? – спросил он.
– Нет. Уже решено – педагогический, и ничего другого. Может, ты подумаешь?
– О чем? – спросил он.
– Я же сказала: институт культуры!
– А-а, – сказал он. – Нет, Катя. Вот братишка закончит школу…
– Почему, почему ты… только ты должен помогать, заботиться, учить – почему? Ну, я понимаю, долг. Но ведь и Венерка обязана знать свой долг перед ребенком, матерью, перед тобой наконец! Почему ты… ты должен страдать из-за кого-то?
– Ты говоришь – из-за кого-то… Все-таки она сестра.
– А этот воришка, он кто тебе – брат? И его ты обязан кормить, и поить, и давать ему угол?
– Зря ты так говоришь, Катя,–сказал он, – зря говоришь. Робик сейчас в Белебее учится, и, может быть, из него мировой киномеханик получится.
– А ты? Ты думаешь о себе, о своей жизни в будущем… Понимаешь, в бу-ду-щем!
– Думаю, – сказал он. – Я думаю, Катя.
– Ты что, всю жизнь будешь крутить кино, снимать старину и писать заметки? Для кого? Для обывателя, для скучного, пошлого, дрянного города? Для Мишки-цыгана, для кого?
– Ты город не трогай, – сказал он. – Город ничего плохого тебе не сделал. А если тебе не интересно…
«Вон что! – внезапно подумал он. – Значит, ей совсем не интересно, что я делаю. Каждому жителю интересно, а ей не интересно». И с тоской подумал: «Была бы кинокамера! Господи, да помоги мне!..»
– Что умного, красивого в этом городе? – слышал он ее голос, но он не отвечал ей.
Что ж, может быть, и нет особой красоты. Но вот когда-нибудь он объедет полсвета и все красивое сфотографирует, снимет камерой – и все отдаст городу.
5
Он стоял перед Капустиным и смотрел в окно, пока тот читал его заявление об увольнении из кинотеатра. Прочитав, Капустин мягко спросил:
– У тебя, может, дома неладно? Или болеешь? Что же ты молчишь?
– Я здоров, – ответил он, а лицо у него было осунувшееся, бледное. – Только… я уже вам говорил – там у них кинокамера есть.
– Кинокамера?
– Никогда бы не подумал, что в сельхозтехникуме камера может быть. А тут Гаспарова встретил, преподавателя… говорит: ты не смог бы кое-что сфотографировать на опытном поле… и заплатили бы, говорит. А потом… вот он и сказал про кинокамеру.
– Что сказал?
– Хорошо бы, говорит, учебный фильм заснять, кинокамера, понимаете? – кинокамера, говорит, есть, а снимать некому… Да если бы я раньше знал!
– Та-ак, – промолвил Капустин, но махнул рукой и, резко обмакнув перо, подписал заявление. – Имей в виду, – сказал он, – до сентября никого не возьму на твое место. Может, за два-то месяца…
Но Дамира уже не было в кабинете.
Ему жаль было доброго Ивана Яковлевича, жаль прошлого, но за ближним днем – блазнилось такое!.. Точно одурманенный, ходил он по городу и видел кадры будущего кино. Действие должно было происходить на малой, скудной его родине… мерещилась Катя в пыльном блеске дня, и чья-то печаль сжимала его сердце, он не догадывался, что это собственная его печаль.
Первым зрителем был Реформатский. Он сидел в зальце летнего театра один, курил и зычно кашлял в темной гулкой пустоте зала. На экране мелькали резная оградка городского сада, окраинные домики, обломки крепостной стены, дальше – омут, скалы, широкий зев пещеры, мост через речку, солдаты с оркестром, вокзал и новые автобусы.
Кончив крутить, он, не зажигая света, прошел между стульями к Реформатскому и спросил сиплым голосом:
– Как?
И тот сказал голосом, полным доброты и могущества:
– Я покупаю этот фильм. Буду демонстрировать в музее каждую среду. Для школьников. Пусть знают родной край.
– Вы скажите… я не обижусь… может, чего-то не хватает? Может быть, я постараюсь и сделаю лучше?
Реформатский молчал. Во мгле почудилась его жестокая усмешка.
– Я не продам, – сказал Дамир и побежал включать свет. – Я не продам! – закричал он, опять подбегая к Реформатскому.
А тот молчал, и лицо его было багрово от какого-то напряжения, потом оно стало как бы множиться – десятки, много десятков лиц, как на базаре, упрямых и глухих.
– Да вы мне скажите! – умолял Дамир.
– Лучше? – тупо произнес Реформатский. – Вы спрашиваете – лучше? – И опять он замолчал.
Дамир закричал:
– Не продам!
Назавтра он пошел в библиотеку.
– Мне нужны книги про кино, – сказал он.
– Какую книгу? – спросила библиотекарша.
– Книги про кино, – повторил он, – Все, какие есть.
За ее спиной была открытая двустворчатая дверь в огромную комнату с полками, насыщенными множеством томов, и она вошла туда и вернулась с кипой книг.
– Это все? – спросил он, протягивая обе руки.
– Есть еще, – сказала библиотекарша. – Но зачем так много? Вы записаны у нас?
– Нет, – сказал он.
Пока она записывала его в карточку, он вынул из кармана бечевку и перевязал кипу.
– Ой, что вы! – сказала библиотекарша, подняв глаза. – Мы по стольку не выдаем. Читайте здесь. Или возьмите… ну, две, три.
– Я возьму три.
Он побежал с зажатыми под мышкой книгами в техникум, заперся в фотолаборатории и, включив яркую лампочку, стал читать. Он быстро устал и прикрыл глаза. В голове у него все вертелась одна странная фраза: «в конце концов выколдовывается какой-то очень бутафорский и условный, с избытком мелодекламации и виньеточности, но свой выразительный стиль». Он долго сидел так с закрытыми глазами, пока буквы, сложенные в такую замысловатую фразу, не стали кривляться перед ним. Он опять почитал и опять быстро устал. Все та же фраза вертелась у него перед глазами: «…с избытком мелодекламации и виньеточности, но свой выразительный стиль».
На следующий день он опять стоял перед библиотекаршей.
– Быстро вы прочитали, – сказала она. – Возьмете еще?
– Не знаю, – сказал он.
Она поглядела на него внимательно, с любопытством.
– Вы, наверно, собираетесь на кинофестиваль?
– Куда?
– В Москву собираетесь, на кинофестиваль?
– А разве?..
– О-о! – сказала библиотекарша. – Там столько звезд соберется.
– И Мишель Симон?
– Не знаю. Так записывать?
– Что? – сказал он, как бы опоминаясь. – Нет, не надо.
6
Он исчез из города на целых две недели, впервые и так надолго, если не считать его поездки в Белебей, где он учился на киномеханика.
Ах, видно, что-то значил он для обитателей городка! Едва только он ступил на перрон, а уже мальчики бежали по улицам и кричали: «Дамир приехал! Фотограф приехал!» – и к дому он шел впереди толпы, которая подвигалась за ним в каком-то напряженном молчании, чреватом криками ликования, или воплями зубоскальства, или злой потехой. Но ничего такого не произошло, он ускользнул во двор, и только через несколько дней горожане узнали, что он ездил в Москву на кинофестиваль и заснял там самых-самых известных артистов, а с одним особенно знаменитым даже сфотографировался рядом. И правда, скоро снимки напечатали в газете, а потом вывесили в фойе кинотеатра «Марс», заняв ими целую стену.
И вдруг впервые за много лет его увидели пьяным. Но он был так мил! Он как бы даже светился весь удивительной приязнью и чувством всепрощения. Увидев Реформатского, он первым протянул ему руку, и тот, говорят, прослезился и все твердил: «Покупаю, милый, покупаю оптом! Ничего не пожалею!» Но Дамир, хоть и пьяный, хоть и совсем добрый, он только усмехался на эти слова и неуступчивым жестом останавливал речи Реформатского.
К счастью тех, кто вправду его любил и, может быть, жалел, больше его не видели пьяным. Но что-то в нем переменилось, и это, пожалуй, можно понять: ведь уезжал он с какою-то спортивной, что ли, злостью, с каким-то аскетическим чувством самоотречения ради своих целей, но и с чувством некоторой ущербности. А вернулся, заполучив кое-что. Нет, в самом деле: увидеть вдруг всех вместе знаменитых артистов, которых он любил и преклонялся перед ними, увидеть их, дышать одним воздухом с ними, а с Жаном Марэ стать рядом и запечатлеться навсегда – этого он не ожидал. Но, пережив такой восторг, он принял одно ужасное испытание: эти горожане, сами того не подозревая, сыграли над ним злую шутку, поставили его в постыдное положение своим неуемным преклонением. И он обмяк, сразу устал… Вот, может, в одну особенно усталую минуту он и напился.
Он потихоньку работал себе в техникуме, снимал камерой то-се, не замахиваясь на большее. А через несколько лет он вдруг стал заведующим открывшегося в городе ателье проката. Это, может, и удивительно, но только на первый взгляд. Кто лучше его понимал толк в фотоаппаратах, телевизорах, радиоприемниках? Конечно, он!
С курьеза началась его новая работа. Две трети денег, предназначенных на предметы первой необходимости, он истратил на фотоаппараты, транзисторы и магнитофоны и даже купил одну кинокамеру. Торговые начальники вопили:
– А где стиральные машины, пылесосы! А детские коляски!..
Правда, все тут обошлось. Да вот другой курьез: он взял да и выдал на руки четверокласснику новый фотоаппарат. Через день в ателье пришла мать мальчишки. Битый час она сидела над раскрытою книгой жалоб: разве можно детям давать такие ценные вещи, за которые не каждый родитель расплатится, случись что! А он молча, терпеливо смотрел, как она пишет, потом аккуратно промокнул написанное, осторожно закрыл книгу и положил ее на место. Мамаша что-то еще говорила, то улыбаясь, то хмурясь возбужденным лицом, но он будто не слышал, задумчиво смотрел мимо нее, и глаза у него были мечтательные, добрые, может быть, чуточку печальные.
Эту задумчивость и странную печаль на его лице видел каждый, кто заходил в ателье. А заходили не только за пылесосами, или детскими колясками, или фотоаппаратами – заходили просто посидеть, послушать пластинки, порасспросить о встречах его со знаменитыми артистами. Однажды к Дамиру пришел старый чемоданщик Фасхи. Это был гордый, знающий себе цену человек, мастер. Теперь дела у него шли из рук вон плохо, фанерных чемоданов никто не брал, а ведь он всю жизнь их делал… И вот он пришел к Дамиру, как если бы тот был мулла или просто очень уважаемый старый человек. Уж неизвестно, о чем они говорили, но доподлинно то, что чемоданщик Фасхи получил в подарок карточку Жана Марэ с надписью самого артиста, уникальный экземпляр. И чемоданщик Фасхи ушел ужасно довольный, ужасно гордый.
Когда ему особенно досаждали, он смотрел на своих гостей мучительно и ласково, наконец доставал из картонной коробочки фестивальные значки и дарил гостям. Но если и потом не уходили они, Дамир хмурился и принимался чинить фотоаппарат.
Только мальчишки не надоедали ему никогда. Он по-прежнему давал им фотоаппараты и, если их возвращали испорченными, он кропотливо починял, чтобы, починив, опять отдать мальчишкам. Подолгу просиживал он с ребятами, рассказывая о кино, мечтая о необыкновенном будущем для каждого из мальчишек.
Но что-то как бы оторвалось от него, порхнуло над его мечтательной головой и исчезло. Что-то он сразу простил горожанам и что-то простил себе. И после увлекательных, одушевленных мечтаний с мальчишками он оставался один с мучительным выражением на лице… Он как будто что-то вспоминал и не мог вспомнить.
Так шли дни, месяцы, годы. Однажды только вокруг имени Дамира как бы вспыхнуло сияние и скоро же погасло, оставив странное прибавление к его имени. Корреспондент областной газеты заезжал в городок и побывал в ателье. Потом горожане читали очерк о своем любимце – «Досье интересных встреч». И с тех пор директора ателье стали звать Досье Дамир.
Тихий сельский вечер льется в переулки и улочки городка, купает в себе листву сирени и акаций, обожженных зноем дня. Горожане выходят погулять.
Вот мужчина, худой, в широкополой соломенной шляпе, в шелковой сорочке с длинными рукавами, поддернутыми резинками. И от того, что резинки стискивают руки, одна кажется особенно худой, безмускулистой и висит плетью. В мужчине нелегко признать бывшего карманника Робу, теперь это Роберт Асанович, киномеханик «Марса».
А вот шуршит старая легковушка, и в окошке можно увидеть этакого грузинского витязя: смоляные коротко стриженные волосы, тонкие усы, и щегольская бородка, и осанка – дай бог каждому такую осанку! – это Мишка-цыган, по слухам, старейшина своих сородичей. На ветровом стекле автомобиля приклеен снимок – возможно, подарок Досье Дамира.
И вот однажды, когда Мишка-цыган лениво направил свой автомобиль на левую сторону улицы, чтобы, не объезжая, притормозить возле ателье, – тут вдруг пришлось ему резко остановиться. Прямо перед радиатором стоял щуплый, с узким горделивым лицом парнишка и щурил на него глаза.
– Эй! – удивился Мишка-цыган и слегка высунулся из кабины. – Чего под колеса лезешь? Уходи-ка с дороги!..
– Нечего мне уходить, – ответил парнишка. – Это вы, наверно, забыли правила уличного движения. Я-то как раз правильно иду, а вам придется назад сдать.
Мишка-цыган легонько двинул автомобиль – парнишка только губы прикусил, когда радиатор уперся в его ноги.
– Сдайте лучше назад, – крикнул он, морщась, но с каким-то ликованием на лице. – Если вы не знаете правил, то поучитесь!
И он так и не отступил. Пришлось Мишке-цыгану, ругаясь и смеясь, дать положенного круга и остановиться возле ателье. Он и не оглянулся на парнишку, но качал головой и сердито что-то бормотал, направляясь к крыльцу двухэтажного каменного здания с барельефными узорами на фронтоне.
Уже стемнел вечер, на улице глуше становились звуки, а на втором этаже, в просторной комнате у Досье Дамира, никто и не думал расходиться. Тихо играла музыка, светила с потолка рыжая лампочка, а на дальнем конце стола, где сидел Дамир, горела еще лампа под абажуром, делая лицо Дамира мягким, таинственным и печальным. По бокам стола расположились чемоданщик Фасхи, Реформатский, ребята-шоферы, учитель-пенсионер и еще несколько горожан. У каждого на груди фестивальный значок – они были как члены какого-то загадочного ордена.
Приглушенным голосом Дамир говорил:
– …Мишеля Симона в Москве одели в форму московского таксиста, посадили в «Волгу» и сфотографировали. Незабвенный господин такси!..
Он замолчал, и кто-то мечтательно вздохнул, кто-то потянулся за папиросой, что-то приговаривая и посмеиваясь удовлетворенным крутым смешком. И вдруг этот паренек – никто и не видел, как он вошел и занял место не где-нибудь с краю, а почти рядом с Дамиром, – щуплый, с худым горделивым лицом, покуривает и то ли спорит с кем-то, то ли сам с собой разговаривает:
– Сейчас Пеле не тот. Точнее, он тот же, но теперь… э-э, хитро все – он-то прежний, но уж теперь не он выходит на удар. А выходит как раз Тостар. Чуть изменили тактику…
Тут Мишка-цыган угрожающе всколыхнулся над столом, и в глазах у него заметались злые искорки:
– Ну, давай, давай! О футболе поговорим! Ты, надеюсь, сторонник атакующего футбола, а? Так, что ли, малыш? – И крепко взъерошивает пареньку волосы, – Так, что ли, а? И твой любимец – Пеле?
Паренек снисходительно на него смотрит суженными повлажневшими глазами и отвечает:
– Что же, Пеле, конечно… Но Гарринча…
– Гарринча? Ты говоришь, Гарринча? – громко смеется Мишка-цыган. – Да Гарринча, если хочешь знать, давно не играет.
– А я знаю, – спокойно отвечает паренек. – Это вы, наверно, забыли его знаменитый финт…
– Ну, ну! – послышался одобрительный голос Дамира. Он оживился, отодвинул лампу с абажуром и, присаживаясь поближе к пареньку, посмотрел на него ласковым, потворствующим взглядом. – А может ли, скажи, может ли футбол стать призванием, делом, которое полностью удовлетворит человека…
– …наполнит его жизнь, как книги, как музыка? – продолжал учитель-пенсионер, и Дамир ободряюще качнул головой.
А паренек и не поглядел на них:
– Если не знаете, так нечего говорить. Мало кто знает, что у Гарринчи одна нога короче другой на восемь сантиметров…
Мишка-цыган откровенно приуныл. Но и Дамир сник, и лицо его приняло мучительное и ласковое выражение, он даже потянулся было к картонной коробке с фестивальными значками, но резко отдернул руку.
– Не знал, не знал, – проговорил он, как-то странно усмехаясь.
А паренек смотрит на него прямо, снисходительно, нет, пренебрежительно и говорит:
– Вот и вы не знали. А нога у Гарринчи на восемь сантиметров короче. Я поспорил с Рыбиным, это кладовщик у нас, он тоже… – паренек усмехнулся едко, – тоже любитель футбола. Кричит: не верю! Ладно, говорю, давай спорить, и я тебе докажу. Если, говорю, проспоришь, отдашь мне кило гвоздей…
– Ты говоришь, кило гвоздей? – переспросил Дамир, и пока в лице его было лишь недоверчивое удивление. – Кило гвоздей? – то ли смех, то ли гнев клокотал за этой непрочной оболочкой недоверчивого удивления.
А тот спокойно ответил:
– Кило гвоздей. А куда он денется, если я знаю хорошо: у Гарринчи одна нога короче…
Внезапно Дамир встал, схватил парнишку за ворот и приподнял над столом, тряхнул, словно приводя в чувство.
– Катись-ка, милый, и чтобы духу твоего не было тут. Понял?
Вид у парнишки был щенячий, но он, сохраняя спокойствие, стряхнул руку Дамира, сощурил глаза и презрительно обвел всех горделивым взглядом.
– Вон! – диким голосом закричал Дамир. – Вон, вон!..
Тот не стал задерживаться, но он, щенок такой, успел еще усмехнуться, прежде чем оказался за порогом. Дамир утомленно сел, вяло протянул руку и выключил радиолу. В наступившей тишине гости один за другим стали подниматься и выходить. Скоро в комнате он остался один.
Через минуту с улицы послышалось какое-то оживление, и Дамир подошел к окну. Там чемоданщик Фасхи, ребята-шоферы, Мишка-цыган, Реформатский – все стояли на мостовой и, задрав голову, звали:
– Дамир!..
– Досье Дамир!..
– Дима, дай бог тебе здоровья, сынок!
Мишка-цыган:
– Дима, поедем. Я завожу автомобиль!
Они, кажется, только там опомнились, обрели дар речи; голоса звучали восторженно.
– Я не поеду, – сказал Дамир и махнул рукой. И это был то ли прощальный жест, то ли жест отвержения.
Компания стала разбредаться. Уехал Мишка-цыган. А он стоял у окна, и под ним был городок, скученный меж двух речек и разбросанный слободами по ту и по другую сторону речек, необозримый, теряющийся в густой, еще не сонной копошащейся мгле. И слышалось, и мнилось, как потрескивают колеса таратаек, шелестят травы в степи, кричат в болотцах лягушки, сигналят во тьме автомобили, далеко в степи летит и падает гудок электровоза.
Он с грустью думал о том, что он с самого начала искал с горожанами мира и согласия. Но так ли? Он не мира искал, он хотел их покорить, он ненавидел их тогда. А потом все-таки полюбил, подумал он, они ведь, как дети…
И вдруг его как осенило: да ведь парнишку-то зовут Федей, он брал в ателье фотоаппарат, очень интересовался этим делом.
«Вот щенок, вот щенок!» – подумал он с ласковым и мучительным чувством.








