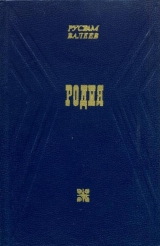
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Отец рассмеялся.
– Хабиб себе самому кажется ой каким хитрым! – сказал он воодушевленно.
– А он и не заметит, как ловко мы его обведем вокруг пальца, – подхватил я.
Отец опять рассмеялся веселым и каким-то наивным чистым смехом. Я так любил его за этот смех.
Мы попили чаю, долго еще сидели и курили, а потом пошли в комнатку и улеглись спать.
4
– Ты еще не спишь? – спросил я.
Отец завозился, забормотал что-то, наконец очнулся и сказал:
– Да нет, не успел заснуть. А что?
– Здесь наверняка есть тощие-претощие пиявки, – сказал я.
– Я про пиявок-то совсем забыл, – сказал он уже не сонным голосом.
– Ну ладно, давай будем спать, – сказал я, уже досадуя, что разбудил отца. Но он долго еще разглагольствовал насчет пиявок и прочей дряни, любой дряни, которую можно было бы обменять, купить и перепродать. Я лежал и молчал. Но злого чувства, даже легкой досады на отца у меня не было. Я же говорю: я любил его. Да, сейчас совсем другое дело – в сравнении с тем временем, когда я был мал и глуп.
Едва я вошел в тот возраст, когда кое-что начинаешь узнавать о своих родителях, меня неприятно поразило то, что отец мой, оказывается, был почти на двадцать лет старше моей матери. Для меня, если плюнуть на пересуды горожан, это обстоятельство не играло никакой роли: родители жили дружно, меня никто из них не обижал, но то, что об э т о м можно было говорить, уязвляло меня ужасно. Потом это прозвище – Купец Сабур! Я бы дорого дал тогда за одно то, чтобы не быть сыном Купца Сабура. Я пытался даже убежать из дома, но был высажен на какой-то маленькой станции в таком жалком состоянии, что не смог толком объяснить, где живу. Собралась большая толпа, и я, конечно, надеясь, даже, может быть, уверенный в удаче, сказал, что моего отца зовут Купец Сабур. И благополучно был доставлен домой.
Лет до двенадцати я был маменькин сынок. Не то чтобы я был слюнтяй или там обижали меня, а я только и делал, что прятался за мамину юбку, нет – просто я любил бывать как можно чаще возле матери. Я любил ходить с ней на базар за овощами и мясом и держаться за ее руку, чтобы чувствовать себя как бы причащенным к ее легкой походке, чтобы даже сквозь мягкую и трепетную ладонь чувствовать ее глубокий грудной голос, – мне даже казалось, что ладони моей щекотно, когда мама говорит своим мягким мелодичным голосом. Мне нравились ее остроносые чувяки, мягко ступающие по пыли, ее красивые цветастые шальвары, видные из-под длинного подола ее красивых платьев. Мне казалось, что мы с нею в чем-то – даже и не знаю, в чем – единодушны. Может, мне казалось, что и она уязвлена, по крайней мере, разговорами об отце, который был старше ее почти на двадцать лет. Но, может, все объяснялось необычайным равнодушием ко мне отца, а меня тянуло к ласке и вниманию. Так было, говорю я, лет до двенадцати. А годам к четырнадцати я уж просто стыдился всякого там слюнтяйства и просто-напросто избегал мамы.
Сейчас мне нравилась свобода, а свободу – то есть безразличие ко мне – мог дать только отец. Возможно, что именно поэтому я и приобщился к ремеслу печника и стал после семилетки ходить вместе с отцом.
Печник он был никудышный, это я сразу понял, а уж горожане, я думаю, знали об этом все сорок лет, во время которых он складывал им печи. Но он вроде был им необходим, конечно, не как печник, а как, может быть, Ходжа Насреддин. Он не был даже острословом, а уж о его мудрости говорить не приходится – эта житейская не то что мудрость, а мало-мальская изворотливость начисто в нем отсутствовала. Но отчего так нравилось горожанам, когда он вдруг предлагал кому-нибудь рессору от самого что ни на есть древнего тарантаса, а взамен просил ведро овса? А другому он умел всучить совершенно тому не нужный овес и получить взамен желтую охру. А однажды (я еще не ходил тогда с ним) он принес домой двухлитровую банку, в которой мерзко потягивались черные пиявки. С тех пор он пристрастился питать этих тварей собственной кровью. Я думаю, ему обидно стало от маминых язвительных упреков и откровенных смешков – так он, я думаю, в доказательство своей правоты пригрел тогда на своей полнокровной шее мерзких пиявок: пригодились-таки!
Так почему же все это нравилось горожанам, которые терпели одни убытки от Купца Сабура? Чего тут мудрить: просто потому, что они отдавали совсем не нужную им вещь и получали взамен тоже совершенно никчемную. И это происходило легко, весело, как будто в жизни и не существовало никаких забот о хлебе насущном, об одеже, о корме для скота.
Помню, тогда у меня было двойственное отношение к отцу. Во-первых, мне нравилось, что отец мой, Купец Сабур, необходимый для городка человек. А во-вторых, я как бы превосходил его в каких-то качествах, хотя никаких таких качеств я еще не имел – я еще не смог бы тогда сложить самую худую печку, – своим достоинством я мог считать только то, что я-то не занимался чепухой, которой занимался Купец Сабур.
Это смешно, конечно, что я чувствовал тогда превосходство над отцом, я был жалкий н и к т о, а так возносился! Другое дело сейчас. Может быть, благодаря только мне отец имеет сейчас счастливую возможность получать заказы и проделывать свои фокусы-мокусы. Вот уж три года мы кладем отменные печи, о нас знают во всем городе и в районе, в самых отдаленных селах, потому что мы кладем превосходные печи. Нет, я не буду говорить, что и как я делаю – что об этом! Я могу, с минуту поглядев на дым, идущий из трубы, сказать, какова печь. Я могу только заглянуть в топку на горящие дрова и определить качество печи. Мне достаточно войти в дом, где тепло, где теплый воздух чистый-пречистый – вроде бы у людей очень хорошая печка, – но если я даже едва притронусь к низу, а потом к верху печи – я уже знаю, истинно ли хороша печка.
О том, что я умею, знают все. Только один человек как бы не знает о моем умении, этот человек – мой отец. Если бы он услышал, что его сын мастер по печам, он бы удивился и, наверно, спросил: «Разве? А я и не знал, надо будет посмотреть». Так мне кажется, потому что он ни разу не похвалил меня, ни разу не признал, что, только благодаря мне, мы имеем так много заказчиков. Он по-прежнему горделиво, уверенный в моем восторге и преклонении, может рассказывать в досужий час о том, как он в тысяча девятьсот двадцать третьем году ловко торговал ботинками у великого нэпмана Провоторова, а еще раньше у купца Юзеева был приказчиком, уж такие фокусы проделывал! Вот, например, казах приехал в город и торгует сундук. Хлопают по рукам, и приказчик водружает сундук на арбу, а в сундуке полным полно чаю – так что казаху приходится платить и за чай. Да много таких историй мне приходилось слышать от Купца Сабура.
А меня ничуть не обижает его равнодушие к моему умению и, можно сказать, моей славе. Я его люблю, я не могу представить, чтобы я вдруг взялся за работу, а Купца Сабура не оказалось бы рядом. Работа у нас кипит – при моем неистовстве и полнейшем равнодушии к печам у отца. Я не могу этого объяснить.
Мне не спится, но я не мучаюсь этим. Я лежу, удобно подложив под голову руки, и думаю об отце и о себе, и бог знает, какие необыкновенные мысли приходят мне в голову. Ну, например, отец умирает, и я устраиваю ему пышные похороны, не знаю, какие уж там похороны, но чтобы об этом долго говорили в городе. Но это не все: я сооружаю в память о великом Купце Сабуре что-нибудь вроде царских ворот, которые, кстати, стоят на въезде в плодосовхоз. Говорят, что эта арка поставлена была в честь то ли престолонаследника, то ли самого царя, когда тот в бог весть каком году посетил наш городок. В конце концов, Купец Сабур значил для города куда больше, чем престолонаследник.
5
Я опять поднимаюсь рано и разжигаю очаг. Покуда отец расшевеливается и прибирается, чай уже готов и вынуты последние припасы (сегодня надо будет пойти на склад и взять в счет оплаты кой-какой еды), мы наскоро завтракаем, а тут являются и Гена с Аней.
Парню я поручаю протереть через сетку глину, а девчонке – просеять песок. Ей, наверно, интересно и нетрудно будет этим заниматься. Сегодня я смотрю на нее безо всякого интереса. Мне почему-то кажется, что она смущена и, наряду с этим, чуть-чуть лукава со мной. Но мне только смешно. Неужели она что-то такое подумала из-за того, что я вчера подвинулся на телеге и она села рядом?
Наконец все готово: установлены подмости, в рамки уложен кирпич – только протягивай руку и бери, – на скамейках стоят ящики с раствором, ведра с водой. Это все-таки хорошо, что класть нам приходится на готовом фундаменте – мы только расчистили его поверху, настелили слой толя и начали класть. Выложив два ряда, я стал протягивать от пола к потолку шнуры, чтобы углы класть точно по вертикали. И тут я заметил, что Аня сидит на корточках и наблюдает за мной. Я не люблю, когда на мою работу кто-то глазеет.
– Ты чего тут сидишь? – сказал я. – Тебе делать нечего?
– А что? – сказала она, стремительно встав. Она, конечно, сильно покраснела, но я подумал, что не такая уж она кроткая, как мне сперва показалось. – А что?
– Может быть, ты весь кирпич очистила?
– А разве?..
– Старый-то кирпич? Еще как понадобится!.. Дуй-ка во двор.
Она тут же убежала и до самого обеда не появлялась в комнатах. И раствор, и кирпичи носил Гена, а она, кажется, все соскребывала остатки раствора со старых кирпичей. Подошло время обеда, и, так как запасов у нас никаких уже не оставалось да и горячего не хлебали со вчерашнего дня, мы отправились в столовую. Мы стали в очередь, и тут я заметил, что отец то и дело кивает – одному, другому. У него, как и всегда, уже завелись знакомые. Одного своего знакомого он пропустил впереди себя. Это был парень лет двадцати пяти, рослый и плечистый, только ряшка больно толстая, губастая, с широким носом. Отойдя от кассы, он потоптался посреди зала, а потом сел за наш стол.
Он молча выхлебал тарелку супа, так же молча умял второе, залпом выпил компот и встал.
– Лопатку я тебе достал, – сказал он отцу. – В кабине лежит.
Когда мы вышли из столовой и приблизились к машине, парень уже спал в кабине, высунув наружу ноги, обутые в огромные резиновые сапоги. И храпел – будь здоров! Отец растолкал его довольно бесцеремонно и спросил лопату. Когда лопата оказалась у него в руках, отец сказал проникновенно:
– Спасибо, Алчин! Я свое обещание сдержу.
– Смотри, – сказал шофер хриплым голосом и, зевая, широко раззявил губастый рот.
Машина зафырчала и покатила своей дорогой, а мы с отцом отошли в сторонку и стали разглядывать лопатку. Она была острая, как топор, со стальной ручкой, верхний конец которой оканчивался полированным шаром.
– Интересная штучка, – сказал я.
– Лопатка хоть куда! – подхватил отец. Он огляделся, где бы присесть. Мы отошли на противоположную сторону улицы и устроились на лавочке, закурили. – Я вот и говорю, лопатка хоть куда! – продолжал отец, затягиваясь дымом. – Картошку ли копать, лед ли счищать с крыльца…
– А то хвать быка по башке, он и свалится, – со смехом сказал я. – И тут его ножом по Горлу!..
– Пожалуй, – согласился отец, правда, не так уже воодушевленно.
– А что ты ему взамен предложил? – спросил, я.
– Китайский фонарик, – сказал отец.
– Ой-ё-ё! Ты думаешь, в этой дыре у кого-нибудь есть китайский фонарик?
– Не такая уж это дыра, – сдержанно ответил отец и поднялся, бросив окурок.
– А может, еще какую-нибудь выгоду будем иметь от знакомства с этим Алчином? – спросил я.
– Да вряд ли, – ответил отец. – Хотя… он говорит, что мог бы пустить нас на квартиру.
– Тогда ему два, два китайских фонарика, если он пустит нас и если квартира у него хорошая!..
– У него очень хороший дом, – сказал отец, как бы гордясь своим знакомым.
На этом мы прекратили разговор и ходко двинулись к конторе. Мы уже приступили к работе и уже выложили два новых ряда, когда отец, сунув кирпич в воду и задержав там руку, сказал задумчиво:
– А вот второго китайского фонаря может и не оказаться. Действительно ведь дыра.
– Мы лучше подкинем ему сверх того, что он запросит за жилье, – сказал я.
– Вот, вот, – оживился отец. – И чтобы торговаться – ни-ни!
– Еще из-за квартиры торговаться! – в тон ему ответил я.
В этот день мы пораньше оставили работу и отправились смотреть квартиру.
Мне дом сразу понравился. Это был невеликий четырехстенник с высоким подызбьем, глядящим на широкий двор двумя оконцами (сперва я подумал, что нам предложат этот полуподвал). Но сени были так просторны, что с боковой стороны дома были устроены, две комнатки, а с задней – просторный, видать, чулан. Пока мы говорили о том, о сем с женой Алчина, сам хозяин внес со двора железную печурку и поставил ее в одной из комнат, – значит, нам не придется мерзнуть.
Мы осмотрели комнатки, даже заглянули в чулан, а потом нас пригласили в дом, этакий теремок, разделенный на две половины. В меньшей, в простенке между окнами, стоял стол, на который был водружен самовар, да еще чайная посуда, покрытая расшитой холщовой салфеткой. В большей комнатке стены были украшены развернутыми полотенцами с ткаными узорами на концах. На окнах – белые занавески, сдвинутые в сторону. Двуспальная кровать с горкой подушек была закрыта занавесью с бахромой внизу.
Вскоре вскипел самовар, поменьше, чем тот, красующийся на столе, запахло лепешками. Алчин выставил даже бутылку водки, и мы выпили с ним по стаканчику. Хозяин молчал, и мне стало казаться, что он недоволен гостями и, может быть, сожалеет, что согласился пустить нас на постой. Но я вспомнил, как живо прибежал он с печкой, нет, видать, он совсем не плохой парень. А что молчаливый, так ведь не каждому быть таким речистым, как Купец Сабур. Да и слушал он отца с таким вниманием, что даже краснел от натуги. Я как-то мельком подумал, что у такого буки красивая жена. А впрочем, он, может быть, замечательный семьянин.
А Зейда и вправду была красивая, только вот слишком, по-моему, румяная. Это, конечно, от ежедневного пребывания в поле. И руки у нее слишком крупные. А так она очень красивая: большие удлиненные глаза, длинные ресницы, она низко опускает их, протягивая нам чай в расписных чашках…
Алчин все молчит и молчит. Это даже неприятно, когда человек так молчит, хотя весь покраснел от натуги, слушая речи отца. Тут я подумал: «Может, его беспокоит, сколько мы ему будем платить?» И я сказал:
– Не мешало бы договориться насчет платы.
Он только сказал: «А-а!» – и ни слова больше, и так пренебрежительно махнул рукой, что сомнений быть не могло: ни о чем таком он и думать не думал.
Мы в тот же день перебрались в новую квартиру, протопили ее на ночь и спали до утра как убитые.
6
Наутро я проснулся свежим и бодрым, и матовый, с голубизной свет в оконце как-то странно соединился во мне с чьим-то голосом.
Но было тихо. И я понял, почему так тихо: наш домик и домики вокруг пережили кутерьму раннего подъема, уже выгнан скот на пастбище, хозяюшки проделали все, что им полагается, и теперь равномерное течение дневных забот обходило нас стороной.
Я поднялся, натянул брюки и чувяки и открыл дверцу в сени. Пол в сенях был влажен от росы, на рукомойнике блестели крупные капли, и даже на чистом, с узорами, полотенце, мне показалось, есть росяной налет. Проходя мимо, я коснулся полотенца – оно было прохладным. Я рассмеялся и в два прыжка слетел с крыльца во двор. Тело мое требовало движений, крика мне хотелось и смеха.
Я увидел, что из сарайчика вышла Зейда. Лицо ее было озабоченным, но это я заметил минуту спустя.
– Доброе утро, хозяюшка! Почему вы не на работе?
Голос мой был слишком оживленным, слишком громким, но он не был игривым. И вот тут я и заметил, что она озабочена чем-то.
– Не могу найти свою лопату, – сказала она, как будто винясь передо мной.
– Я поищу, – живо отозвался я, – вот только умоюсь… – Я взбежал на крыльцо, в сени, быстро ополоснул лицо, затем спустился во двор.
Зейда как будто чувствовала себя виноватой, смущенно смеялась и говорила: не стоит, мол, искать и терять время зря. Но я рылся в сарайчике, в клети, под навесом, разворошил дрова и разную рухлядь. Я вытащил из этой рухляди по крайней мере три или четыре лопаты, но Зейда качала головой: нет, не та. Наконец она ушла. Я решил еще раз раскидать под навесом все эти примусы, керосиновые лампы, ведра, обломки стульев и старого дивана, а как только лопата найдется, так сразу же побежать за Зейдой.
Тут калитка открылась, и вошел отец, держа в обеих руках что-то, завернутое в фартук. И меня как осенило.
– Слушай, – сказал я, – Зейда все утро искала лопатку! Мы с тобой еще добудем себе какую хочешь лопатку, а ту, что дал тебе Алчин… А что это у тебя под фартуком? – вдруг спросил я.
– Пиявки, – ответил отец. – Тощие, как угри. Десять пиявок!..
– И это значит, лопатку нам не найти, – обреченно сказал я.
Отец молча пошел к крыльцу, прижимая к животу банку с пиявками. На крыльце он обернулся.
– Хорошо ли ты смотрел? – крикнул он.
Я только рукой махнул. Он рассмеялся.
«Старый плут, – думал я, поднимаясь за ним следом, – старый бездельник и плут! Уж лучше бы я один работал, чем с таким помощником!..»
Я резко выдернул из-под кровати свой баул и взмахнул им так сильно, что задел легонькую тумбочку и опрокинул ее.
– Вай! – сказал отец. – Ты куда с баулом? Без четверти девять, добрые люди уже давно работают.
– У нас ни крошки еды, – сказал я. – Может, ты у нас заботишься о продуктах?
Я отправился на склад. Ладно, сегодня мы устроим себе выходной, а уж завтра поднимемся рано и поработаем дотемна. Я набрал продуктов и вернулся на квартиру.
Отец лежал на кровати, рядом на табуретке стояли две банки, в одной плавали тощие пиявки. Те, что прилепились к шее отца, уже набухали кровью.
– Конечно, – сказал я, – если уж пиявки приобретены, то почему бы ими не терзать себя.
– Зря ты так говоришь, – сказал отец, пропуская сквозь зубы кряхтение-стон, – зря так говоришь. С утра голову ломило, а теперь полегчало.
Я отнес продукты в погреб и отправился со двора.
Вокруг было ясно, свежо, травка у заборов, деревца в палисадниках сверкали последней зеленью. С полей слышался стук тракторов; груженные саженцами машины, покачиваясь в уличках, выезжали из села. Я вышел за околицу и зашагал на поля. Там и сям мелькали фигуры работниц, грядокопатели и бороны медленно продвигались вдоль участков. Парни сгребают в кучу отмершие ветки и побеги и поджигают – белый дым стелется широко, отлетает клочьями в небо. А другие плугом копают ловчие ямы и канавки, набивают их горячим навозом, а уж туда забираются медведки на зимовку. Когда ударят морозы, навоз разбросают, и жучки протянут ножки.
Когда я проходил возле хранилища, меня окликнули, и я увидел Алчина. Он сидел на подножке грузовика и курил.
– Присаживайся, – сказал он. – Что, отдыхаешь?
– Отдыхаю, – сказал я. – А ты в дорогу собрался?
Он только поморщился и махнул рукой.
Покурив, он поднялся. Из хранилища вышли рабочие и стали грузить саженцы. Сперва мне показалось забавным, а потом трогательным, как здоровенные ребята осторожно помещают в кузов саженец к саженцу, тщательно перекладывают корни влажным мхом, затем бережно покрывают кузов обширным брезентом. Алчин опять сел покурить.
– Куда повезешь, – спросил я, – в город?
– Это еще ничего, – сказал он. – К вечеру я вернусь. А иногда и два рейса удается сделать. А вот пошлют в Свердловск – так на два или три дня.
– А что же плохого, – сказал я, – едешь себе и едешь. Остановился где-нибудь в чистом поле, разжег костер…
– Зачем это? – спросил он и подозрительно поглядел на меня.
– Да просто так. Искры сыплются, пламя как бешеное. Весело.
– Ты шутишь или как?.. – Он что-то старался уловить в том, что я ему сказал. – Я не разжигал костров. Что ж, может, и попробую, – он глупо ухмыльнулся.
– А в дороге можно и продать кое-что, – сказал я, кивая на кузов с саженцами. Мне хотелось подтвердить свою догадку, что он занимается кой-какими делишками, раз даже лопатку Зейды сбыл Купцу Сабуру.
– Продавать? – сказал он. – А что, ты думаешь, нашлись бы покупатели?
«Какой дурак, – подумал я. – Или прикидывается». Но слишком глуповатое было у него лицо. Глядя на него, можно было представить себе, как мой отец выманил у него ту прекрасную лопатку с железным набалдашником и ничего не дал взамен. Разве что пообещал только.
– А-а! – сказал я. – Какие там покупатели в голом поле. Едешь себе и едешь. Слушай, ты бы взял меня с собой, если бы я не был занят? Я бы и не пискнул, если бы мы даже три дня подряд ехали и не вылезали из машины.
– Тебя-то? – переспросил он.
– Ну да, меня!
– Взял бы, – сказал он, роняя из пальцев окурок и втаптывая в землю. – Я вот Зейду звал, – сказал он, доверительно склоняясь ко мне.
– Но ведь и она работает.
– Ну да, – сказал он. – А все же… вот если бы она не работала. – В голосе у него явно отразились мечтательные нотки. И вдруг их как не стало! Он проговорил со злостью: – Уедешь, а разные сволочи будут лапать твою бабу! – И он поглядел прямо на меня, даже страшновато стало от такого взгляда, который, правду говоря, был не так уж и страшен. Но когда говорят такое и при этом смотрят на тебя…
И все-таки мне стало весело. Я сказал:
– Уж не думаешь ли ты, что я?..
– Ну-у-у! – протянул он длинно, так что даже что-то мирное, спокойное возобладало над прежней злостью. – Ты!.. Скажешь тоже!
Тут ему крикнули, что пора ехать. И он поднялся и, не сказав мне ни слова, сел в кабину.
7
С утра мне пришлось заняться тем, что я выбрасывал вон кирпичи, которые натаскали вчера мои помощники. Надо ни черта не соображать, чтобы натащить столько недожога и «железняка»! Пока я выкидывал прямо в окно всю эту ерунду, в комнате стояла Аня и как будто была чем-то довольна. Когда я начал кладку, мне пришлось пользоваться старым кирпичом. Аня спросила:
– Ну как?..
– Что как? – сказал я хмуро.
– Ведь ты же велел мне очищать старый кирпич. Вот я испрашиваю – как?
– Ничего, – сказал я мягче, – кирпич, хоть и старый, все же получше того барахла.
– Я сейчас раствору принесу, – сказала она, направляясь к двери.
– Пусть Гена поможет, – вслед ей крикнул я, – надорвешься!
– Нет-нет! – крикнула она и через две минуты появилась, неся ведро с раствором. Она опрокинула его в ящик, затем села поодаль. – Я сейчас уйду, – сказала она, – я только хочу сказать, что глина, и правда, жирная. Но если песку добавить чуть больше, то раствор получается Не такой уж и плохой. Ведь правда?
Что, правда, то правда. Так я ей и сказал. Аня ушла, и я слышал, как она напевает, сходя с крыльца. И чего это Сильвестров считает ее лентяйкой? Она не хуже меня готовит раствор, и вообще у нас порядок, если, конечно, не считать, что Гена вчера натаскал столько барахла. Да он и не печник, чтобы разбираться в кирпичах. А этот старый кирпич совсем не плохой! Я беру его, обмакиваю в воду и кладу в ряд с другими. А вот отец напрасно подолгу мочит – это ведь не красный кирпич. Ну, да бог с ним! Я ему ничего не говорю. Но когда он стал обмазывать кладку изнутри, я сказал: «Не надо. Обмазка потом растрескается, отвалится и засорит дымоход». Он не обиделся. Конечно, если ему то и дело подсказывать, он вообще может бросить работу. А я не хочу его обижать.
Все-таки за сорок лет он мог бы кое-чему научиться, если бы его не занимали всякие пустые затеи. Думая так, я подхватываю со штабелька кирпич, насекаю с четырех сторон, кладу на ладонь и разбиваю с одного удара. Хорошо, когда работа идет! Мы уже выложили первый жаровой канал, теперь делаем боковые опускные каналы. Прежде мы ставили немало таких печей, и всегда оказывалось, что низ печи прогревался хуже, чем верх. Но если в боковых стенках топливника устроить сквозные отверстия, тогда топочные газы устремятся туда, и наружные стенки прогреются что надо. Отец считает, что это лишняя работа, тем более, что никто и не догадается, есть ли в стенках шпуры, и никто, конечно, не станет пробовать ладонью нижнюю часть и сравнивать ее с верхней. Да разве тому же Сильвестрову, деловому человеку, придет в голову! Ну, в крайнем случае велит побольше топить. Но я-то делаю не для Сильвестрова, а для себя. Это мне, мне нужно, чтобы все было хорошо!
Так мы проработали до четырех часов пополудни, и тут мне не то чтобы расхотелось работать – мне надо было как бы пережить в уме эти минуты, когда я так хорошо все делал, и воображать, как дальше пойдет дело. В это время я могу лежать и слушать радио, или загорать на песке, или гулять по полям, мне никто и ничто не помешает думать.
Я вышел со двора и зашагал сквозной улицей, выходящей прямо в поле. Окраинные домики остались позади, некоторое время я шел полем, затем свернул на участок, где работали женщины. И тут я увидел Зейду и молча остановился. Она рыла канавку вокруг саженца, затем ловко подрезала глубокие корни и наконец весь ком. Две девчушки подхватили ком и понесли к корзине. С десяток корзин с саженцами уже стояло на краю поля.
– Бог в помощь! – сказал я наконец.
Зейда кивнула с улыбкой и перешла к другому саженцу. Мне показалось, что Зейда чем-то недовольна.
– А я просто иду мимо, – сказал я. – И я тоже не люблю, когда глазеют на мою работу.
– Да ничего, – сказала она. – Мы уже заканчиваем, скоро и машина придет.
Я подошел к ней и попросил у нее лопатку. Это была такая же, как та. Наверно, взяла у кого-нибудь поработать, или ей дали новую. Я стал рыть канавку и, ей-богу, упарился, прежде чем мне удалось вырыть ее вокруг деревца. Тут Зейда отняла у меня лопатку и сама подрезала резкими, но осторожными ударами корни. А девчонки подхватили деревце и понесли к корзине.
Скоро пришла машина, и Зейда, девчонки и шофер стали грузить корзины с саженцами в кузов. Когда дело было закончено, шофер спросил Зейду:
– Не поедешь домой? Могу подбросить.
– Нет, – сказала Зейда, – не поеду.
– А что, Алчин завтра в Свердловск едет? – не отставал шофер.
– Спроси у Алчина. Я не знаю, – ответила Зейда и отвернулась.
Машина уехала. Женщины собрали мотыги, ножи, лопатки и понесли в бригадирскую будку. Я вызвался помочь и взял у Зейды лопатку и мотыгу.
– А лопатку вы нашли, как я вижу, – не удержался я.
– Да, – сдержанно ответила она.
Конечно, нашла. Ну зачем я спрашивал? Как будто нельзя было о чем-нибудь другом спросить.
– Вы сейчас домой пойдете? – не отставал я.
– Да, – сказала она.
– Да и мне расхотелось гулять, – сказал я. – А пруд я завтра погляжу.
Она чуть улыбнулась, затем, будто решаясь на что-то необычное, сказала:
– Идем! Выйдем к пруду, а там задами вернемся к дому.
И мы отправились, огибая вспаханные участки, вышли на проселок. В стороне стоял смешанный лесок – ярко краснели клены, трепетали осины пестрыми поредевшими листьями. В воздухе пахло прелым листом и сырым черноземом. От проселка ответвилась травянистая тропинка и повела нас через лесок. С опушки вспорхнула стайка синиц. Мы вышли из леска, и вокруг стало бело от полыни, на склонах балок виднелись заросли горчичников, а на мягких залежах желтели коровяки и кое-где торчали серо-желтые пучки отцветшей тырсы.
Впереди тускло блеснул пруд. Стоило нам приблизиться, как из зарослей на берегу взлетела, заполошно крича, стайка куликов. Берег был сплошь заслежен утиными лапками, на воде колебался, точно хлопья пены, утиный пух.
– Вы не охотник? – спросила Зейда.
– Нет, – сказал я. – А Алчин охотник?
– Алчин? – Она будто вспоминала, о ком же я ее спрашиваю. – А-а, – сказала она, – с этой охотой!.. – Она посмеялась. – Он и работу свою клянет из-за этой охоты. Он хочет поехать на озеро, а его посылают в Свердловск.
«Не только из-за охоты, – подумал я, – не только из-за охоты – он боится оставить ее. А про охоту он просто так говорит, главное, он боится, что Зейду кто-то станет провожать домой после работы».
Мы повернули обратно и до самого дома не сказали друг другу ни слова. «Аню, что ли, пригласить гулять, – подумал я. – С ней было бы не то что веселее, но я бы, наверно, чувствовал себя свободнее».
У ворот стояла машина Алчина, и я приотстал, завернул в магазинчик, купил пачку «Прибоя» и спичек. Выйдя из магазинчика, я увидел, что Алчин возится у своей машины.
– Ну, как поездка? – спросил я, подойдя.
– Ничего, – ответил он. – Сегодня три ездки сделал.
– А завтра, говорят, в Свердловск поедешь?
– Кто говорит?
– Сильвестров, – сказал я.
Он густо покраснел, как бы тужась что-то вспомнить или сказать, и наконец выпалил:
– Дурак он, Сильвестров твой!..
Я рассмеялся. Мне хотелось его позлить.
– А что Сильвестрову? – сказал я. – Он-то никуда сам не ездит, и баба у него всегда под боком.
– Вот-вот, – сказал он.
– Вот-вот, – сказал и я. – А тут уедешь, и разные сволочи бабу твою лапать будут.
– Дурак он, этот Сильвестров! – злобно сказал Алчин.
8
«Значит, проняло этого толстокожего! Вот уж ни за что бы не подумал, что такие толстокожие могут заводиться с полуоборота».
Так я думал, слыша за перегородкой ворчливый голос Алчина. Он топает, как медведь, по скрипучим половицам в сенях, что-то бурчит и бурчит, с его языка срываются матюки. А она сперва отвечает ему спокойным глухим голосом – мне так и не удается разобрать ни одного ее слова, – но вот он крикнул на нее, и она возвысила голос: «Посмей только!» Он сник вроде, но все ходит и ходит, скрипя половицами, и бубнит, и странно слышать в его басовитом, грубом голосе хныкающие нотки.
«Проняло этого толстокожего! – думаю я. – Он, видать, настолько глуп, что поверил мне, будто бы Сильвестров сказал о поездке в Свердловск. Жди, станет Сильвестров рассказывать мне про эти поездки!» Я думаю об Алчине со злорадством. И вдруг одна мысль останавливает меня. Ведь вот он ворчит, бубнит, а плохо-то Зейде! Я совсем не хотел, чтобы кто-то ее обижал, а получается, что именно из-за меня Алчин обижает ее. В первый миг я готов был выскочить в сени и прикрикнуть на него. Но разве он послушался бы меня? Он… да он бы только удивился и, может, расхохотался мне в лицо. Он бы меня и не принял всерьез. Ведь для него я всего лишь молокосос!
И все-таки я выхожу в сени; глядя себе под ноги, подхожу к умывальнику и начинаю бренчать краником. Потом, так и не подняв глаз, ухожу к себе. Я с размаху бросаюсь на кровать, курю и думаю. Черт знает, о какой ерунде я думаю!
Отец опять где-то запропал… Как бы я хотел состариться побыстрей! Вот отец – ему шестьдесят семь лет, он еще крепок и бодр, чтобы работать и работать, но и достаточно стар, чтобы разной чепухой не забивать себе голову. Итак, мне хочется состариться, ходить из села в село, из двора во двор и делать печи, возить горный песок с омута, искать и находить замечательную глину, делать необыкновенные дымообороты и топливники класть только со шпурами… Господи, как я все это люблю! Я бы хотел знать только это и больше ничего.








