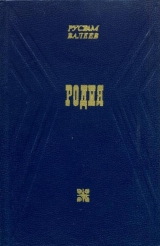
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Возница то и дело грубо покрикивает на лошадь, как будто винит нас в том, что вот запаздывает на базар. Из-за этого возницы и мы поспешили, я даже не успел проститься с Геной и Аней. Вот с Аней надо было обязательно проститься и сказать ей хоть что-нибудь хорошее. И Гене стоило сказать: ладно, мол, чего дуешься, не такой уж я плохой человек, а Аня – вот увидишь – найдет себе замечательного парня! И Алчина, пожалуй, зря я дразнил. А Зейда… она сказала: «Не горюй». А я даже этих слов ей не сказал, да мне и нельзя было, это было бы глупо и жестоко говорить ей: «Не горюй». Как я звал ее! Мне что-то примечталось, но ведь у меня и в мыслях не было жениться на ней. И теперь даже не скажешь ей: «Не горюй!»
А вот отец, он же плут из плутов, и все знали, что он плохой печник и плут. Но почему никто никогда не обижался на него? Он и меня не обижал никогда, хотя и видел мою гордыню, мою заносчивость и грубость. Он умел быть великодушным, он не проявлял гордыни, он был щедр, делал свое дело широко, щедро, терпел убытки, кого-то обманывал, но он во всем был щедр, и его любили люди. Я вот посмеивался над ним: мол, если он не умеет и не любит делать печи, значит, он не знает того, что знаю я – радости умения, счастья мастерства; вдохновения.
Мы долго ехали молча, и вот уже показалась водонапорная башня, окраинные домики. И тут отец, чуть повернувшись ко мне, сказал:
– Слушай-ка. – Я не повернулся, я не смог бы посмотреть ему в глаза. – Слушай, – повторил он, и в голосе его уже искрилось что-то прежнее, – я вот думаю, что садовник Хабиб сделает вид, будто у него есть это удобрение.
Я молча кивнул.
– Можно поклясться, что садовник Хабиб скажет: «Есть у меня это удобрение!» Но я не поспешу отдать ему, подожду, пока он сам придет, тряся козлиной бородкой, а?
– Конечно, – сказал я, – конечно, конечно, он потрясет еще своей козлиной бородкой!
– Вот и я говорю! – сказал отец.
Какой же я глупый, если я думал, что моя глупость могла согнуть его. Но что меня утешит, когда я буду вспоминать Зейду? Когда я вспомню Аню? И даже этого толстокожего Алчина?
И все-таки отец простил меня, и у меня спокойнее на душе, и я думаю о будущих днях, о новых дорогах. Вот через многие годы я привычно вскидываю на плечо мешок с печным инструментом и трогаюсь в путь. Может, я уже не так подвижен, как прежде, слабее стал здоровьем, но я поднимаюсь и иду. Я теперь похож, наверно, на одного из первых поселенцев здешних мест. Может быть, он был сеятелем, или лошадником, или горшечником, или печником, или, скорее всего, он знал несколько ремесел: умел построить дом, подковать коня, сложить печь. Он был самый ценный человек в этом, тогда еще пустынном, крае, он был мастером, и у него была такая же веселая и щедрая душа, как у Купца Сабура.
Лето тихого города
1
Солнце надышало обильную густую жару, и дощатые тротуары трещат под ногами, будто ступаешь по сушняку, и в белом обжигающем мареве посвечивают меркнущей зеленью листья тополей. Желтые заборы сверкают из марева – в иной миг померещится вдруг, что они горят.
В такие полдни не торгуют даже мороженщицы, молчат часы на каланче: сторож, всегда аккуратно отбивающий время, не отваживается лезть на верхотуру. Я видел однажды, как соседская утка, отстав на пути к речке от стаи, лежала, утонув в дорожной пыли.
Зной, спокойствие.
Иногда над городом низко пролетают самолеты. И тогда пешеходы, кажется, идут быстрее, и сильнее шумят тополя, и веселее светят окна. Потом шум угасает, и тишина остается такой, будто ее не трогали, и только изредка проскачут по ухабистым мостовым, безалаберно тарахтя, древние полуторки кожевенного завода.
За рекой, где прежде начиналась степь, – завод, выпускающий изоляторы для высоковольтных линий. Говорят, что он станет предприятием союзного масштаба, но завод еще строится. Несколько цехов действуют, и я работаю в одном из них…
2
«Поэма о море» шла всего один день. Мой брат Гумер возмущался по этому поводу и собирался идти к директору кинотеатра. Но что тому было делать, если у нас, во-первых, любят картины «переживательные», а во-вторых, летом вообще народ меньше ходит в кино из-за духоты в зале.
Духота и вправду была ядовитая. Мы вышли из темноты будто хмельные. Полная тетка жеманно говорила своему спутнику, что от духоты у нее кружится голова и что лучше бы они посидели дома. Гумер заторопился, толкнул тетку плечом и потащил меня из толпы. Он хорошо толкнул ее: вслед нам полетела брань.
Вечер, в первую минуту показавшийся прохладным, становился самим собою – теплым, пыльно-сухим.
Гумер взял меня за плечи, сильно и радостно прижал к себе.
– Ты послушай… поэма о море!
Мы шагали широко и дружно, словно шли к морю. Потом он остановился и немного отстранил меня. Глаза его огорченно заблестели:
– Ведь не поймут, ни черта не поймут обыватели!
– Да ладно, – сказал я, – подумаешь, огорчение!
– А жить среди таких – не огорчение? Да уеду я!
Из теплого и тесного переулка мы вышли на Набережную улицу, где стоял наш дом. Прохладно запахло тополевой горклой корой, речной сыростью и свежестью мокрых талов. Под обрывом позванивала на камешках речка.
Степь за речкой была темной; там еще не ходят поезда, там веками не паханная земля, в белых ковылях – гладкие, с серым отливом валуны, над ковылями – спокойные, с медленными крылами старые беркуты.
Гумер поедет в другую сторону, где гремят поезда, где через каждый километр – селения, а еще дальше – города, города.
Когда мы проходили мимо дома Шавкета-абы, нашего соседа, от калитки послышался тихий и сдержанный, но такой, что вот-вот зазвенит, голос:
– Гумер, погоди!
Это Дония, дочь Шавкета-абы. По мнению родителей, она обязательно должна выйти замуж за моего брата. Мой дед и мама также уверены в этом и дружелюбно называют Донию невесткой. Но Гумер скоро уезжает, и свадьба отложена.
Медленно, словно ему не хочется, Гумер идет к Донии. А я не иду, но и не ухожу.
– Ты иди, ты иди, – весело говорит Дония.
– Иди, – советует и Гумер, но говорит он так, что мне можно и не уходить. Но Дония не хочет, чтобы я оставался, – зачем же мне оставаться?
Я ухожу к себе во двор и слоняюсь в тесноте, натыкаясь то на велосипед, прислоненный к оградке садика, то на поленницу, то на какую-нибудь рухлядь.
Возле забора сидит мой дед и боязливо покашливает. Он сидит на широком, белом и гладком камне, который потом, когда дед умрет, ляжет на его могилу.
Дед мой жил при царе, он помнит, наверно, дутовцев и первых красногвардейцев; он, наверно, и сам воевал в красном отряде. У него шрам на щеке, идущий от левой верхней скулы вниз и прячущийся в бороде, – широкий, мертвенно-сизый, заволоченный тонкой дряблой пленкой кожи.
Когда дед, нечаянно или задумавшись о чем-то, подпирает ладонью щеку, его лицо резко искажается.
Дед – он не как все деды. Других хлебом не корми, а дай порассказать были и небылицы, но мой дед никогда ни о чем не рассказывает. А может быть, он в молодости гулял с какой-нибудь удалой шайкой и там, в степном разбойничьем просторе, нажил себе шрам?
Я слоняюсь по двору. Душно и томительно от запаха сирени. Белые пухлые грозди перевесились через изгородь, в середине они мглисто-белые, по краям расплывчато светлые, колеблющиеся – это словно запахи подымаются.
Посидев немного, дед уходит, долго шаркая по земле, потом по крыльцу, своими чувяками. Я еще сижу и стараюсь услышать шум тополей, но тополя не шевелятся. Их темные кроны по ту сторону забора спокойны.
Потом приходит Гумер, и в тот момент, когда он с легким скрипом открывает калитку, какой-то дурной петух поблизости, ошибившись, видно, во времени, пропевает: «Ку-ка-реку!»
– Гуляли? – спрашиваю я, поднимаясь навстречу Гумеру.
– Гуляли, – отвечает Гумер, голос у него равнодушный, совсем не заметно, чтобы он радовался.
Мне обидно, что он скрывает от меня свою радость, конечно же, радость – ведь он был с ней!
– Разговаривали, да? – спрашиваю я.
– Разговаривали, да, – скучно отвечает он. – Иди-ка спать, малец.
3
Мы стоим у входа в летнее зданьице вокзала. Гумер с Донией гуляют вокруг станционного садика, но это не сердит меня. Они могут сегодня гулять сколько угодно, зато свадьбы не будет.
Анвер, наш старший брат, спокойно курит, без интереса взглядывая на проходящих мимо людей. Сколько я знаю его, он и работает спокойно, и живет спокойно. Ему двадцать шесть лет, на вид немного больше, а по тому, как он относится ко мне и к Гумеру, не меньше сорока. Когда решаются семейные дела, последнее слово – за ним. Впрочем, это для деда и матери. А Гумер вот надумал уехать и даже не посоветовался со старшим братом. Тот промолчал: едет, мол, и пусть едет. Только когда мама стала плакать, сказал: «Да ладно, чего плакать-то!»
Мать потерянно топчется, задевает меня плечом и, заслоняясь ладошкой от света фонаря, глядит в сторону садика.
На вокзал пришел и Шавкет-абы. Ведет он себя очень оживленно. Таким я никогда его не видел. Он всегда задумчив, никому не показывает глаза, первым не заговаривает ни с кем, а если его окликают, вздрагивает и быстро спрашивает: «Что? Что?» Мне всегда кажется, что он давно уж, годами, замышляет что-то нехорошее.
Он настойчиво, весело требовал, чтобы Гумер нашел на заводе инженера Даутова – давнего друга, который поможет Гумеру устроиться. Гумер с Донией отходили от нас и гуляли возле садика, и Шавкет-абы следил за ними ревниво, беспокойно. Стоило им подойти к нам, он завладевал Гумером и повторял свое. Гумер смущенно посмеивался и обещал воспользоваться помощью Даутова.
Анвер отозвал Гумера в сторону, и я слышал, как он сказал строго:
– Найди там этого инженера обязательно! Фамилию запиши: Даутов.
Ему-то зачем, чтобы Гумера устраивал обязательно Даутов? Мне, например, никто ничего не устраивал. На завод я поступил сам, даже Анвер не хлопотал за меня, хотя он и работает там. Что ж, я никуда не еду, буду работать, приносить домой зарплату и походить на старшего брата так же, как он походит на всех остальных обитателей тихого города.
Но разве он был бы сейчас скучным и обыкновенным, если бы жизнь его сложилась по-другому? Отец погиб на фронте, дряхлый дед, болезненная мать. И Анверу – он был старше, крепче – пришлось жертвовать школой-десятилеткой, институтом и кто знает чем еще.
А ведь я мог бы уехать. От меня никто вроде не требует жертв.
У нас в доме нет фотографии отца. Я единственный из нас троих, говорит мама, похож на отца.
Фотографии сжег дед, потому что, дескать, в доме у мусульманина не положено держать картинки. Как-то он отыскал в комоде кипу бумаг, перевязанных тесемкой, развернул ее, и на пол посыпались карточки, а дед, наклоняясь, собирал их и рвал. И опять наклонившись, уже ползая, хватал стучащими пальцами мелкие клочки. Потом, сжимая в вытянутых руках разорванные карточки, пошел в кухню и там бросил их в топившуюся печь.
Вечером пришла с работы мама, узнала и заплакала. Она плакала все сильней, все сильней, плач ее перешел в сплошное стонущее «у-у-у!». Так выла она, махая прямыми, точно закостеневшими в локтях руками, и наступая на деда, но не дальше какой-то запретной границы.
И вот сейчас, когда вдруг все мне осточертевает и я собираюсь сказать об этом матери, я вспоминаю карточки, тот плач и ничего не говорю.
…Когда тронулись домой, Дония взяла меня под руку и все приостанавливалась, но за мою руку держалась крепко, как будто боялась, что вдруг повернется и побежит обратно, на вокзал.
– Он уехал, – сказала она. – Он уехал.
И я рассердился:
– Уехать-то уехал, да как бы в один прекрасный день не заявился!
– Ты думаешь, он может приехать? – оживленно спросила она.
– Я думаю, он очень просто может приехать. – Я вспомнил Гумера усталым и серым в тот знойный полдень.
– А знаешь, когда мы гуляли там… Ты видел, мы гуляли вокруг садика? Он сказал: может, все еще у нас будет лучше. Ты понял?
– Я понял, – ответил я, и она даже не заметила, какой злой был у меня голос.
4
…Сверху, с лестничной площадки, что-то крикнул Василий Васильевич, дежурный слесарь. Я не разобрал. Но затихло в цехе перекатное лязганье, и я понял: Василий Васильевич призывал меня к вниманию – в печь направлялся поезд.
Сорока восьми вагонеткам, на открытых низких площадках которых стоят сырые изоляторы, положено пройти внутри печи несколько так называемых позиций. На каждой позиции – разная температура. Чем дальше, тем она выше. На моих позициях она невысокая.
Там, где самая жара, работают Анвер и Панька Угольков, и туда чаще заворачивает старый обжигальщик Дударай.
Внутри печи раздался глухой толчок – поезд миновал одну позицию. Из топок хлещет с напряженным гулом пламя. В каждой печи оно разное. Из крайней топки бьется красное, с мутноватым отливом, самое куражистое пламя. Изоляторы попадают туда сырые и прогреваются не сразу, оттого пламя сердитое и громкое. В соседних топках – нешумное, какое-то кургузое, но именно оно крепче всего калит изоляторы.
Дальше – пламя светлеет, светлеет, и вот оно уже голубое, летящее, трепещет легко и чисто.
А еще дальше пламя веет, прозрачное, ясное, точно переняло отсвет глазури, которой покрыты изоляторы.
Я не заметил, как отошел к самой крайней своей позиции. Когда повернул, увидел Дударая. Он шагал быстро и широко и голову держал прямо, даже закинув немного назад, – он был маленького роста. Дударай подошел и спросил, как дела.
– Все как надо, – ответил я.
Он стоял и задумчиво смотрел мимо меня. Щеки его были бледны глубокой постоянной бледностью, на каждой – несколько темных крупных веснушек. Мирно светились громоздкие очки.
– Температура падает на десятой позиции, – сказал Дударай.
Я поспешил к десятой. Самое работящее пламя потемнело, вяло и тяжело колыхалось. Я напряг мышцы и медленно повернул ручку регулятора. Пламя вздрогнуло, вскинулось и загудело.
Вернулся я на площадку, запыхавшись. Повернуть регулятор так же легко, как, скажем, перевести стрелку часов. Но всегда надо напрягать мышцы и останавливать дыхание, чтобы сделать это осторожно, иначе так рванет, что потом костей не соберешь.
Степь светила все сильней, и окна ослепляли так же, как и печи. Становилось душно, я снял рубашку, стал ее выкручивать, и на полу зашипело. Я подумал, что надо поменьше пить воды или пить ее с солью.
Из печи послышался лязг толчка – сдвигались вагонетки. Это значило, что прошло еще двадцать минут. Я поглядел на часы: еще один толчок, еще, еще, и после этого можно выйти из цеха, сесть в тени и пообедать. Дударай все стоял и смотрел теперь на меня. Потом, как будто стесняясь, попросил сходить в сушильное отделение, и я пошел, недоумевая.
При выходе из цеха на меня повеяло сквознячком, – только тут я догадался, что Дударай дал мне возможность передохнуть.
В сушилке было не жарко, даже прохладно, если сравнить с тем, что у печи. Здесь и не шумно. Без толчков и погромыхивания, плавно, как бы паря в воздухе, движутся подвесные вагонетки, на открытых площадках стоят тусклые изоляторы.
Быстрыми руками женщины подхватывают изоляторы, обмакивают их в глазурь и ставят на площадки других вагонеток, тех, что направятся в нашу печь. Точно умытые, принаряженные, изоляторы сияют лазурным тихим сиянием.
Женщины молчат. Поет Дония. Длинные, открытые по плечи руки Донии проворно берут и ставят изоляторы, а поет она медленную, хотя и не грустную песню:
Взгляд твой, словно теплый дождь,
Взгляд твой, как в мае солнце,
Взгляд твой приносит сердцу
Голубую весну…
Дония поет, а лицо ее так напряженно, словно она не поет, а слушает. Интересно, пел ей Гумер эту песню? Оставаясь один, я тоже пою эту песню, потихоньку, и все же оглядываюсь по сторонам – почему-то не хочется, чтобы слышали, как я пою.
В стороне я замечаю незнакомого паренька в клетчатой, с короткими рукавами, рубашке. Он стоит между рельсами узкоколейки и глядит в сторону Донии. Я подхожу к нему сказать, чтобы не стоял на путях.
– А ничего чувиха! – говорит он. А я его спрашиваю:
– Ты откуда взялся здесь? Ну?
– Я, – говорит, – на работу устраиваюсь. Учеником обжигальщика. Да сперва посмотреть хочу.
– Идем, – говорю я, – идем! Покажу.
Он идет за мной.
Я подхожу к своим топкам, мельком – мне этого достаточно – взглядываю на диаграмму.
– Ну как? – осторожно спрашивает он, стараясь смотреть на пламя не моргая.
– Гляди! – Я снимаю рубаху и с силой выжимаю ее над площадкой, быстрый пар тут же исчезает. Я поясняю пареньку, что уже второй раз выжимаю рубаху, и так каждый день, что, придя домой, первым делом выпиваю крынку айрана, и все равно всю ночь, до самого утра хочется пить.
– Зимой здесь тоже жарко? – спрашивает он.
– И зимой, и осенью, и летом. Всегда!
Он закрывается от пламени обеими ладонями. Я удовлетворенно смотрю, как на острых белых скулах его блестит пот.
Постояв еще немного, он говорит, что ему пора идти, быстро сует мне и отдергивает маленькую пугливую ладонь и уходит.
Я выхожу из цеха, сажусь в тени большой распахнутой двери и, развернув сверток, неохотно жую творог и хлеб.
Вернется тот дурак или не вернется? – думаю я. – Наверное, нет. Что он увидел сегодня? Одинаковое во всех печах пламя, мокрую рубаху, скучного очкастого Дударая, меня, обыкновенного. Таких он увидит и на улице, и на рыбалке, и на базаре. Он поспешил из цеха не потому, что испугался нашей жары, нет, он боится стать похожим на нас. Например, на Паньку Уголькова. Или Дударая.
Панька, где только он не был! Каждый разговор, даже самый пустяшный, начинает: а вот в Салехарде… или во Владивостоке, или на реке Свирь. Так, может, и мотался бы он по комариным местам, когда б не Лиза, дочь Василия Васильевича, на которой Панька женился, – дело было где-то на Северном Урале – тут-то она и пристала с ножом к горлу: поедем, Паня, в Маленький Город, дом у нас огромный, батя в одиночестве.
Приехали. А батя, оказывается, напустил полон дом ребят из ремесленного училища (по пятерке с брата) и не слишком обрадовался, увидев на пороге дочку с зятем. Я, говорит, ребятишек не могу гнать посреди учебного года, тем более, говорит, они только-только жизнь начинают – могут сломаться от моей черствости. А вы, дескать, ученые жизнью, вы до лета где-нибудь на квартирке…
Начальство завода, не знавшее ничего об отношениях парня с дежурным слесарем, направило его в нашу бригаду. Панька, знакомясь с ребятами, говорил громко:
– Зовут меня Павел. Я зять того куркуля, который на Набережной улице хоромину имеет и квартирантов восемь человек. Пятью восемь – сорок!
В первые дни старик грозился, что уйдет из цеха, но со временем угрозы его тишали, вскоре он и квартирантов турнул. Но Панька и не думал, кажется, переходить в дом к «куркулю». Он все балясничал: пятью восемь – сорок и так далее и тому подобное…
Старший нашей смены, Дударай, человек очень забавный. Он при случае и без случая принимается фантазировать, что со временем завод будет выпускать стеклянные изоляторы для всех высоковольтных линий государства. Сам он учится в политехническом институте в том городе, куда уехал Гумер, очень этим гордится и заставляет учиться ребят. Так, он заставил Паньку записаться в вечернюю школу. (Правда, тут он – заметьте, романтик! – привел слишком житейский довод: мол, ты неуч такой, а жена как-никак десятилетку имеет.)
Что он знает про нашу жизнь, тот паренек? А он, наверно, и знать ничего не хочет. И уж совсем ему не захочется быть похожим на какого-то Дударая.
5
Я вышел за ворота и увидел трепетание синего воздуха сумерек, кипы ярко-зеленого света в тополях, черные, в коробчатой чешуе, иссохшиеся заборы.
Солнце уже упало в ковыли степи, заглохли пронзительные звуки дня; тишина стоит душная, глухая и напряженная. Мне плохо от этой тишины.
«Зайду к Донии», – решаю я и заворачиваю в соседнюю с нашей калитку.
На приступке крыльца сидит Шавкет-абы и читает газету, держа ее далеко от глаз. Лицо его ничего не выражает, если не считать всегдашней его странной задумчивости.
– Когда только на этом свете воевать перестанут, – говорю я дурашливо.
Газета встрепенулась, и Шавкет-абы удивленно и сердито смотрит на меня.
– Не болтай глупостей.
– Уймутся когда-нибудь эти президенты, как вы думаете? – продолжаю я, с трудом одерживая смех.
– Ничего я не думаю, – отвечает он и вертит головой по сторонам.
– А вы сколько войн воевали? – спрашиваю я и с каким-то злым чувством смотрю, как жалко взмахивает он редкими ресницами и поджимает губы.
– Одну, всего лишь одну, – отвечает он после долгого молчания. – В разведке служил, полных четыре года. Два ордена, медали…
Он подвигается ко мне, газета с резким шелестом летит с крыльца.
– Ты почему меня дразнишь, а, малыш? Я тебе кажусь очень старым и чудным?
И тут я сказал:
– Конечно! Конечно, очень чудным, если вы решаете выдать Донию за… за… разве это не смешно?
Он поднимается, отстранив меня, спускается вниз и, взяв газету, возвращается на место.
– Ты почему меня дразнишь, малыш? – Но сейчас он кажется веселее, чем минуту назад.
– Вы чудной, – говорю я, – вы чудной и, может быть, немного трусливый. Вот вы не хотите серьезно говорить со мной и поэтому называете меня малышом! – Я со смехом прыгаю с крыльца и бегу к калитке.
«Увижу Донию потом, – думаю я, – увижу потом».
6
Платьице легонькое: подходящий ветерок – и полетит. Дония медленно вскинула руки, плавно уронила их, и платьице опустилось на песок.
– Ну, идем, – позвала она, кивнув в сторону воды. Я ответил, что посижу немного.
– Ты улыбаешься, – сказала Дония.
– Улыбаюсь? – удивился я.
Она тронулась к воде, за спиной качнулась коса, толстая, русая, правда, не очень длинная, чуть пониже лопаток.
У Донии есть просто красивые, очень красивые, есть немыслимо красивые платья, и на каждом из них лежала эта коса. Но лучше всего лежать ей на спине, где светлеет подернутая смуглым румянцем впадинка; лопатки густо напитаны загаром, но не так дурацки черно, как у меня, а с ласковым отливом…
Дония взмахнула широко раскрытыми руками, ударила по воде.
Звонкие брызги взлетели и – как бы вспыхнула мелодия света и медленно растворилась в матовом зное.
Потом она поплыла, беззвучно и коротко рубя волну.
Она выходит из воды медленно, шатаясь, сложив на груди руки так, будто несет крохотного ребенка. Она останавливается близко около меня, осыпая мягкие капли воды. Она что-то говорит быстрым, смеющимся голосом, но я не слышу, потому что смотрю на ее ноги!
Какие у нее красивые ноги! Как мягко и постепенно ложился загар на эти лодыжки, икры, и как мягко, осторожно ослабевая, подымался к бедрам. Ступни у нее маленькие, и маленькие пальцы жмутся один к другому, будто они слабы и зябки, но как уверенно идут эти ноги и по песчаному берегу, и по пухлой уличной пыли, и по звонким тротуарам. Им хороши и шаровары в обтяжку, и короткие и длинные платья, и купальный костюм.
– Ты что так смотришь на меня? – со смехом говорит Дония и опускается рядом, подгребая к себе горячий песок. – Иди купайся!
Я кидаюсь в воду и долго, до изнеможения, плаваю, высоко взмахивая руками, сладко задыхаясь.
Выхожу на берег.
Дония обсохла, отогрелась и сидит, опираясь на отведенные назад руки. Я ложусь лицом близко к ее ноге и вижу золотистый пушок на лодыжке. Я гляжу на лодыжку.
– Ты что это? – смеется Дония.
– Дония, – говорю я-медленно и смотрю на нее. – Дония, вот если бы, как в старые времена, мать велела тебе выйти замуж за Гумера… ты бы вышла?
– Вышла бы.
– Вышла? – удивленно глядя на нее, повторяю я.
– Вышла бы, – удивленно глядя на меня, отвечает она. – А что? Ты… – она придвигается ко мне. – Ты что-нибудь такое… знаешь?
– Ничего не знаю.
Она сердито отвечает:
– Ты просто болтунишка! – и убегает к воде, мелко взвихривая золотистый песок.
7
Неожиданно приехал Гумер. На воскресенье. Я стал приставать к нему с вопросами, как там и что там.
– Да ничего, – отвечал он, посмеиваясь и беря сигарету губами прямо из пачки, яркой и незнакомой; и прикуривал он тоже особенно: не доставал спички и не шоркал о коробок, а резко вынимал руку из кармана, и в пальцах оказывалась зажженная спичка.
Мама, представьте себе, поставила ведерный самовар, будто у нас полон дом гостей. Гумер долго, покуда не вскипел самовар, утюжил брюки. Я подумал, он на свидание с Донией собирается, но, собравшись, он меня позвал. Прошвырнемся, говорит.
Пошумливали в вершинах тополя, а пыль пухло и вяло лежала не шевелясь: ветер был осторожный, шел только верхом. Миновали мы квартал, и тут я спохватился, что не зашли к Донии. Я хотел вернуться, но Гумер заговорил о чем-то таком далеком, что я ничего не сказал.
А все-таки за разговором мне удалось повернуть его обратно, и мы прошли-таки мимо дома Донии. Позади послышался стук открываемых створок. Я не оглянулся – мне-то зачем оглядываться, пусть он оглядывается. Но и он не оглянулся.
– Слушай, – сказал я, – дай-ка мне сигарету. И спички дай… Слушай, у тебя есть девчонка?
Он засмеялся счастливым смехом.
– Глянуть бы тебе хоть одним глазом на нее!.. Ты вообще что-нибудь понимаешь в девчонках? Девчонка… ну, понимаешь, все заводские шпарят за ней почем зря.
– Слушай, – сказал я, – дай-ка мне еще сигарету. И не зажигай так дурацки спичку!..
Возле парикмахерской нам повстречался Шавкет-абы. Он шел медленно, глядя себе под ноги. Наверно, мы не окликнули бы его и прошли мимо. Но он нечаянно поднял глаза, увидел нас и весь заторопился навстречу, ноги его отставали, и он едва не падал.
– Приехал! – воскликнул он, протягивая Гумеру обе руки. Гумер, улыбаясь, бросил ему свою ладонь, и Шавкет-абы торопливо принял ее своими руками. Мне он забыл подать руку.
– Ну как, ну как? – спрашивал он.
– Все в порядке, устроился, – отвечал Гумер.
– Значит, ты заявился и сказал Даутову, что мы с тобой соседи.
– Говорил. Да только устраивался я сам.
– Э-э, – с укором сказал Шавкет-абы, – сам, сам, все вы сами! А если бы Даутов помог, это бы лучше.
– Да он говорит, что не знает вас.
– Не знает? – спросил Шавкет-абы и выпустил руку Гумера, и собственные руки его упали. – Даутов?
– Даутов.
– Газис?
– Газис.
– Главный инженер?
– Главный инженер.
Шавкет-абы как-то боком стал подвигаться к скамейке, что стояла напротив парикмахерской, и сел.
– А может быть, это другой Даутов, – сказал я. – Ты отчество не помнишь? Бывает же так – и имя то, и фамилия, а отчество не то.
– Бывает, – сказал Гумер и пожал плечами. Шавкет-абы ничего не сказал.
– Ну, до свидания, – сказал Гумер и кивнул мне. Я сказал, что не пойду, посижу здесь. Гумер не настаивал, только спросил, приду ли я к десяти домой: в десять ему на вокзал. Я пообещал, и он ушел.
Я долго сидел с Шавкет-абы и так и не нашел, что сказать ему. Потом он как бы очнулся, заметил меня, и тут мне стало очень неловко, будто я подглядываю. Он, сердяга, и прогнать-то меня, наверно, не решился…
Я брел по городу, идти было некуда. Ни один человек, ни одно дело не ждали меня. Провожать Гумера не хотелось. Он уезжал не на край света и вполне мог обойтись без меня.
Я отправился к Паньке, потому что к нему можно было приходить запросто и, посидев, уйти, когда вздумается. Паньку я застал во дворе.
– А-а! – сказал он. – Я вот калитку чиню. Плачу каждый месяц пятнадцать рублей, уголь и дрова мои, да еще вот калитка…
– Поощряешь собственника, – заметил я, – а жил бы с Василием Васильевичем, наоборот, оказывал бы положительное влияние.
Панька рассмеялся, отбросил топор и сел на поваленную калитку.
– Хозяин у меня – смех! Водит женщин… вечером, понял! С одной даже познакомил меня. У нас, говорит, с Полиной любовь, мы, говорит, построим семейное счастье. А вчера приходит с другой и напоминает: мол, говорил тебе, что у нас будет семейное счастье. Смех!
Он погрустнел, попросил закурить.
– А старика жалко, вот захворал что-то. Лиза побежала проведать. – Он помолчал. – Он ведь теперь родной мне. А ничего хорошего ему от меня не было.
– Надо принять какое-то решение, – сказал я твердо.
Он очень невесело на меня посмотрел.
Тут мы услышали быстрые, почти бегущие шаги, и Лиза вбежала во двор. Увидела нас и стала как вкопанная. Потом она заплакала и медленно пошла к Паньке.
– Я так не могу, я так не могу. – Она шла и плакала.
– Вот еще, – сказал Панька. – Думаешь, все сразу? Мы вот, – он кивнул на меня, – советуемся.
Лиза вытерла слезы и посмотрела на меня.
– Советуемся, – подтвердил я.
Лиза направилась в дом. Мы посидели еще. Неба над степью не было, в дальнем ее краю, зычно гремя, ходил гром и желто посверкивало. Оттуда надвигался дождь, но до нас ему много пути – день, а то и больше.
– Дела, – сказал Панька. Он не стал прощаться, а пошел со мной. – Ну, что скажешь?
– А что говорить? – сказал я, гадая, пошла ли Дония провожать Гумера. Или, может, они ссорятся, чтобы никогда больше не встречаться?
– Чудак ты! – посмеялся Панька. – Я ведь советуюсь с тобой.
– Можно извиниться перед Василием Васильевичем, – смущенно сказал я. – А что?
– Ладно уж, – сказал Панька, – давай руку.
Я прошел квартал, другой. Фонари не горели. На улице стало ветрено и шумно. Шуршал, почти скрипел песок, хлопала на крышах жесть, лист железный скользнул по крыше и скатился мне под ноги, стучали калитки. Затем стали зажигаться фонари, и я увидел, что тополя тоже шумят. Они казались лохматыми и старыми, бредущими.
День кончался, завтра – новый. А решать мне нечего, все вроде бы дается, все вроде бы ясно… Не далось только, черт возьми, подсказать Паньке!..
Стемнело совсем, когда я вышел на Набережную. Здесь было тише. Только чья-то не закрытая на щеколду калитка стучала одиноко и громко.
Я был уже возле дома, когда увидел, что у ворот Шавкета-абы стоит кто-то в белом.
– Дония, ты? – окликнул я.
Дония не ответила, и я подошел к ней.
– Проводила Гумера?
– Нет.
– Почему?
– Просто так.
Ветер – калитка так и хлобыщет. Я поймал калитку за тяжелое кольцо.
– Нет, нет! – беспокоясь, крикнул я. – Не просто так. Почему?
– Все кончено.
– Это… он тебе сказал?
– Я не видела его.
Я выпустил калитку и шагнул к ней.
– Ты иди, ты иди, – почти плача, сказала Дония. Я вспомнил, как однажды она весело говорила: «Ты иди, ты иди!»
Я потоптался, пошел.
Пусть бы уж всегда она говорила весело: «Ты иди, ты иди!»
8
В конце августа приехал Гумер. Резким, злым движением он перекинул чемодан через порог. Тяжелый, видать, чемодан, каким только барахлом набит?
– Приехал, гляди-ка! – сказал дед. – Что я вам говорил? – Хотя ничего такого он не говорил.
А мама! Живыми стали ее движения; домой она возвращалась всегда такою, точно по дороге ее известили о радости, приключившейся в нашем доме, и она спешила и вот пришла… Глаза ее блестят и нежно мигают, будто она вот-вот заплачет – от доброты, от любви.
Мрачен был Анвер. (Дед, замечая мрачность его, длинно и жалобно вздыхал.)







