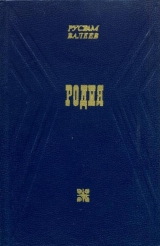
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Когда одиннадцать лет назад снесли «Тридцатку» и вот-вот должны были снести поселок, видимо, тогда же хотели строить и новый цех. Но в самый последний момент решили строить на западной стороне завода.
Вот с тех пор и пустовало место, задичало, заросло бурьяном; а поселок оставался рядом с этим пустырем, и жители уж потеряли надежду переселиться когда-нибудь в благоустроенные дома.
Но вот пришло время, и жителям срочно выдали ордера на Северо-Запад, и на пустыре уже развертывали планировочные работы, а дальше, где вразброс стояли колки, рубили деревья и корчевали пни. Вокруг поселка теперь днем и ночью стоял гул. Суетились скреперы, насыпая дамбы, на тракторных прицепных тележках везли доменный шлак, и рабочие укладывали его в полотно будущих автомобильных дорог, укатывали, потом насыпали каменную крошку и снова укатывали, подводили железнодорожные пути, ставили трансформаторные будки.
Стройка неуклонно надвигалась. В том бараке, где жила когда-то Аля, решили устроить то ли временную столовую, то ли медпункт, по коридору хозяйственно ходили строители и, не обращая на жильцов никакого внимания, толковали о том, что тут убрать, а что переделать. Но жители еще медлили: ордера-то получены, но дом на Северо-Западе комиссия только принимала.
Теперь Аля бегала сюда каждый день. С Илюшкой они ходили вдоль пустыря, оглохшие от шума механизмов и людских голосов, пропыленные, уставшие. Но им и в голову не приходило гулять где-нибудь в другом месте: а вдруг начнется переселение, и строители тут же возьмутся рушить барак! Они разговаривали о том, о сем, но о чем бы ни был разговор, каждую минуту помнили, что они последние часы, может быть, последние минуты здесь, на этом месте, которое, казалось, будет вечно, – и пустырь, и акации перед входом в барак, и палисадники с мальвами – все, все, что можно будет увидеть и вспомнить прошлое, приехав сюда через многие годы.
– А нынче будет сабантуй? – спрашивала она вдруг. В прежние годы праздник устраивался вблизи поселка среди колков.
– Будет, конечно, – отвечал он, – только, наверно, в парке.
– О-о! – удивлялась Аля, вообразив, как много автомашин и подвод понаедет к парку. Где только разместится столько – ведь едут из всех окрестных сел поглядеть борьбу, бега, концерты самодеятельности.
– У нас в бригаде есть такой Ханиф, – рассказывал Илюшка, – так он на каждом сабантуе выходит бороться. В прошлом ему не повезло здесь, так он поехал в Аргаяш на районный сабантуй. И там не повезло – тогда он поехал в Кулуево и привез-таки барашка! А в Кулуеве интересней, там скачки устраивают.
Он продолжительно молчал, словно только для того, чтобы сказать покаянно Але:
– А мне нравится в деревне. Проснешься рано, петухи кричат, тарахтят телеги, молоком пахнет…
Она смотрела на него, мягко улыбаясь и покачивая головой. Но что-то как будто настораживало его, он спрашивал:
– А что, я говорю ерунду?
– Нет, – отвечала она, – почему же?..
Он умудренно усмехался:
– Ну в самом деле, разве я похож на уставшего горожанина, который мечтает вырваться на деревенский простор? Я говорю тебе о деревне, как говорят мальчишки, съездившие раз-другой в гости к бабушке. Но, знаешь, Аля, та деревня, куда я когда-нибудь поеду… это горные пастбища!.. Или степи, где скачут сайгаки, летают беркуты и, конечно, – завершал он с комичным выражением на лице, – и, конечно, бродят толстокожие отпрыски зебу и шортгорнов. Да, вот еще – представь себе озеро. И стаю белых-белых лебедей!..
Она смеялась. Ей совсем не хотелось, чтобы он уезжал, но ей было приятно слушать его разговоры. Иногда вдруг он задумывался, потом говорил:
– А может быть, я еще одну зиму поработаю здесь. Здесь… как странно, что здесь. – И в лице его она замечала вместе с грустью задор и упрямство.
Подобное задорное выражение она замечала и на лице мамы, когда та заговаривала о строительстве нового цеха. Теперь она не скрывала от Али, что нянчит Женечку последние деньки, что уже и с ясельками есть договоренность, – и не сегодня-завтра она опять примет бригаду, а то вон Панфилов покоя не дает: когда, Таисия Федоровна, когда выходишь? Что ж, думала Аля, малыш больше не болеет, дни пришли теплые. Спасибо маме, что выручила ее в такое время. Что бы она делала, если бы не мама. Однако, думая так, она хотела, чтобы еще хоть немного мама повременила – ну, вот съедут жители поселка, она проводит их, – а пока она бегала туда каждый день, и они гуляли с Илюшкой.
– А знаешь, что я зимой думал? – сказал однажды Илюшка. – Я думал: вот соберусь ехать и скажу Але: «Что ж, прощай, не поминай лихом. Уезжаю. Да, в Сарычев. Говорят, когда-то ты жила там». – И, словно спохватившись, он начинал сожалеть: – Вот лопух, всю зиму нажимал на тригонометрию, а надо было учить химию!..
И тут она почти с ликованием говорила ему:
– Значит, ты зимой не мог думать, что скажешь мне! Ведь ты зимой и не думал о Сарычеве, ты хотел скорее всего в техникум или в политехнический.
– Ну, может быть, не зимой, – соглашался он.
«Об этом он недавно подумал, как станет прощаться со мной. Ну почему он скрывает, почему молчит, если ему так грустно уезжать?»
Наконец настал день, когда можно было переезжать в новые квартиры на Северо-Западе. Накануне того дня они с Илюшкой поехали поглядеть квартиру. Дорога пролегала через весь город, и сперва они ехали трамваем, затем пересели ненадолго в автобус, а там опять трамваем, – весь путь занял часа, наверно, полтора.
Какой огромный город, думала Аля с непонятной грустью, в иных уголках его я совсем не бывала; и на Северо-Запад когда бы еще выбралась, если бы не случай.
Они поднялись на площадку второго этажа и постояли перед дверью с номером 65, потому что ключей у них не было. Затем спустились вниз, вышли на улицу.
– Вот, – сказала Аля, беря Илюшку под руку, – будешь сюда приезжать на каникулы.
Он кивнул, но ничего не сказал в ответ.
Назавтра Аля отпросилась на работе и поехала в поселок и поспела как раз в тот момент, когда Илюшка и тетя Валя грузили в машину вещи.
– А Лиза уехала? – спросила Аля, перехватывая у тети Вали примус и с удивлением глядя в ее заплаканное лицо.
– Уехала, уехала! – крикнул Илюшка, спрыгивая с машины. – Мама, да зачем ты примус тащишь? Алька, Алька, брось!..
Но Аля держала примус в руке и смотрела на тетю Валю.
Та засмеялась сквозь слезы и сказала:
– Ладно, оставь. Только сильно-то не ушвыривай.
Она взяла у Али примус и с какою-то суеверной осторожностью отнесла и положила у стены, где лежала куча разнообразного хлама.
Наконец все было погружено, а так как в кузове оставалось место, то решили забрать кое-что из вещей Власовны.
– Я помогу бабке, – сказал Илюшка, – а ты посиди.
Аля кивнула ему и пошла за угол барака посмотреть акации. Пышные кусты желто цвели, так жизнерадостны, так несведущи были они среди этого гомона и кутерьмы.
Ну вот, скоро не станет акаций, да чего акаций – не будет ни барака, ни даже пустыря. Железобетонная громада покроет собой огромное пространство и затруднит даже само воспоминание о том, что некогда здесь был уголок, кишащий бытом. А хорошо бы когда-нибудь привести Женечку и показать дом, где прошло твое детство, старые акации, ветхий палисадник с неизменными мальвами. Но, может быть, она покажет ему домик в Сарычеве, в тихой слободе, где она прожила до двух с половиной лет. Но тот домик как бы придуман ей – так смутны, так беспредметны о нем воспоминания, – он как бы придуман, как придуман был ее знаменитый отец, мастер необыкновенных платьиц и жакетов, как придумана была ее жизнь, полная тайн и глубокого смысла, в той избушке в глубине парка…
Но, может быть, не она с Женечкой придет, а мама, постаревшая, но еще бодрая и живая, – так вот, может быть, мама найдет, что сказать малышу, потому что она ведь не только жила здесь когда-то, но еще и строила новый цех, покрывший собой и акации, и пустырь, и палисадник с пышными мальвами.
Рассказы
Фининспектор и дедушка
1
– Ты ложись, – сказала бабушка. – Портной снимет мерку и сошьет тебе брюки, как у дяди Ахмеда.
Я вытер ноги о коврик и горделиво ступил на белую крахмальную простыню поверх одеяла, расстеленного на полу.
Я лег, бабушка опустилась к моему изголовью, и ее лицо стало близко и было добрее, чем лица портного и дедушки, стоявших высоко надо мною. Дедушка – он будто шел себе, шел и вдруг набрел на меня и подумал: «Возьму-ка я себе внука, другие в магазинах покупают, а я на дороге нашел». И он наклонился вроде для того, чтобы поднять находку, и, как тень дедушки, наклонилась надо мной плоская, в серой рубахе, фигура портного, но тут ноги и руки мои оказались вдруг схвачены и сильно прижаты к полу. И когда я увидел другое, то, что должен был бы увидеть сразу: ложь на лице дедушки и будничную, оскорбительную деловитость на лице портного.
Я закричал мстительным, злым криком обманутого и униженного, и бабушка, чего-то пугаясь, сказала:
– Вот дядя Ахмед… пьяный…
И в дверях действительно появился дядя Ахмед. И крик мой – уже не тот, мести и зла, а другой, неимоверной боли, – подавлен был страхом перед пьяным дядей Ахмедом. А бабушка закрыла мне лицо подолом, когда портной склонился низко над тем местом, где потом мгновенно и горячо загорелась та неимоверная боль…
Я лежал жалкий, разоренный, руки мои отпустили, тот подавленный крик выходил теперь из меня стоном, постыдным всхлипыванием.
– Вот тебе веревка, – сказала бабушка и положила у моей руки моток веревки. – Портной приведет тебе жеребенка.
– Да, – сказал дедушка. Он почтительно, но неуклонно подвигал «портного» к двери…
Дня через два после обрезания я ходил по комнате в просторной, ниже колен, рубашке, согнувшись, и видел ржавые пятна марганцовки на подоле рубашки.
Шел ледоход. Льдины то двигались чинным порядком, то затевали беспечный хоровод. Я тосковал у окна, держа в руках моток веревки.
– Вон, – бабушка показывала куда-то вдаль, откуда текли небо и вода, – во-он оттуда приплывет на льдине жеребенок.
Дедушка купил лошадь. Он привязал лошадь во дворе под окнами, зашел в дом и сказал мне: «Смотри», – и стал смотреть сам. Он не был ни радостным, ни печальным – он смотрел на лошадь так, будто бы она кем-то была приведена к нему во двор и еще неизвестно, с каким умыслом.
…Бабушка мне рассказывала о нем, когда его уже не было в живых, и те рассказы вносили в мои личные воспоминания достаточную ясность. Жалость к дедушке в ее рассказах не была преувеличена давностью лет и печалью об умершем.
Его, рассказывала бабушка, привезли мальчиком в Маленький Город и отдали в ученики шапочнику. Года через три он здорово преуспел в шитье картузов и шапок, тогда он ушел от старого шапочника, чтобы работать самостоятельно, но возвратился обратно, не вытянув собственного дела. В годы нэпа дедушке удалось все же завести свое дело, и вел он его, говорят, неплохо, но длилось это недолго, и на протяжении дальнейших лет он подвергался гонениям как чуждый новому времени элемент – не то чтобы очень уж опасный, но все же вредный своими собственническими взглядами. Те строгости, конечно, выматывали ему душу, но от них он страдал не так сильно, как от непримиримости собственной дочери и зятя. Обстоятельства жизни очень заметно повлияли на его характер – так, в свое время он оказался разумнее дремучих невежд Маленького Города и отдал дочь в школу. И опять-таки, не упорствуя, он выдал дочь за комсомольца и даже впустил его в дом, но при этом упорно шил шапки, несмотря на то, что зять и увещевал его, и стыдил, просил прекратить это позорное дело, компрометирующее их, молодых учителей. Они заставили его на время бросить шитье шапок, но только на время, потому что тоска гнала его опять к шитью, и он работал заядло, не внимая упрекам дочери и зятя.
Когда умерла мать, он, говорят, поклялся моему отцу не шить больше и не шил очень долго – он боялся, что отец заберет нас и уйдет из дома.
После этого дедушка свихнулся было совсем, и обстановка в доме стала напряженной: когда он шил шапки, жизнь его наполнялась содержанием, он помнил и о десятках других дел, о которых должен помнить хозяин дома. А когда он не шил шапок, то ходил по дому и двору равнодушно, погруженный в изжигающую его тоску.
…Гнев отца, когда он застал меня, придя с работы, исплаканного, перепачканного в крови и марганцовке, был, конечно, сильным. Он тут же стал собирать вещи, чтобы навсегда покинуть дедовский дом. Собрав кое-что, он сел возле меня. Дедушка стал в дверях и глухо сказал:
– Я перестану шить шапки… Я клянусь…
Отец устало ему ответил:
– Лучше бы ты не делал этого, а шил бы шапки.
Я лежал и думал: когда же мы уйдем? Но отец сидел неподвижно, его гнев, видно, пропал, но лицо не приобрело еще иного устойчивого выражения и казалось то жалобным, то смешливым.
– Я клянусь, – повторил дедушка. Он стоял не то чтобы пошатываясь, а как-то все кренясь к притолоке, пока, наконец, не оперся о нее всем туловищем.
– Он больше не будет, – робко сказал я.
Отец мне не ответил. Он, пожалуй, не спешил принять клятву дедушки и не очень-то хотел уходить.
А дедушка был испуган: дом, в котором родилась его дочь, его внуки и должны были родиться дети внуков, – этот крепкий дом, данный ему как награда за его умение и труд, терял свой смысл, когда бы его покинули зять и внуки. И он клялся отцу, что не возьмет больше иглу в руки…
Он никогда, говорят, лошадником не был, но тут он купил лошадь, может, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность – он обещал не шить, он сдался, но сдаться окончательно он не мог.
…Итак, дедушка говорит мне: «Смотри», – и смотрит сам на привязанную под окном лошадь, он смотрит вроде бы с легким удивлением, будто это чужая причуда, но я-то знаю, что лошадь наша, и прошу:
– Запряги лошадку.
Он решительно поворачивает свое легкое мускулистое тело и выходит из комнаты. Меня одевают потеплей, выводят за руки и сажают в ходок. Ворота распахнуты.
Куда мы едем? А куда бы мог поехать я, пятилетний мальчишка, сладко содрогающийся от любви к лошадям, куда, в какую осознанную, наполненную житейским смыслом поездку мог бы я пуститься? Да ни в какую, просто ехать, признавая притягательность белой, уходящей в белую даль дороги, просто переживать движение и только воображением рождать цель и смысл езды. Мне и тогда и теперь кажется, что с дедушкой мы были сходны в бесцельности наших поездок в степь, и в воображаемом сходны – и ему и мне рисовалось что-то неосуществимое, но с той разницей, что мое воображение награждало меня радостью, а его скорее всего печалью.
Он и без меня уезжал – один. Проснувшись однажды утром, я не застал его и спросил:
– А куда поехал дедушка?
– На ярмарку, – отвечала бабушка.
Я не умел уловить иронии и сострадания в ее голосе; и ярмарка виделась мне просто степью, полной зеленого и синего света, ветра, шевелящего ковыль.
Он возвращался с подарками: извлекал из объемистого кожаного саквояжа хлеб, пачки чая, кусковой сахар – это по столу придвигал бабушке, мне – пряники или петушка на палочке. Я ликовал не оттого только, что получал сладости, но и потому, что чувствовал себя причастным к некоему обязательному ритуалу, который был бы, наверно, неполон без меня.
Потом я понял, что, купив лошадь и не зная, что с нею делать, дедушка, однако, нашел ей применение: это была игра – будто бы он, поработав, возвращается с ярмарки и везет подарки…
2
Я носил теперь длинные брюки, как у дяди Ахмеда, но сам дядя Ахмед был одет не в широкие, со стрелками брюки, а в галифе.
Через некоторое время дядя Ахмед отправился вместе с другими конниками на фронт, вскоре ушел и отец, а дедушка продал лошадь.
Дедушка запрягал ее в последний раз (в стороне стоял цыган, высоко задрав бороду, и борода его оскорбляла меня – будто он будет целовать нашу лошадь и щекотать ее черной жесткой бородой), он запрягал ее не торопясь, с нежностью, словно растягивал удовольствие, состоящее в том, что он запрягает ее в последний раз. Лошадь ласково глянула на меня…
Потом я долго бежал за телегой по хлопающей под ногами пыли и слышал возгласы с тротуаров: «Мальчишка-то шапочника, гляди!..», «Что, дедушка продал лошадь?» А когда цыган выехал за город, я отстал и, подняв камень с дороги, бросил его, желая, чтобы камень угодил в цыгана, и боясь, что он попадет в лошадь.
А когда я вернулся домой, где наверняка должна была царить печаль, я увидел, что дедушка сидит на полу, а против него расставлены колодки, разложены молоточки и деревянные колотушки, и рядом лежит пыльная подушечка, с воткнутыми в нее разнокалиберными иголками.
– Ты будешь шить шапки? – спросила бабушка.
Он презрительно поглядел на нее.
– Ты слышала, что говорил зять, когда уходил? Он сказал: «Побереги мальчишек». Может, он тебе это сказал?
С тех пор дедушка опять стал гордым, даже величавым.
Вот невозмутимо шагает он возле таратайки с вихляющимися, постыдно скрипящими колесами и помахивает взлохмаченными веревочными вожжами над худым крупом карликовой коровы Маньки. Прежде, то есть до того, как началась война и Маньку впрягли в таратайку, она, говорят, была достойной коровой.
Дедушка помахивает веревочными вожжами, а встречный народ хохочет, видя карликовую коровенку с рожками, как две перевернутые запятые, и дедушку рядом с нею – невозмутимого, недосягаемого для смешков и колкостей.
Возможно, он и не слышал насмешек, и не замечал зевак. Мыслями он, скорей всего, был дома, в той заветной комнатке, в которой прежде была наша с братом спальня, а теперь он там работал.
Он блаженствовал в кропотливом, изнурительном труде, при свете керосиновой лампы, в комнатке, пропахшей кислым запахом овчины и густым махорочным дымом.
Вот он раскинул перед собой сукно, мягко потрепал его. В эти минуты движения дедушки были такие, будто он ласкал меня или брата, но не так, как ласкал он меня сонного или прихворнувшего, – по сукну можно было крепко хлопнуть рукой и так же крепко погладить.
И – в руке у него появляется мелок (он изящен, как игрушка, отточен скольжением по сукну), дедушка, чуть откинувшись назад, размечает что-то по сукну. Когда пролегли уже по темному прямые, точные линии, он берет в руку большие, громоздкие ножницы и начинает резать материал – в комнате стоит тишина, только слышно, как ножницы издают мерные журчащие звуки, – он режет, склонившись низко, будто приникает ухом к этому ладному тихому журчанию… Потом он садится за швейную машинку и сшивает то, что нарезал из сукна, – стрекочет машинка, а он скользящими короткими движениями вводит под этот стрекот сукно, а ногою давит и давит на педаль, как если бы он слушал гармонику и притопывал в такт ногой, все более возбуждаясь, подчиняясь ритму мелодии.
Машинка умолкает, нога дедушки чуть заметно притопывает еще, хотя он и убрал ее с педали, его лицо, руки, глаза уже отрешены от работы, но не той – навсегда – отрешенностью, а сознанием, что он очень скоро вернется к ней опять. Бабушка несет ему еду, ставит ее на табуретку перед ним, он ест медленно, вроде бы поглощенно, но ест он не плотно, только бульон и пиалку крепкого несладкого чая, – ест медленно, но заканчивает обед быстро… Теперь в руке дедушки игла. Он будто выпускает ее, стремительную, неуловимую, из руки и ловит точно и безошибочно; и так сильно и стремительно блистание иглы, и так она истончается в изящном, неуклонном – все быстрее, быстрее – мелькании, что кажется, исчезнет, истает, как истаивает солнечный лучик, проникший в щель сарая. Пока смотришь на иглу, не слышно ни звука. Но если отвести глаза, можно услышать шорох, когда игла соприкасается с сукном и овчиной.
А утром, когда вынуты из печи просохшие шапки, когда он снимает их с колодок, он уже не тот – он очень спокоен, но не так воодушевлен и порывист, как вчера; он, верно, понимает, что мог вчера погорячиться и сделать что-то не так, и строго, беспощадно ищет свою оплошность. Он берет железный гребешок с острыми, как иголки, частыми зубьями и медленно вычесывает овчинные ушки и козырьки, затем легкими блестящими, как у парикмахера, ножницами подстригает и выравнивает шерстинки. Потом он кладет шапки в ряд на лавке и стоит над ними, глядя, как на внучат, не то ласково, не то гордо, не то с укоризной, не то с горечью.
Мы с братом, переступая запреты бабушки (она боялась, что мы зачахнем от ядовитых запахов, которыми полна была комната, и, возможно, она боялась еще и того, что мы слишком заинтересуемся дедовским ремеслом и, не дай бог, пожелаем стать шапочниками), сидели вечерами возле дедушки. А бабушка в это время топила русскую печь, чтобы потом сушить в ней насаженные на колодки шапки. Это походило на некий праздник, какие бывали прежде, когда бабушка топила печь и, пока не совсем прогорят дрова, пекла на огромной сковороде круглые лепешки. Правда, сейчас не пахло лепешками, но все равно, видно, для дедушки и бабушки сохранился тот праздничный смысл – оба они были увлечены своим делом.
Печь прогорала, дедушка постукивал деревянной колотушкой, насаживая готовые изделия на колодки.
– Ну! – вскрикивал он удовлетворенно. – Ну, каково?
Он не гнал нас от себя, больше того, ему нравилось, когда мы с братом сидели возле него и, конечно, мешали, но он никогда не говорил: не трогайте того или другого. Он не хотел, конечно, для внуков такой же доли, как у нею самого, он говаривал: «Вот у меня инженеры растут!» – но то, что мы с интересом относились к его ремеслу, было приятно ему.
– Мальчонка шапочника, а! – восклицал он.
Меня и вправду называли «мальчонкой шапочника». Надо же так! – отец у меня был директором школы, мать учительницей, но никто не звал меня «директоров сын» или «сын учительницы», а только – «мальчонка шапочника» (правда, сосед наш, дядя Ахмед, весьма гордившийся тем, что играл с отцом в бильярд, говорил – директоров сын, и дедушка старался скрыть свое возмущение: Ахмед не его, мастера, а директора ставит выше). Даже когда я пришел однажды в школу, где работал отец, и стоял у входа, не решаясь войти, кто-то из старших учеников крикнул: «Да ведь это мальчонка шапочника!» – и побежал звать отца.
…И вот дедушка опять шил шапки, и теперь он не просто делал это для себя, занявшись единственным дорогим для него делом, но просто зарабатывал деньги – он исполнял долг, отец ведь просил его: «Побереги мальчишек», – и он обещал отцу, и никакая сила не заставила бы его отступить, потому что это, возможно, был единственный случай, когда он, занимаясь своим ремеслом, исполнял высокий долг перед теми, кто воевал.
3
Пришел с войны дядя Ахмед, без левой руки, с худым, постаревшим лицом. Он стал ездить на телеге, груженной ящиками с тряпьем, и возил с собой прищепки для белья, гребенки, рыболовные крючки, свистульки – вообще много вещей, притягательных для ребятишек и женщин.
Я не думаю, чтобы дядя Ахмед не был приспособлен работать утильщиком, при желании любой человек может ехать в телеге и кричать: «Несите ветошь, несите кости!» Но дядя Ахмед и этого не делал – просто через каждые два-три дома он останавливал лошадку и сидел так с отчаянным видом и молчал. Женщины сами нагружали ребятишек ветошью и посылали к Ахмеду и при этом просили, чтобы они брали взамен не только крючки и свистульки, но и гребешки. Позже он и не утруждал себя тем, чтобы натянуть вожжи, лошадка привыкла и сама останавливалась где надо.
Как-то лошадка дяди Ахмеда остановилась у наших ворот. Мальчишки и девчонки что-то не спешили с тряпьем и костями. Ветер был студеный и резкий. Дядя Ахмед сидел съежившись. Вышел к нему дедушка.
– Я тебе шапку сошью, Ахмед, – сказал он.
Дядя Ахмед усмехнулся и ответил, что шапка, которую сшил ему дедушка до войны, почти новая.
– Нет, Ахмед, – ответил дедушка, – ты ошибаешься, шапку я тебе до войны не шил.
Дядя Ахмед ответил: как же, мол, не шил, когда дома у него в сундуке, посыпанная табаком, лежит почти новая шапка.
– Ты ошибаешься, Ахмед, – сказал дедушка. – Я ни тебе, ни кому-нибудь другому до войны шапок не шил (может, он и вправду верил, что совсем не шил до войны?), потому что зять был против. А теперь я шью, потому что зять, когда уходил на фронт, наказывал заботиться о внуках. Теперь ты понял, Ахмед?
Дядя Ахмед равнодушно ответил, что-де ладно, не шил так не шил, а шапка ему все-таки не нужна, он вот подкопит денег и купит себе валенки, потому что ему важнее держать в тепле простуженные на болоте ноги.
Дедушка никогда никому не предлагал шапки, даже на базаре, где, казалось бы, что еще делать, как не завлекать криком покупателей, но в день после разговора с дядей Ахмедом он предложил шапку пимокату Семену.
– Я тебе, Семен, сошью такую шапку, – говорил дедушка, – ты ее на голове и чувствовать не будешь.
– Нет, – отвечал Семен, – мне киргизскую шапку не надо.
– Я тебе, Семен, не предлагаю малахай. Та шапка будет аккуратней и зимой будет греть, а летом от солнца прикрывать.
– Аккуратная мне нужна, – отвечал Семен. – Мне чтобы каракулевая была.
Дедушка задумался. Затем он ответил, что можно и каракулевую.
– Мне чтобы с кожаным верхом, – продолжал Семен. – А с суконным верхом, какие ты шьешь, мне не надо.
Дедушка снова задумался, теперь надолго. Затем он ответил, что можно и с кожаным, только зря Семен так нехорошо отзывается о шапках с суконным верхом, главное, чтобы шапка была теплая, аккуратно на голове сидела и носилась три зимы.
– За пару хороших пимов, Семен, я сошью тебе хорошую шапку, – сказал дедушка. Он вроде просил его.
– Пимы сейчас дороже, чем шапки, – ответил Семен.
– Пусть пимы дороже, – сказал дедушка, – но шапку я сошью каракулевую, с кожаным верхом.
Слова Семена задели дедушку. Его и без того удручало, что шапки ему приходилось шить с суконным верхом, а не с кожаным, с ушами из овчины, а не из каракуля. Каракуль и кожу сейчас достать было трудно, они проникали в город темным путем, а дедушка не хотел рисковать ни собой, ни нами – нашим благополучием, а точнее, возможностью исполнить то, что он обещал отцу.
А однажды на базаре он дал мне шапку, чтобы я поносил ее и, конечно, если удастся, нашел покупателя – сам он обычно сидел у заборчика под навесом и даже не всегда раскрывал чемодан, в котором были сложены шапки. Злые языки язвили, что, дескать, шапочник из жадности не дает свой товар маклерам, а приучает торговать малолетнего внука. Ручаюсь, что это была неправда. Он, как я теперь понимаю, заметил блеск в моих глазах – блеск назревающего призвания – ведь я рос в городке торговцев и кустарей, и хотя городок хирел в этом своем качестве, но в ритмах и сутолоке базара еще сохранялся его привлекательный, заражающий романтический дух риска, удальства, предощущения удачи. Так вот, я думаю, что дедушка угадал мою взволнованность и ему было приятно, что его дело может заинтересовать, завлечь мальчишку, хотя, повторяю, он и не хотел для меня такого будущего.
Восторженный и гордый, вошел я в пестроту и тесноту базара, как фокусник, ловко подбрасывая вверх шапку и выкрикивая:
– Кому шапку! Вот хорошая шапка!..
Меня совсем не обижало, что никто не интересуется шапкой, никто не мешает моему движению в пестроту и гам воскресного базара, не мешает дотошной приглядкой и скучной торговлей.
Но – когда, видно, я был особенно ослеплен – меня вдруг окликнул, а потом мягко, по и крепко прихватил за руку высокий сухой дядька.
– Купите шапку, – торопливо сказал я. Меня смутило то, что я не заметил его и не предложил шапку, прежде чем он увидел меня и остановил.
Он смотрел на меня долго и пристально и наконец спросил, будто бы тоже смущаясь:
– Ты думаешь, у меня нет шапки, если я не надел ее?
– О-о! – удивился я. – Кто же летом надевает шапку? А шапку надо покупать сейчас, потому что зимой вы можете и не купить.
Он опять долго и пристально смотрел на меня, затем пошел, ничего не сказав и не оглянувшись ни разу.
Когда я вернулся к дедушке, он складывал в фанерный чемодан шапки. Движения его были поспешны и тревожны. Он спросил:
– Что тебе говорил фининспектор?
Так я впервые услышал слово «фининспектор» и увидел его самого, но это был не тот, с которым у дедушки позже завязались долгие и странные отношения.
4
Того я впервые увидел не на базаре, а дома у нас (и дедушка потом говорил, что не встречал его на базаре).
Я раскладывал на горячей плите пескарей, которых мы с братом наловили. Мы сушили их сперва на солнце, подвесив на нитках, а потом на горячей плите, мне не терпелось отведать сушеной рыбы.
Тут он и появился на пороге.
– Здравствуйте, – сказал я и уставился на него.
Он был в кителе с блестящими пуговицами, в высокой фуражке.
Он спросил по фамилии дедушку. Я ответил, что один дома.
– А чем ты занимаешься? – спросил он с интересом. – А-а! Для того и печь топили?
– Да, – стал я туманить, – чтобы рыбу сушить, чтобы тепло было, чтобы…
Он рассмеялся так, что слезы появились на глазах, потом вынул носовой платок, и на меня сильно пахнуло одеколоном.
– На улице жара, как в пустыне, – сказал он, все смеясь. – А пескарей на плите не сушат.
– Да, – промямлил я, – да. (Печь топили для того, чтобы сушить готовые шапки.)
– А где же дедушка?
– Да, – сказал я, – да, он вроде купаться пошел.
– Купаться? – весело переспросил человек и, четко стуча сапогами, прошел от порога и сел на табурет, не придвинув его к столу, – можно было ходить вокруг и оглядывать его. Он вроде не торопился.
Когда появился дедушка, он почти рывком поднялся, четко стукнув каблуками, замер и строго, почти сурово уставился на дедушку.
– Здравствуйте, – гордо сказал дедушка. – Прошу, пожалуйста. – И показал рукою на дверь, ведущую в большую комнату для гостей.
– Ничего, – сдержанно ответил он, выпрямляясь. – Я по делу. Я сотрудник горфинотдела.
Дедушка пожал плечами и снисходительно молчал – молодой человек пренебрегал порядками дома, в который явился, и дедушка с таким же пренебрежением готов был слушать его. Он даже не шуганул меня, а потом пришла бабушка с моим младшим братом, их он тоже оставил. А фининспектору вроде нравилось наше присутствие. Он повернулся к дедушке и отчетливым высоким голосом сказал:
– Вы занимаетесь промыслом, запрещенным с 1928 года. Вы даже не имеете права на приобретение патента. Я вас предупреждаю, что, если вы еще раз нарушите закон, дело сразу будет передано в следственные органы. Ясно? – спросил он, и дедушка ответил ему: «Ясно», и он, четко стуча сапогами, пошел к двери…
Дедушка ходил по комнате, чувяки его как-то слабо, горестно шаркали по полу, и все слышался четкий стук сапог – сперва в сенях, затем во дворе, затем на улице, – четкий стук по дощатому тротуару.
– Он у меня спросил: зачем печь топили? – сказал я.







