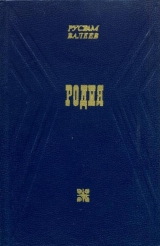
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Как-то Гумер, кончив прихорашиваться перед зеркалом, перекинул белый шуршащий плащ через плечо и двинулся к выходу. Тут Анвер остановил его:
– Послушай-ка, ты о чем-нибудь думаешь?
– Я всегда о чем-нибудь думаю.
– Я спрашиваю серьезно, – хмуро сказал Анвер.
Дед вдруг скатился с койки, на которой он лежал в ожидании ужина, и, шустро взмахивая руками и устрашающе кряхтя, посеменил к братьям. Он встал против Анвера, остро выпятив грудь под очень просторной рубахой, – казалось, там не грудь, а худенький кулачок.
Вид его поразил меня отчаянной молчаливой мольбой! Я как-то не помню глаз деда. Они прятались в глубине за густыми вислыми бровями и даже в минуты гнева не сверкали оттуда. Сейчас я увидел его глаза – без цвета и в то же время с какой-то неестественной зеленой заволочью. Они как бы быстро-быстро говорили: «Не трогай, не трогай его! Брата!»
– Да ты что, дед? – с досадой и смущением сказал Анвер, повернулся и пошел в большую комнату.
Гумер хмыкнул, зашуршал плащом, перекидывая его с плеча на плечо, и направился к выходу.
Дед внезапно размяк, грудь ушла внутрь, рубаха заколыхалась на впалом животе. Жалобно сморщив лицо, он попросил:
– На двор хочу… душно…
Мать накрыла ему плечи большою кашемировой шалью, я взял его под руки сзади, вывел на крыльцо и опустил на приступок.
– Посиди, – не то разрешил, не то попросил он.
Он дышал тяжело, с хрипом и присвистом. Несколько раз он клал мне руку на плечо, и тогда, казалось мне, я ощущал тяжесть его дыхания. Я сказал ласково:
– Ты не волнуйся.
– Я тебе расскажу…
– Не надо, дедушка, отдыхай.
Он послушно затих, и мы долго сидели молча.
– Я тебе расскажу, – повторил дед. – Я в плену был, в Австрии… в царскую войну. Дома считали – пропал я вовсе, а я возвращаюсь в деревню. Пока я воевал, наши дом построили… Хороший дом. Приезжаю, а отец умирает. Старший брат вызывает меня во двор. «Я, – говорит, – думал, тебя убили, а ты, вот оно, пришел». – «Пришел, – говорю, – брат, пришел». – «Ладно, – говорит, – иди». Я пошел. Ну, он мне и сделал… память.
Дед взял мою руку и потянул к себе. Пальцы мои коснулись вялой, холодной кожи на острой, со вмятиной, скуле.
– Дедушка! – воскликнул я и отдернул руку.
Если бы дед подробно рассказал, как злым степным днем несся на него, оскалив зубы, дутовец и как поднимал он саблю, и как опустил ее, я испытал бы только трепет восхищения…
– Дедушка, а ты воевал с дутовцами?
– Воевал.
Воевал. Но когда он пошел воевать, шрам уже был.
Воздух сырел. Перильца стали влажными. Дед начал кашлять, но, когда я позвал его в дом, он отказался и все сидел, сдерживая клокотавший в груди кашель.
Я не знал, который час. Потом пришел Гумер – значит, было очень поздно.
– Ты уезжай, – сказал дед, останавливая Гумера.
– Уеду, уеду, – смеясь и небрежно хлопая деда по спине, сказал Гумер, и обойдя нас, пошел к двери.
– Ты уезжай! – крикнул дед.
9
В городском кинотеатре вторую неделю шла «тяжелая» картина.
Делать нам было нечего, и мы с Гумером отправились в кино.
Зал был наполовину пустой, и, когда погасили свет, зрители захлопали стульями, перебираясь с дешевых мест на более удобные.
Ну и картина попалась, все, как в кино: влюбленные, адвокат и девушка из магазина; неправдоподобные страдания сменяются розовым благополучием.
– Чепуха, а обывателям нравится, – сказал Гумер, когда мы вышли.
– Да не очень. Видишь, народу-то мало.
Но Гумер все ругал кино и обывателей, и я вспомнил, как мы смотрели «Поэму о море» и как он восхищался и тоже ругал обывателей.
– Конечно, адвокат – не романтика. Не то что «Поэма о море».
– А-а, – сказал Гумер и стал закуривать по-своему, но спичка не зажигалась, и он вынул спичечную коробку.
Мне показалось, что я кое-что понимаю в теперешнем настроении Гумера, и спросил осторожно:
– Как у тебя… с той?
– С какой той?
– Ну… знаешь ведь. За которой все заводские ухаживали.
– А-а, – сказал он. – С ней кончено.
Мы замолчали. Гумер перекидывал с плеча на плечо шуршащий плащ.
Возле городского сада мы приостановились. Стояли четверо ребят – у нас ошибиться нельзя, – приезжих ребят.
– Гляньте, местный денди! – воскликнул один.
И так они начали ржать, хлопая себя по ляжкам, улюлюкая, тыча пальцем в щегольской плащ Гумера.
– У местного денди простуда! – вопили они. Впору сквозь землю провалиться. Ну за каким чертом он носит плащ в такую жару! Я скорее потащил Гумера, чтобы он не полез в драку.
– Чего с ними драться, чего с ними драться, – говорил я, таща его.
– Ты, собственно, о чем? – спросил Гумер, останавливаясь и убирая мою руку с плеча. – Я и не думал с ними драться. Мне наплевать.
– Как это не думал драться? – огорченно спросил я.
– Как, как, – сказал он, усмехаясь и глядя на меня как на маленького. – Вот поживешь и тоже, может быть, научишься пренебрегать. Ну, идем, что ли.
Идти с ним мне не хотелось, и я поглядел на часы. Сегодня в городе должны дежурить наши дружинники, но было еще рано. Я сказал, что меня, наверно, ждут в штабе дружины, и повернул в первую же улицу.
10
На дверях одной из комнат горисполкома висели две таблички: «Детская комната» и «Штаб дружины». Сейчас здесь был штаб дружины. Я попросил сторожа открыть комнату, но он наотрез отказался. Я вышел на улицу и через минуту вернулся с красной повязкой на рукаве. Сторож открыл комнату и оставил мне ключ.
Ребята пришли через полчаса, и мы отправились дежурить.
У входа в городской сад собиралась молодежь. Я поискал тех, четверых, но их не было. Я узнал бы их по одежде, в лицо никого не запомнил, и странно – мне хотелось сейчас увидеть их лица. Почему, ну почему Гумеру было все равно, что они смеялись? Почему он так легко сказал, что с той девчонкой все покончено?
Может быть, он и не любил ее, а погнался потому, что за ней гонялись другие?
Я вспомнил Гумера уверенным, веселым. И обывателей он ругал уверенно и весело. Правда, и сейчас он ругает, но кто только не ругает обывателя – даже сам обыватель!
– Послушай, – спросил я Дударая, – как, по-твоему, будет наш завод знаменитым?
– Ишь ты! – сказал он. – Будет.
– Когда?
– Не знаю. Знаю только, что работы у нас будет до черта.
– Не скоро еще? Может, мы тогда уж старики будем?
– Да нет, – сказал он. – А вообще-то, чего ты у меня спрашиваешь? Ты меньше меня знаешь?
Я не ответил. Меньше не меньше, а этого я не знал.
– Послушай, вот если человек сам ничего не открывает и признает только то, что признали другие, что это за человек?
Он подумал, придерживая очки.
– Не знаю, – медленно сказал он. – Это, наверно, просто ленивый человек.
«Странно, – думал я, – странно, Гумер ленивый. Он же всегда был впереди, все ему удавалось. Мне сейчас не удается – нет, не впереди быть, а хотя бы… помочь человеку до того, как ему станет очень уж плохо».
Мы медленно двигались по улице. Вечер свежел, но еще не темнел, еще было закатное солнце, в чистых и спокойных лучах его тополя были зеленее и моложе. Ветер никуда не мчался, не шумел, он шептал в тополях.
Ни один бузила не попадался нам, даже из ресторана выходили на удивление трезвые люди.
Выпивший все-таки попался. Это был Панька, мы увидели его издалека. Он шел весело, взмахивая руками, как будто приплясывал. Пошатываясь, он подошел к нам, и на лице у него была косая улыбка.
– Ты что, ты что! – шепотом заговорил Дударай, беря Паньку за плечи и не давая ему шататься. Судя по его строгим очкам, он не разрешил бы Паньке и улыбаться.
Панька сказал, что он от Василия Васильевича, что был разговор и как будто все налаживается, потому что он оказывает влияние на тестя. Слушать его было невесело, потому что второй день Василий Васильевич не выходил на работу и сегодня вот продолжал «хворать» вместе с Панькой.
– Ну, идем с нами, – сказал Дударай, и мы подвели Паньку к его калитке. Панька намерен был долго прощаться, но мы втолкнули его в калитку.
Время дежурства истекало.
– А ведь мы предотвратили скандал! – гордо сказала девчушка из формовочного. – Если бы мы не довели Уголькова, он бы вовсе напился где-нибудь. И скандал…
– Ничего мы не предотвратили, – внезапно перебил ее Дударай. Девчушка сразу замолчала.
Город спал, когда мы, пройдясь напоследок по центральной улице, разошлись каждый в свою улочку.
Небо густо усеяли звезды. Зябко и вяло пахло мокнущими в реке талами, горячо и резко – степной полынью и молочаем.
Я осторожно открыл калитку и вошел во двор. Расплывчато белел возле забора дедушкин камень. Я подошел к нему, потрогал, он был гладкий и теплый. Я сел, но не на камень, а рядом, на густую гусиную травку. Травка была еще не влажная, но прохладная.
Тут же я услышал голоса по ту сторону забора и оцепенел. Потом я почувствовал себя так, точно весь разваливаюсь, отдельно руки, ноги…
Я с трудом поднялся и, нисколько не беспокоясь о том, что меня могут услышать, шагнул к забору. Душным сырым запахом пахнуло из сада.
– …нет, не все! – сказала Дония.
– Нет, все, – сказал Гумер. – И я не верю, и мне никто не верит. Даже ты. Ну, хочешь… Перед тобой я виноват! А больше ни перед кем. Ни перед кем не хочу быть виноватым… Эх! – вздохнул он отчаянно.
За забором зашуршало, и Дония сказала:
– Пусти, больно.
– Умчать бы тебя в степь… от всех, от всего! Уедем, а?
– Не умчишь, – сказала Дония. – Если не захочу, не умчишь.
Я не понимал, шепотом они говорят или в полный голос. Я не понимал, как это после всего, что было между ними, они еще могут говорить.
– Уедем, а? Если бы ты знала, что я могу!
– Я знаю, – жалобно сказала Дония.
– Знаешь… а не веришь! Ты стала совсем другая. Все по-другому.
– Я верю, – сказала Дония. Она надолго замолчала, но так, что и я, и, наверно, Гумер знали, что она продолжит именно это начатое.
Она повторила:
– Я верю… Иди ко мне.
Я не понял, почему она сказала: «Иди ко мне». Что, разве они стояли далеко друг от друга?
Потом голос ее стал таким, словно Гумер мчал ее по степи и она задыхалась в ковылях…
Я отпрянул от забора и, сделав несколько широких прыжков, очутился в сенях.
В комнатке было душно, окна закрыты. Но я лежал не ворочаясь, не шевелясь. Окна стали светлеть. Гумера не было.
11
Несколько дней стояла сухмень и было слышно, как далеко в степи ходили громы. А однажды и у нас хлынул дождь, а потом всю ночь гремело и, не переставая, горели молнии. И дождь лил, лил; казалось, река раздвинулась и катится уже возле окон.
Утром я шел на завод и встретил Донию.
Ветер пошатывал белую заволочь мелкого вялого дождя. Реку вспучило, и мутная, какая-то слепая, нездешняя вода была там, где мы загорали с Донией.
Я был в резиновых высоких сапогах и поднял Донию на руки. Когда я нес ее уже по мосткам, у меня заколотилось сердце от испуга, что не просила же она ее нести и могла рассердиться. Но она молчала и равнодушно держалась холодной рукой за мою шею.
На берегу я опустил ее.
– Ты на меня сердишься? – спросил я.
– За что?
– А твоя мама на всех нас сердится.
Дония не стала отвечать.
Вообще-то тетушка Гульниса хотя и таила, конечно, обиду, но уже заходила к нам. Разговор был о свадьбе. Меня удивило, что после всех проклятий нашему дому она все-таки пришла к нам. Но это, по-моему, в отместку мужу. Я слышал, как Шавкет-абы успокаивал жену: «Ну ладно, ладно. Решится как-нибудь. Там у них коллектив. Чего шуметь?» – «Коллектив! – возмущалась тетушка Гульниса. – Коллектив, что ли, породил твою дочь? Скоро себя самого бояться будешь!»
Это, пожалуй, было не совсем точно. Шавкет-абы был не трусом, а очень спокойным. Может быть, когда-то он боялся всего, но сейчас он был страшно спокойным, как будто задумывал убить себя.
– Ты, наверно, замуж выйдешь, да? – спросил я Донию.
– Что ты все спрашиваешь?
– Так… жалко тебя.
– А Гумера не жалко?
– Чего его жалеть? Он парень.
– Ну и меня… чего жалеть!
12
До конца смены оставалось немного, когда я поглядел на часы. Там было: еще толчок, другой, и все. Толчок я услышал раньше положенных минут, следом раздалось еще несколько незнакомых, глухо громыхающих толчков – завал! Изоляторы свалились, застопорили проход в печи. Я кинулся к топке, увидел пламя, смятенно бьющееся и желтое, и закричал:
– Стой!
Поезд остановили, закрыли подачу воздуха и мазута. Дударай пошел вдоль печи, коротким ломиком выстукивая торцы. Потом начальник цеха, в пиджаке нараспашку, с бледным лицом, взял у Дударая ломик и простучал по торцам сам и отбросил ломик.
– Ломать!
Я все не мог оправиться от растерянности, и, когда принесли ломы, их разобрали раньше меня.
Торцы оказались хрупкие и ломались легко. Пламя я увидел, когда наполовину разрушили стену. Оно было все изорванное, еще желтое. Оно лежало. Туда, где оно лежало, должен был кто-то влезть. Пахло жженой землей, сухим горячим железом, еще на мгновение запахло дождиком: кто-то открыл окно.
Я сказал, что полезу в печь. К этому отнеслись спокойно, только начальник цеха почему-то оглядел меня, но ничего не сказал.
На меня очень долго надевали комбинезон, сверху брезентовый, внутри ватный. Валенки я надел сам. Они были большие и обгорелые, кто-то до меня надевал их не раз.
Я шагнул в печь медленно, в полный рост, потом пригнулся и заспешил – предстояло сделать два шага или три шага, не больше.
Да, пламя лежало, но вблизи оно оказалось прежним – легким, не желтым, знойным. Таким, каким я управлял всегда.
Я опустился на колено, потом на бедро и на локоть и протянул руку. Справа ударило горячим ветром – голову отклонило набок. Это дуло из вентилятора.
Я протянул руку и наткнулся на болт, который надо было вынуть. Но лицо потянуло к горячему ветру вентилятора, дышать им было легче, чем плотным жаром. Я сделал короткий, как рывок, вдох. Медленно, придерживая губами воздух, выдохнул. Вторым вдохом едва не подавился, затрясся и – точно пламя выперхнул. Но все равно я мог бы еще раз протянуть руку…
Меня вытащили. Когда вытащили, я понял – куда там! – не смог бы. Придерживая с боков, меня вывели во двор.
Дония протянула бутылку с водой, и я стал пить. Вода была теплая.
– Пей помаленьку, – сказала Дония, – холодная. Я пойду туда.
– Иди, – проговорил я, и голос у меня оказался по-щенячьи жалобным.
Ничего страшного со мной не случилось; я не сделал того, что надо, и значит, еще кто-то должен полезть в печь. Из цеха вышел Анвер.
– Болт вынули? – спросил я. – Огонь потушили?
– Да, – ответил он. – Идем домой. Вид у тебя… в гроб краше кладут.
– Я бы, пожалуй, смог, – сказал я. Но он ничего не ответил.
Дорогу расхлябило – следы не проглядывались. Над нею утомленно курился теплый парок. Мне было жарко. Но когда мы подошли к реке, я почти с отвращением поглядел на воду. От нее исходило гнилое тягостное тепло.
– Матери ничего не говори, – сказал Анвер, когда мы перешли мостки и поднялись в гору.
Дома матери не оказалось, и я вспомнил, что у нее в больнице вечернее дежурство. В передней, на узкой и короткой кровати, подобрав колени к животу, спал дедушка.
В большой комнате лежал и курил Гумер.
– Ты встань, – сказал Анвер, – он вот ляжет, к окну поближе.
– Пускай ложится, – согласился Гумер, скидывая ноги на пол и садясь. – Ты что, заболел?
– Да, – ответил за меня Анвер, открывая окно и поправляя сплющенную подушку.
Когда ложился – не понимаю отчего, ни боли, ни особенной усталости я не чувствовал – вдруг простонал. Гумер стал надо мной и смотрел продолжительно.
– Ты выглядишь очень жалко, – сказал он, – как положительные герои в кино. А может, ты подвиг совершил и… красивая девушка, например, Дония – чем не героиня? – во все глаза смотрела на тебя?
– Пусть он отдыхает, – сказал Анвер, подойдя к Гумеру, – и… ну, ты этого не поймешь, – он усмехнулся. – У рабочего человека имеется гордость, и ты можешь схлопотать себе по морде.
Нет, пожалуй, я не смог бы дать ему по морде.
– Ты на меня не кричи, не кричи! – крикнул Гумер, и голос его стал как бы распадаться на разные голоса – то громкий, то шепотный, то густой, то визгливый. Он отодвинулся от меня и придвинулся к Анверу.
– Не кричи! Нам с тобой нечего делить… Твою рабочую гордость, что ли, делить?
Старший брат повернулся к Гумеру, спиной ко мне. Я видел только, как двинулась под тонкой рубашкой лопатка, и услышал как бы изумленный вскрик Гумера.
– Поднимайся, – сказал Анвер и ногой открыл дверь в переднюю. Я услышал из передней странные звуки, какие я никогда не слышал от деда – хриплые, жалобные, трудные звуки.
Гумер вскочил и, ступив на койку ногой, выпрыгнул в окно.
– Ты лежи, – сказал Анвер. – Ты лежи! – громко, строго повторил он, точно я спорил с ним, и, так же громко стуча сапогами, вышел из комнаты. За дверью сапоги его вдруг затихли, потоптались. Потом я услышал, как он пробежал мимо окна.
Я поднялся и, ступая на носках, направился в переднюю. Там был сумеречный полусвет. Дед сидел на краю кровати, прямо вытянув перед собой босые, в белых кальсонах, ноги. Белая бритая голова, острое черное лицо. Белая борода лежала на груди, на белой рубахе, и ее не было видно. Дедушка не шевелился.
– Дедушка! – испуганно, шепотом крикнул я.
– Кто ушел? – спросил он.
– Никто не ушел. Ты не волнуйся, – сказал я и откинул тяжелое ватное одеяло, чтобы сесть рядом. Что-то тускло блеснуло. Я протянул руку – это был кухонный нож. Почуяв ссору, дед, видно, спрятал нож, а потом понял, что он только спрятал нож, а предотвратить ссору все равно ему не под силу. И тогда он заплакал.
Он сидел тихо, не меняя положения, ни о чем больше не спрашивая. Успокаивать его было не нужно. Может быть, было нужно, но я не сумел бы сейчас объяснить, что никто не собирался делить дом, что дом нельзя, а если можно, то совсем не нужно делить. Что все, что произошло, произошло… из-за чего произошло? Из-за рабочей гордости? И я не последнее лицо в этой ссоре?..
13
Однажды, когда мы сдали смену и собирались домой, пришел Дударай и попросил не расходиться: будет разговор.
– А Василий Васильевич ушел, – сказал я, – может, догнать его?
– Не надо, – сказал Дударай.
– Тогда, может, и я пойду?
– Нет, ты останешься, – сказал Дударай.
Мы вышли из цеха и сели на стоявшую возле стены старую вагонетку.
Дударай оглядел всех, остановился на Паньке и, подумав, предложил слезть с вагонетки и сесть поближе. Панька пожал плечами, слез и, высоко поставив кирпич, сел против Дударая.
– Рассказывай, как дела.
– Да ничего, нормально, после ремонта особенно… – торопливо начал Панька.
– Ты не об этом, – перебил Дударай.
– О личном, что ли? – сразу догадался Панька. Он помолчал, не глядя ни на кого, потом решительно поднял глаза: – Мы разные люди… обидно. И ничего я не могу придумать… и жалко его.
– Вы родные люди, – сказал Дударай. Он поискал глазами Лизу, нашел ее и подозвал ближе. Она подошла, стала за спиной мужа, обняв себя худыми руками, и вздохнула:
– Я одна – что. Пусть он решает. Муж.
– Муж! – перебила Дония, и Лиза испуганно смолкла. – Ты что, так и будешь всю жизнь кивать на мужа?! Он решит, он посоветует, он и побьет!
– Паня и пальцем не тронул меня, – обиженно сказала Лиза.
Поднялся Анвер и, улыбаясь, шагнул к Донии, как бы одобряя, что она кричит на Лизу, и без того растерянную и жалкую.
– Давайте так, – все улыбаясь и оглядывая нас, начал Анвер, – вы придете к Василию Васильевичу…
Панька прикусил губу, качнул головой. Лиза вышла из-за спины мужа и придвинулась к Анверу.
– Свадьба у вас была? – спросил он.
– Не было, – шепотом ответила Лиза.
– Свадьба у вас была? Отвечай, Павел!
– Ну, не было, – сказал Панька.
– Придете и скажете, что у вас будет свадьба. Да у вас же и праздновать-то негде, а хорохоритесь. Отпразднуете у отца.
– А потом что? – насторожился Панька.
– Павел, пойми, – устало сказал Дударай, – человек одинок… а вы родные ему.
А Панька опять спросил!
– А дальше что? Как дальше?
– Надо так… – заговорил я, волнуясь, – надо помочь человеку до того, как ему станет совсем уж плохо. Вот! Я знаю Василия Васильевича… – Мало я его знал. – Я знаю его много лет, он никакой не куркуль.
…Стали расходиться. Я отстал, взял влево, где, невидная в ковылях, петляла забытая дорожка. На полпути к реке меня догнал Панька.
– Вообще-то, – сказал он смущенно, – вы придумали не совсем плохо.
Я не ответил. Я ничего не придумывал и ничего не решал. За Паньку, конечно, я рад, но я ничего не придумывал.
Панька шел рядом, и мне было не то стыдно чего-то, не то просто невесело.
Потом Панька сказал, что побежит, а то Лиза там одна.
– Ну ладно, – сказал я и постарался улыбнуться, протянул ему руку.
Панька побежал.
Я дошел до реки, оглянулся назад. Солнце упало за холм, и на камнях даже не оставалось его следов. Но небо было светлым, оно еще не меркло. Ясно и далеко видно было ковыли, они были тучные, белые и спокойные – ковыли августа.
Прежде уход лета я замечал лишь при виде желтого палого листа, холодного дождя и тяжелой посеревшей реки. А сейчас все еще был август, в реке, визжа, барахтались пацаны, но лето уходило.
Я не спешил ступить на мостки. Уходило тихое лето, в котором не было беды, не было большой печали, и не нажил врага, и не приобрел друга, и… ничего такого, как дедушкин шрам или жуткое спокойствие Шавкета-абы. Но предвестье всего, что отпущено мне, уже витало сентябрьским холодком в зыбком воздухе рано истекшего лета.







