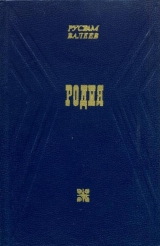
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Как только она кончила играть, я встал и направился к выходу. За мной вышел и мой приятель. Была уже ночь, все тот же лунный, серебряный сумрак, в котором отзвенело, однако, что-то вечернее, прежнее. Вышла она с подругой, приятель мой окликнул подругу, и та охотно, обрадованно шагнула было к нам, но вернулась, взяла ее за руку. Ничего другого не оставалось, как подойти к ним.
О чем говорили мы, гуляя той ночью? И хорошо ли было мне? Не помню. Помню только: я сдержан, взрослее и смотрю на былое как на давнее, почти детское. Она – тоже, несомненно, взрослая, спокойная, умная, чувствуется, что расположена ко мне. Но что она говорила? Что я отвечал? И что вообще было в тот вечер?
И почему никогда больше уже не встречался с нею?
Такой умиротворенной, нетревожной жизнью не жил я давно, и давно такими теплыми не были отношения в маленьком нашем семействе. Малыш окреп, загорел, бело-розовые следы ссадин на коленках только подчеркивали здоровую темную смуглоту его. Похорошела, помолодела его мать, и, когда смеялась, отбрасывая с посмуглевших плеч льняные легкие волосы, казалось: не было и не будет у меня женщины лучше и добрей, чем она.
Жили мы с женой в согласии, то, что был у нас малыш, делало наши отношения еще теплей, но всегда мне хотелось большего, может быть, несбыточного: чтобы и ее охватывало томление, когда мы говорили о моем городе, чтобы и она любила его, как любил я сам.
Потом, кажется, я понял: ведь все мои страхи, ревнивое, причиняющее боль волнение – все это происходит из-за малыша. В нем хотел бы я видеть наследника своих чувств, любви к тому родному и близкому, что зовется домом. А жена, с ее собственной жизнью, собственной памятью, могла что-то отнять…
Стали опять ездить на острова – я и малыш. Он вроде смирился уже с тем скучным, будничным, что ждало нас на каменистом этом острове, окруженном зеленоватой, болотно-теплой водой, – там, где омывало островок водохранилище, и темно-холодной, грузной – где лежал в глубокой скальной чаше омут. Малышу надоело гоняться за ящерицами, надоели бабочки – их было много, но все одинаковые, гусенично-зеленые, а пестрые почему-то не летали. И скудна была растительность, редкие кусты полыни и татарника не делали картины – картину составляло то серое, огромное, что было скалами.
Впрочем, скалы мне нравились. В яркий зной они словно бы голубели слегка, в сумерки темнели до черноты, а те куски гранита, на которые ложился последний отсвет заката, отливали густо-лиловым спекшимся цветом. Когда же хлестал по ним прямой холодно-кипящий ливень, скалы точно белели, напоминая голубовато-белые глыбы весеннего льда. Но малышу незаметны были эти превращения – созерцание было ему скучно, ему нужно было движение во всем, так же как и его крепенькому, юному, нетерпеливому телу.
Взял как-то малыша на кладбище.
Прежде за окраинными домиками сразу начиналось поле, над которым одиноко и темно маячила водокачка, а еще дальше, в полуверсте, густою рощей зеленело кладбище. Теперь же новые постройки шаг за шагом попирали степь, водокачка, принизившись, оказалась в улице между высокими, пока еще не заселенными, солнечно-пустыми домами. Ближе стало и кладбище.
Когда мы подошли совсем близко и стены поднялись над нами, подумалось, что в старину такими вот были городские стены и так же в глубокой нише стояли железные ворота, верх которых подымался плавным полукружьем, а низ терялся в желтоватой припыленной траве. Ворота давно уж, видать, не отворялись, крепко вдавились в землю, но щель в них была достаточной, и мы проникли на кладбище и оказались в таком зеленом, жарко звенящем запустении, что в первое мгновение недоуменно остановились. Старые большие стволы деревьев были облеплены лишайниками, они свисали даже с веток редкими сивыми клочьями. Ясно, вошли мы в старые, давно брошенные ворота, а главный въезд был где-то на противоположной стороне, неблизко отсюда.
Мы шли, оскальзываясь на гладких кустиках ковыля, обходили пыльно-каменные склепы, заросшие диким вишенником, бузиной и еще какими-то кустами, на которых в изобилии горели ярчайшие цветы. Над ними в вышине раскидистые карагачи то сгущали тени, то пропускали яркие узкие блики солнца, придавая цветам какую-то пульсирующую пестроту.
К нашему удивлению, среди этой пустынности и глубокой тишины мы увидели мужичонку, который тесаком рубил и отбрасывал хрустящие ветки, обвившие какой-то особенно древний склеп. Кто это был? Отпрыск некогда знаменитого рода, запомнивший могилу своих предков, или просто сторож, которому вменялось в обязанность наводить здесь порядок? Он слишком был занят своим делом, услышал нас, но даже не повернул головы.
Долго ходили мы возле обваливающихся, заросших по макушку склепов, меж кособоко стоявших плит, звенело в ушах – от жара, от звона кузнечиков, паутина облепляла потные наши лица. Наконец-то стали попадаться могилки посвежей, дорожки стали торней, чище – мы выходили к воротам. Малыш притомился, уныло и покорно молчал. Я стал было его подбадривать, а он вдруг поднял глаза и спросил:
– А тебя… а нас тоже похоронят здесь?
Хотелось сказать: «Меня-то уж наверняка», – но я засмеялся нарочно и ответил:
– Здесь хоронили только принцев.
Он ничего мне не ответил, явно томясь жарой, усталостью, этой тишиной и покоем, которые были ему непонятны, не нужны, а я, наверное, только пугал его своим молчанием и задумчивостью…
А возвращаясь домой, возле водокачки встретили дядю Тауфика. В белой полотняной рубахе с завернутыми до локтей рукавами, в кепке, в холщовых брюках и легких сандалиях – он был подтянут, свеж лицом, блеском коричнево-темных глаз. Тут же подхватил малыша на руки, высоко, с какою-то молодой легкостью подбросил вверх, затем, прижав к себе, понес. Ветер тихонько подувал нам в спину, мягко холодил. Солнце склонялось за полдень, и впереди, в широкой и прямой улице, уже лежала тень на тротуаре, а мостовая еще белела от пыли и солнца.
Дядя Тауфик опустил малыша наземь и взял его за руку. Затем, склонившись ко мне и тихонько смеясь, сказал:
– Был у чемоданщика Фасхи, помнишь старика? Решил помянуть родичей и позвал меня – зарезать валуха. В молодости я завидовал Идрису, его всегда звали резать скотину. А меня даже в помощники не брали – куда, дескать, такому заморышу. – Опять он засмеялся, расправил плечи. – Зарезал валуха, ободрал, Фасхи глазом не успел моргнуть. А потом дай, думаю, пройдусь. Искупался, поплавал. Вот иду…
Дедушка так же вот удивлял меня каким-нибудь умением, которое сказывалось как бы случайно. Помню, у соседки, одинокой старухи, обвалился очаг, и она позвала дедушку – подправить хоть немного. А дедушка намесил глины, перемешал ее с навозом и сложил очаг наново. Или, бывало, занедужит у кого-нибудь скотина – опять к дедушке: что делать? И дедушка шел, нес хранимые впрок какие-то хитрые снадобья.
– Скоро сабантуй, – говорил между тем дядя Тауфик, – оставайтесь поглядеть. А может, бороться выйдешь? Я, бывало, боролся. Ах, какие праздники были в деревне у нас! Но особенно помню вот что: уже вечером, после гуляния, парни уводили девушек высоко на меловые кручи. Сидят парами, разговаривают вполголоса. А снизу, с улицы, слышен каждый звук… такая тишина, такой особенный воздух…
Июль подходил к концу, вода цвела, и река у берегов была зеленей, чем заросли тальника у воды. Уходило лето и уже рождало воспоминания о прошлых летних днях, столь же хороших, как эти.
Хороших или нет, не знаю, но было одно памятное лето, когда я – взрослый уже, незадолго до женитьбы – встретился со своими сверстниками. Собрала у себя Мирка Кузнецова, когда-то учившаяся в параллельном классе с той девочкой. Отправив двух своих мальчуганов к бабушке, Мирка решила: «Будем, братцы, пить и веселиться. За девятую школу, за одиннадцатую! За нашу пионерскую дружбу с Андреем!» И, слушая ее, стеснительно улыбался Андрей, действительно друг, шкальная и послешкольная любовь Мирки, тоже давно уж семьянин, приехавший в Кёнкалу после долгого отсутствия.
С Миркой вдвоем в сенцах жарили они картошку на керосинке, женщины наши готовили стол, а я перебирал пластинки – Мирка поручила: «Подбери что-нибудь получше, будем танцевать». Среди пластинок попалась вдруг одна – «Красивая девочка Лида», и я с замирающим сердцем, воровато зачем-то оглядываясь, спрятал ее среди книг на полке. А когда выпили, отвели душу в сумбурных, витиеватых тостах, когда все мы, продолжая будто бы хранить единство застолья, а на самом деле давно уже отделив, оставив как бы наедине Мирку и Андрея, сидели, приятно томясь, – я достал заветную ту пластинку и поставил. Хороши были стихи, которые давно я любил, и хороша была песенка, и слышал я ее впервые.
С какою-то ненасытностью, раз за разом, ставил и ставил я пластинку, и почему-то долго никто этого не замечал. Наконец Мирка подняла глаза и в упор спросила:
– Ты что? Тебе не надоело? – И вдруг усмехнулась так горько, так понимающе: – А-а, Лидка, Лидка!.. – И крикнула, внезапно и хмельно веселея: – Давай выпьем… за что? Предлагай!
– Не знаю, – ответил я. – Разве что так просто, ни за что. – И, не дожидаясь никого, выпил и тут же пожалел о своей поспешности. Захотелось сказать что-нибудь горячее, от души идущее, чтобы проняло до слез. И я заговорил. О том, что когда-то любил встречать на улице ее маму, отца, ее дедушку, а сегодня смотрю на всех, кто здесь, и всех люблю за то, что они знали ее и она знала их. И очень удивился, даже обиделся, когда они рассмеялись. Но минутой позже и сам уже смеялся и понимал, что ни о чем сокровенном сказать словами не смогу…
В тот вечер я, наверное, был счастливей, чем Мирка и Андрей: я не знал ее теперешней, не знал ее теперешних забот, ее, может быть, ошибок, – всего, чем жизнь уже разделила нас, наверное, навсегда. У них была веселость и даже радость, от которой на завтра останется только привкус горечи. А мне было и грустно, и лучше с моей только памятью, да вот еще с песенкой про красивую девочку Лиду, и все это было неподвластно ничему сегодняшнему.
С каким-то стыдливым, но таким приятным упоением отдавался я сну, а проснувшись, радовался, что и жена и малыш еще спят, – дни опьяняли нас прогулками, купанием, едой, неспешными разговорами, да и просто созерцанием. Но однажды ночью, уж не знаю по какому наитию, очнулся я за минуту до того, как закашлялся малыш. Очнулся, будто и не спал, вслушался в глухую полночную тишину – и тут он закашлялся, завозился и проснулся с хрипящим плачем.
Когда я зажег свет, он сидел в постели уже не плача, как бы удивляясь и смиряясь с тем, что кашель никак не оставляет его в покое. Но снова захрипел, стал открытым ртом ловить воздух, упал на руки матери, подбежавшей к его постели. Я снял с окна ставень (они в нижнем этаже ставились изнутри), раскрыл створки. Потек прохладный, с речными запахами воздух, приглушенно зазвучали лягушачьи трели.
Пока жена кипятила на плитке молоко, я сидел, обняв малыша и прикачивая.
– Папа, это какая птица? Сова?
– Нет, – сказал я, – это лягушки.
– А я думал, сова. Ведь ночью летают совы?
– Да, – сказал я, – только в лесу.
– А еще кто летает ночью?
– Ночью? Наверно, драконы.
– Драконы? – Он широко раскрыл теперь уже совсем несонные глаза, глянул на темное окно. Как трогательно в них смешались и страх, и небоязнь, и недоверие, и желание поверить в чудесных, пусть хоть и страшных драконов.
Мать тем временем принесла ему молока, он не хотел пить, видно было по лицу, но послушно стал отхлебывать, с каждым разом все поспешнее, чтобы поскорее покончить с неприятным делом. Это вот смирение, привыкание, что ли, к своему состоянию, больше всего трогало меня, вызывало горькую жалость.
Я встал и закрыл окно, задернул занавеску. Затем потушил свет.
– Бабушка проснулась, – сказал малыш, опять забираясь ко мне на колени. И правда, пол наверху поскрипывал, потолок наш отзывался шуршащими, какими-то очень домашними звуками – наверно, из пазов сыпалась труха. – Бабушка там ходит, – опять он заговорил, – ходит и ходит. А мама спит? Ну, мы с тобой посидим. Да ты ведь тоже спишь!
– Нет, я не сплю, – шепнул я и прижался губами к его щеке.
Светало. Мать наша спала, малыш притих у меня на руках, задумавшись о чем-то своем. Быть может, его смущала, удерживала тишина раннего рассвета. Я чувствовал себя то бодрым и ясным, то отдавался дреме, которая, однако, ничуть не мешала мне слышать звуки утра и думать. А думал я об одном старом письме, вот уже тридцать лет лежащем среди бумаг в ящичке комода там, на верхнем этаже, откуда доносились шаги матери. Письмо это было писано неким лейтенантом Ломовым, было последней весточкой об отце, о последних его минутах, о том, как его, раненого, несли в санбат и он скончался прежде, чем его донесли. Кажется, мне чудилось, как несут его на плащ-палатке, как тяжело нести живого, еще и оттого так тяжело, что надо осторожно ступать, немеют руки, срывается дыхание… Я очнулся, пошевелил онемевшей рукой, но не сдвинул ее – на ней спал мой малыш. Другой рукой я вытер лицо, мокрое от слез.
Малыша можно было и положить в постель, он спал своим утренним крепким сном, но я только переложил его с одного своего плеча на другое и теснее прижал к себе. Лицо мое не просыхало, может быть, я все еще продолжал плакать, но теперь меня охватило такое счастье, какого я не знал, наверное, никогда.
Все для ребят
1
Он эту Зойку на вокзале встретил.
А что он делал на вокзале в двенадцать-то часов ночи? Может, не допил и примчался из Першина на такси – прихватить в ресторане бутылку вина? Не-е-ет, он, чудак, слышал от Гайнуллина, что Кот из Троицка, возможно, проедет к себе в часть после отпуска.
Кот – некий Бойко, прозванный так за усики. Он, этот Бойко, работал прежде у Миши в бригаде, а потом ушел в армию. И вот Гайнуллин, оказывается, встретил Кота в поезде – тот ехал в Троицк к матери; он будто бы сказал Гайнуллину: дескать, отслужу и вернусь, может быть, в бригаду Борейкина.
Вот это «может быть» и смутило Мишу Борейкина, и, хотя Коту еще целый год служить, он решил встретить его на вокзале и покрепче связать этой встречей, разговором и быть уверенным, что Кот вернется через год непременно к нему в бригаду.
Кота он, конечно, не встретил, а встретил Зойку.
Она, чернавка такая, сидела себе и совсем не старалась стушеваться где-нибудь в тени. Она сидела в просторном зале из стекла и бетона, обогретом скрытыми в стенах радиаторами водяного отопления, освещенном неонами, в просторном зале с шикарными скамьями-креслами, с телефонными будками, из которых, хочешь – звони на квартиру другу в Першино, хочешь – в Иркутск или Москву. Одежда на ней была довольно жалкая на этом замечательном фоне, но вид у нее был не то чтобы заносчивый, но полный достоинства, даже не достоинства, может, а некой надежды: что, мол, все до поры до времени, и если сегодня она в жеваном пальтишке и латаных пимах с загнутыми вверх носками и в худой цветастой шали, то завтра все может обернуться по-другому; и если сегодня она грызет жесткий пряник и запивает его кипяточком из кружки, то завтра она, может, в ресторане станет эскалоп кушать и пить шампанское.
Но когда он направился к ней и она это заметила – так я себе представляю картину: сперва она зыркнула вострыми глазками на него, а затем притуманила их невесело, а когда он приблизился, то была она будто казанская сирота – вот, дескать, схлопотала себе по дурости несчастье, а теперь каюсь, но поделать ничего не могу. Эх ты, бедолага, подумал, наверно, он. Он (уж это наверняка) сказал: как это, дескать, так – в то время, когда молодежь с песнями уезжает строить города и заводы, ты сидишь в таком несчастном виде? Может, она вздохнула, может, заплакала, может, к черту его послала.
Но он-то говорит, будто бы она сразу ему сказала: «Я бы тоже хотела на ударную стройку». Могу дать голову на отсечение, что эти слова она сказала после того, как узнала, что он – бригадир плотников и строит стан «1050» и кислородно-конверторный цех.
Ему, я думаю, не пришлось особенно ее улещать.
Я себе вообразить не могу, как это он, скромник такой, отважился заговорить с ней. Он и сам признавался: как это я заговорил с ней – не знаю. Но то, что он этой иззябшей пичужке сказал: «Я вот на ударной стройке работаю», – это я могу вообразить картинно. И то, как она поспешно ему ответила: «Я бы тоже хотела на ударную стройку». В общем, он взял такси, посадил ее с собой и – поехали в Першино.
Да как, спрашивал я, мать-то приняла вас, не лишилась ли чувств Александра Степановна? Ведь ты, старый хрыч, неженатый, а у вас две комнаты, кроме кухни, и ты приводишь темной ночью несовершеннолетнюю смазливую пичужку. Фу, да ведь он не только не юбочник, он глядеть-то на девок смущается; уж Александра Степановна знает своего скромника, уж она не подумала, что он хаху привез темной ночью. Она, может, порадовалась еще, что сын в этаком смысле становится решительней и, возможно, женится. Возможно, не на этой пичужке, а на другой, но, может быть, и на этой.
Он и меня подобрал, когда моя жизнь катилась прямо в тартарары, когда с одной бабенкой челябинской разошлись наши пути и тронулся я в тоске и равнодушии куда глаза глядят, да застрял в Новокузнецке, когда загулял-закручинился, когда в подзаборника, считай, превратился, – вот тогда он мне и встретился, вернее, я кольнул ему глаза своим замызганным обличьем, и он остановился…
А я только-только вывернулся из-за угла, где хлебнул из горлышка законную свою треть. Вижу, парень с красной повязкой на рукаве, глаза очень суровые, а за ним соратников человек шесть, здоровые хлопцы. Ну, думаю, хана мне пришла! И завихлялся я, как паскудный актеришка. С девяносто пятой, говорю, оси начал и приближаюсь к сто десятой, откр-р-рывается, говорю, фронт работ для электромонтажа… А самого мотает из стороны в сторону. Он ребятам своим показывает, чтобы дальше двигались, а сам подвинулся ко мне и смотрит проницательно. Ты, говорит, ты… плотник? А ну-ка, пошли!
Идем – он бритый, причесанный, в пиджаке подбористом хорошего материала, а я такой забулдыжный, нестойкий на ногах, помахиваю наверченной на руку нейлоновой сорочкой, той самой, дорогой моей, с которой пылиночки сдувал, когда гулять, бывало, собирался с той челябинской; я тут ее продать сготовился – и по необходимости, и потому еще, чтобы не подумали, будто я ее стибрил у порядочного человека.
Короче, в тот вечер он привел меня к себе и велел спать, а наутро я просыпаюсь от жажды, со стыдом и разочарованием, и вижу: на столе завтрак готов, графинчик домашненькой стоит, а на спинке стула висит моя нейлоновая сорочка, как новенькая.
Завтракаем, оживел я от домашненькой, в зеркало взглядываю: этакая опухшая харя торчит над ослепительно чистой нейлоновой сорочкой.
– Цель жизни, – говорю, – потерял.
– Ничего, – говорит, – в руки себя надо взять.
– Сам-то деревенский, – спрашивает мать, – или городской?
– Городской, – говорю. – А цель, с целью у меня как будет?
Подумав, он говорит:
– В школу мастеров пойдешь учиться?
Вот так он меня подобрал и сказал, что надо в руки себя взять, и с целью, сказал, нормально будет, и хотя уточнить не мог, но в лице и фигуре видна была большая прочность и уверенность. А я уж так ослаб от душевного запустения, так развихлялся от непрочности, что без Миши Борейкина, может, и не поднялся бы.
2
За десять лет кочевой жизни надоест и еда всухомятку, и казенный порядок коридоров и комнат в общежитии; за десять лет в душе у тебя может накопиться тоска по домику с половиками, занавесочками на окнах, салфеточками по стенкам. Как на праздник приходил я к Мише: жар исходит от печки, щами пахнет, чистенькая старушка-хлопотунья набивает тебе чай из самовара, угощает вареньями и печеньями; сидишь себе, чай пьешь и слушаешь, как сверчок за печкой сверчит.
Вот в какое благо попала Зойка.
Любопытно было поглядеть на нее в этих условиях, и я без промедления отправился к Борейкиным. Вошел и увидел такое блистание, такой чистоты воздух вдохнул, что, ей-богу, заныло у меня под ложечкой от той, удесятерившейся теперь тоски. Александра Степановна сидела в креслице ублаготворенная, будто только-только явилась с освященными куличами. Сама Зойка – так она расцвела от печного жара, от хлопот от сознания собственного усердия и умения; и еще, может быть, оттого, что та ее надежда, та уверенность, что завтра все может обернуться по-другому, столь чудесно оправдалась.
– Проходи, Анатолий, садись, – сказала Александра Степановна, – Михаил скоро будет. – Зойке она сказала: – Ты ему чаю налей, ясочка. – И Зойка мне чаю налила и поставила варенье, сама как-то особенно, как-то тайно взглядывает на Александру Степановну.
– Рассказывай, ясочка…
– Папаня пришел в сорок пятом. Потом Федя с Гришей родились. А я в пятидесятом. Маманя еще не хворая была.
– Это когда налоги были, тогда ты родилась, – говорит Александра Степановна.
– Ну, наверно, когда налоги были… Я как-то, как стала понимать, маманю чахлой, тихой помню, как плачет, как говорит: сиротой, дочка, останешься…
– Это уж когда коровам рога спиливали, – говорит Александра Степановна. – Когда из институтов советовали коров без привязи держать, тогда и начали, бедным, рога спиливать.
– Не знаю я, тетя Шура. Рассказывать?
– Рассказывай, ясочка.
– Болела неспокойно, стонала все и плакала, а померла спокойно. Папаня, памятно, трактор у ворот поставил, обедать сели. А как встали… папаня еще спрашивает: уснула, что ль, мамка?.. Вот, тетя Шура, мне двенадцать лет было…
– Это как раз когда выпаса распахивали и кукурузу сеяли, – говорит Александра Степановна.
– Не знаю, тетя Шура. А вы как знаете?
– Я всю жизнь деревенская, – отвечает Александра Степановна, – даром что с сорок седьмого не живу там. Рассказывай…
Зойка глубоко вздохнула, глаза ее увлажнились.
– Про мачеху? Про нее рассказывать – только себя расстраивать, тетя Шура. У других, смотришь, мачеха как мать родная, все понимает. А она прям лютая… Я ей и стирать, и убирать, и дитенка ее качать, а она, шептуха такая, только сплетничать да красоту наводить. А щедривая вся, никакая пудра не спрячет. Мучилась я, мучилась… господи, думаю, хоть бы кто посватался, что ли! Уж, думаю, чиниться бы не стала, только бы уйти от такой жизни, когда тебя унижают. Подумаю так – и слезами изольюсь: какая я невеста, когда у других полсапожки, а у меня пимы, как лыжи, загнулись…
Александра Степановна вздыхает, Зойка вздыхает, я чай пью – положеньице! Тут, хорошо, Михаил пришел.
– О чем разговор? – спросил он, глядя пристально на мать и Зойку. – Опять ты, мама, жалобные разговоры ведешь? Ни к чему это все. – Он разделся и сел к столу. Зойка ему чай стала наливать. Александра Степановна молчит.
– Так, – говорит Зойка почти весело, – так, о жизни прошлой вспоминала. Вот, например, мне восемнадцать лет, возраст комсомольский, а где силы применить – не найдешь. Вон по радио слушаешь иной раз – такие дела молодежь делает!
– Ну вот, – сказал Миша, – и у тебя будет ударное дело. Чего искала, ты найдешь, Зойка, у нас. Будешь работать, в школу рабочей молодежи поступишь, а потом в техникум.
Зойка взволнованно говорит:
– Спасибо, Миша, не посрамлю.
– Ты учти, Зойка, у нас есть все возможности, чтобы ты свои способности употребила, будешь человеком. Мы тебя в общежитие устроим, научишься в коллективе жить.
– Научусь, – говорит Зойка.
– Я думаю, краснеть за тебя не придется.
Александра Степановна стала головой качать, – такая укоризна, такая грусть была в том, как она качает седой головой.
– Ох, Мишенька, зачем ты ее туда? Ей чего не вернуться в деревню? Выпаса счас хорошие, машин много.
Миша побледнел даже, так это ему не понравилось.
– При чем тут выпаса, мама?
– Выпаса хорошие, строют много. Тебе, такому мастеру, в самый раз…
– При чем тут я? – удивляется и пуще сердится Миша. – При чем тут я?
– Что уж, я перед смертушкой и не поживу в деревне?
Миша смутился.
– Ну, не знаю. Я про себя могу сказать… Ну, какой я, мама, деревенский?
– На-поди, какие мы городские! – говорит Александра Степановна. – Зря ты ее в общежитие прогоняешь.
Я вижу, Зойка растерялась. Однако нашлась-таки, сказала:
– Ну и что, что в общежитие! Я буду каждый вечер приходить, тетя Шура, и мыть у вас полы.
3
Так вот он сказал, что здесь она найдет то, чего искала. По правде-то, я, да и он, наверно, не знали, чего она ищет, но он, пожалуй, был уверен, что всегда ей и во сне снилась, и наяву мерещилась ударная стройка…
Вот уж две недели Зойка работала в бригаде и действовала шустро, весело, но из рамок не выходила – во всяком случае, об этом я сужу по тому, что ни разу не слышал, чтобы он прищучивал ее.
В бригаде сплошь мужики да парни, и работенка такая, что иной парнишка, глядишь, постанывает к вечеру – так намашется топориком. Куда уж тут девчонке! Стала она хозяйкой в нашем домике (такие домики имела каждая бригада, и стояли они неподалеку от стана, который мы строили; там инструменты хранили, рабочую одежду, бегали греться, обедали, в домино стучали). Она скребла там и чистила, и занавески исхитрилась добыть на оконце, и скатерку на столик выпросила, видать, у Александры Степановны; и домино, и шахматы не стали теряться, всегда в полном комплекте, в порядочке – пожалуйста, играй, кому охота; и за обедами ходила в столовую. Словом, она стала хозяйкой, и это бригаде нравилось. А чтобы она не скисла от такой обыденщины, Миша находил время просвещать ее насчет того, что работает она на ударной стройке, о которой каждый день пишут в газетах, и областное радио в последних известиях сообщает сперва о работах на стане «1050».
Ну, пришлась она, как говорится, ко двору, и отношения с людьми складывались у нее хорошо. Сблизилась она с девчонками из других бригад и не белой вороной оказалась среди них. Одевалась, как все, а если что новое и редкое появлялось в одежде у других, так она, чутьистая, быстро схватывала ту новизну и – то юбочку урежет, согласно моде, то кофточку сумеет приобрести нужной расцветки.
Мы старались на виду ее держать, точнее, Миша, – он как-то говорит мне очень озабоченно: мол, того… как она там поживает… проведать. Вот еще, отвечаю я, как все поживают, так и она, утром веселая приходит. Еще раз как-то он говорит: мол, того… как… Да иди ты, говорю, сам, если охота. Да ходил, говорит. Ну и как, спрашиваю. Ничего, отвечает. И краснеет! Нет-нет, говорю, ты еще раз сходи, народ там теплый, в этих общежитиях, как бы не научили поздно домой приходить…
Говорю я словами игривыми, с намеками солеными, треплются те словечки, как по ветру пена, а изнутри как бы текут чистой водой душевные, почти ласковые слова: «Миша, дорогой мой товарищ, пойди к ней, пойди. Поймет она тебя, и, может, сердце ее забьется навстречу твоему. Вот и взойдет над твоими заботами радость, товарищ мой дорогой!» Больно уж скромный он был по женской части. Я искренно сочувствовал товарищу и желал ему успехов и счастья, когда он про Зойку, краснея, заговаривал…
Ну, Зойка, значит, хорошо ужилась в бригаде. С кладовщиком Бабушкиным у нее сложились забавные отношения; и я долго наблюдал за теми отношениями – любопытно мне было и странно.
Однажды сижу я у Бабушкина в кладовке. Вдруг Зойка влетает.
– Тряпку, – говорит, – мне надо, Иван Емельянович.
Бабушкин буркнул:
– Нет у меня тряпки.
– Мне полы мыть, рвань какую-нибудь.
Бабушкин опять буркнул:
– Рвани на складе сроду не бывало.
– Ну, не рвань – тряпку, тряпку!..
А Бабушкин свое: нет, и все!
Он говорит «нет», но всем известно, что тряпки есть. Постояла Зойка, поусмехалась ядовито, а потом говорит:
– Дрожите над барахлом!
– Дал бы, – говорю, – тряпок ей.
– Не жалко, – отвечает Бабушкин, – только бригадир не велит баловать. Указание такое.
– Уж не насчет ли тряпок указание?
– До пойми ты, – чуть не плачет Бабушкин, – не велит он баловать, не велит!..
Зойка здорово обозлилась на Бабушкина после того случая. Она не упускала момента, чтобы высмеять его: за глаза, конечно. Я уж думал, ничто не примирит ее с кладовщиком. Но вот тут-то она и удивила меня.
Дело в том, что мой напарник Чубуров был разгильдяй и прогульщик, и Миша мучился с ним с самой осени, то есть с той поры, как тот пришел в бригаду после ГПТУ. То опоздает на работу, то совсем не явится. И каждый раз Миша толкует ему о чести бригады, о том, что коллектив держит переходящее знамя, что в коллективе имеются орденоносцы, и прочее-прочее. У меня сердце болело при виде страданий Миши и бесполезности его внушений.
И вот как-то я говорю Чубурову:
– Идем-ка.
Зашли мы за домик.
– Будешь прогуливать?
Молчит.
Я схлестнул с него шапку, а потом смазал разика два по толстым щекам. Я больше и не стал бы его бить, на этом бы все кончилось, и я послал бы его к чертовой матери. Вдруг – Бабушкин. Короче, повел он меня в домик для разговора. Зойка там прибиралась. Стал он меня отчитывать, я во всем соглашаюсь. Я, говорю, согласен, но другие меры не помогают. Я, говорю, согласен, но тут особый случай.
И вдруг Зойка напустилась на меня: ты, кричит, не валяй дурака! Тебе Иван Емельяныч дело толкует, и все он правильно понимает, потому что большую и содержательную жизнь прожил. А ты слушай внимательно, может, поумнеешь. И пошла, и пошла. Я только глаза таращу, на Бабушкина с интересом взглядываю: вижу, довольный он сидит, больше того – вижу, умаслила его Зойка.
А в один прекрасный вечер собрались мы после смены в домике. Бабушкин рассказывает о том времени, когда он, комсомольцем еще, служил в частях особого назначения.
– После того сообщения подняли наш отряд, и выехали мы из города, заняли оборону. В лесу, на заимке. Морозы лютые стояли. Двое съездили в ближнее село, баранью тушу привезли и самогону. Сварили мы тушу, выпили самогону, разговоры горячие пошли о врагах мировой революции. А под утро от выстрелов просыпаемся: оказывается, другой наш пост заметил с вечера, что на заимке пир горой, бандиты, думают, – и дали знать основным частям в городе… Свои-то окружили нас и арестовали…
Миша говорит строго:
– Вы бы, Иван Емельяныч, лучше о положительных эпизодах рассказывали. От таких воспоминаний для молодежи пользы мало.
Бабушкин, конечно, нашел бы что ответить, но тут Зойка заговорила:
– Не обязательно только про положительные эпизоды, Миша, а про все интересно знать. И даже нужно, чтобы молодежь не повторяла ошибок и имела революционную бдительность. А Иван Емельяныч очень интересно рассказывает, и мы его слушаем с удовольствием.
Какой бы человек ни был строгий, ему приятно, когда его поддерживают. И Бабушкину стало приятно, я заметил – этакая ухмылка появилась у него на губах…







