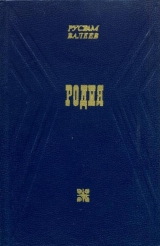
Текст книги "Родня"
Автор книги: Рустам Валеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
Дедушка даже не глянул на меня. Мне хотелось чем-то помочь ему, и я добавил:
– Я сказал, чтобы рыбу сушить и чтобы тепло было…
– Ладно, – сказал дедушка, – ладно.
Он все шаркал по полу чувяками, но мало-помалу то горестное шарканье сменилось быстрым и резким. Наконец он сбросил чувяки, решительно переоделся в ичиги.
– А ну! – крикнул он бабушке. – Давай-ка, пока печь не остыла… – И, не договорив, стал носить из другой комнаты колодки с натянутыми на них шапками. Он сажал их в печь, и лицо его было горестным и решительным, будто он делал что-то такое, что спасло бы его или оправдало.
В первое же воскресенье дедушку поймали на базаре. Узнав об этом, бабушка тотчас же надела новое платье, взяла диплом отца и отправилась в милицию. Ей, кажется, не пришлось показывать диплом – отца в городе хорошо знали и помнили, а следователь, возможно, был его учеником. К тому же суконные шапки из овчины не вызвали острого интереса милиции. Дедушке, говорят, сказали: «Что, бабай, будешь шить шапки?» А дедушка не ответил, и следователь будто бы сказал: «Ну что ж, если не будешь шить…» – и отпустил дедушку.
Он, конечно, и после этого продолжал шить шапки, но милиция его не трогала пока.
А вскоре у нас опять появился фининспектор.
– Давненько у вас не был, – сказал он приветливо. – Не помешал?
Дедушка не ответил на вопрос и вежливо попросил гостя в большую комнату, и тот сразу же согласился и даже хотел снять сапоги у порога, но дедушка запретил, и они прошли в большую комнату.
– Чаю, – сказал дедушка, и бабушка стала раздувать самовар.
Я во все глаза смотрел на гостя, и противоречия мучили меня: он был так притягателен своей почти военной одеждой и четкой выправкой, китель так хорошо облегал его, сапоги сияли. И в то же время я должен был ненавидеть его за тревогу и страх, которые поселились в нашем доме с его появлением.
Он был все так же изящен и ловок, как и в тот раз, но казалось, что теперь ему это хуже удается: вот он, пробираясь на почетное – для гостей – место, задевает стол и стулья, а на сундук, покрытый ковриком, садится так, что сундук скрипит; вот он берет пиалу обеими руками, и она чуть не выскальзывает у него. Казалось, что он намеренно не хотел той, прежней четкости, хотел быть проще, доступнее, что ли.
– Мы ведь и не познакомились, – сказал он, смущенно улыбаясь. – Меня зовут Анатолий. А вас я буду называть дедушкой. Не возражаете?
– Можно. Пожалуйста, – сказал дедушка.
Они долго пили чай, причем Анатолий не отставал от дедушки, правда, иногда морщился: он, кажется, не привык пить такой крепкий чай.
– Я о вашем зяте слышал много хорошего, – сказал Анатолий. – Он ведь был директором школы? Его знает, оказывается, весь город. – Он помолчал. – Вас, между прочим, тоже хорошо знают.
– Город маленький, знают, – скромно ответил дедушка.
– Вы, наверно, тоже многих знаете… Николаева не помните, фининспектором был до войны?
Дедушка чуть заметно пожал плечами и не ответил.
– О нем столько рассказывают! Вот он идет по слободке, просто прогуливается. Но замечает: шторки на всех окнах одной и той же расцветки. Ага, значит, в слободке кто-то промышляет шторками!..
– Хитрый был парень, – отозвался дедушка. – Да ты пей чай.
Но Анатолию было уже не до чая, он с увлечением продолжал:
– Он был справедливый и честный. Он зря не обижал людей. Например, кустарь-шапочник не имеет права шить и торговать. Но если он на товарищеских началах, то есть из материала заказчика шьет шапку – пожалуйста, это не преследуется законом… А вот шали вязать совсем запрещено, даже на товарищеских началах.
– Почему? – вдруг спросил дедушка. Он не проявлял особого интереса к разговору, а тут спросил.
– Нельзя, – вроде бы с сожалением ответил Анатолий.
– Почему? – опять спросил дедушка.
– Нельзя, – ответил опять Анатолий и вздохнул. – Закон. А вы помните, сколько лошадников было в городе? – спросил он, оживляясь. – Говорят, хоть пруд пруди. И каждый промышлял сам по себе.
– Да, – вяло отозвался дедушка, – потом их в артель собрали.
– Еще какая артель! Она обеспечивала гужевым транспортом мясокомбинат, мыловаренный завод, заготконтору. Лошадники, заметьте, получали законную зарплату. А кто был инициатором создания артели? Николаев!
– Нету теперь артели, – сказал дедушка.
– А пимокатная фабрика «Смычка»? Двадцать лет назад при содействии Николаева кустари-пимокаты были объединены в артель «Смычка». Когда-нибудь фабрике присвоят имя ее организатора, фининспектора Николаева.
– Ты еще молодой, – сказал вдруг дедушка.
– Да уж четвертый десяток, – сказал Анатолий и покраснел. – Конечно, опыт не сразу приходит… – Он все гуще краснел, и если бы он не смутился так, он ни за что бы не задал вопроса, прозвучавшего неожиданно и после которого он смутился еще сильнее: – А вы не надумали, дедушка, бросить шить шапки?
Дедушка глянул на него насмешливо и не стал отвечать.
5
Я не могу в точности сказать, как относились к дедушке в городе, где он жил долгие годы, – во всяком случае, когда меня называли «мальчонка шапочника», никакого пренебрежения или насмешки я не чувствовал. Но в то время, о котором идет рассказ, жители Заречья стали относиться к дедушке хуже. Произошло это из-за огорода. Дело в том, что жители нашей улицы решили коллективно раскорчевать под огороды участок на берегу, поросший густым жестким кустарником. Нам тоже предложили участвовать в этом деле, но дедушка отказался. Да кто бы из нашей семьи стал заниматься тем огородом? Дедушка? Но если бы он занялся огородом, то не смог бы шить шапки, то есть перестал бы добывать нам еду; а бабушке и так хватало забот с нами. Это, конечно, и соседи понимали, может, поэтому ни действием, ни словом дедушку не осудили. Но какие-то разговоры, видимо, шли, и мальчишки стали смеяться надо мной и братом:
– Они, ха-ха, покупают овощи на базаре!
– Ну и что, – отвечал я, – и правда, дедушка покупает овощи на базаре. Ну и что?
– Ха-ха! – смеялись мальчишки. – Они покупают овощи на базаре и они говорят: ну и что? Ха-ха!
Но даже ребята перестали смеяться над тем, что мы едим овощи с базара, когда мы получили известие, что погиб отец; тогда соседи заходили к нам и долго сидели возле бабушки.
Помните, у дедушки был разговор о шапке и валенках? Сперва с дядей Ахмедом, а потом с пимокатом Семеном. Так вот, пимокат Семен принес дедушке новые, остро пахнущие валенки, а дедушка отдал ему замечательную шапку – такие он вообще не шил или шил, может быть, в лучшие времена: с кожаным верхом, с ушами из каракуля. Но он долго не решался вручить те валенки дяде Ахмеду: ведь дядя Ахмед такой гордый человек; к тому же в истории с огородом дядя Ахмед был на стороне соседей.
Наконец он пригласил дядю Ахмеда к нам.
– Ты хорошо знал моего зятя, Ахмед?
– Как-никак… ни с кем другим я в бильярд не играл, – ответил дядя Ахмед. – Он, бывало…
Дедушка перебил его:
– Тебе известно, что мой зять не одобрял моего ремесла?
– Это мне известно, – ответил дядя Ахмед.
– Если бы ему скатали новые валенки, а валенки оказались бы или велики, или малы, как ты думаешь, Ахмед, он понес бы их на базар?
– Ни за что в жизни! – горячо ответил дядя Ахмед.
– Но, может быть, он меня послал бы продавать те валенки?
– Твой зять не послал бы тебя на базар.
– Так вот могу ли я оскорбить его намять и нести на базар валенки, которые предназначались ему? Ты молчишь, Ахмед? Почему ты не отвечаешь, разве я говорю неправду?
– Нет, ты говоришь правду, Ибрай-абы, – сказал дядя Ахмед. – Но я хочу спросить тебя…
– Спрашивай, – сказал дедушка и настороженно придвинулся к дяде Ахмеду.
– Почему ты теперь, не зная покоя, шьешь шапки? Может, потому, что теперь зять не мешает тебе?
Лицо дедушки сразу осунулось, глаза стали яркими, он заговорил горячо, почти исступленно:
– Это мой долг, Ахмед. Я выполняю его. Разве дети моего зятя голодают и зябнут? – Он помолчал. – Э-э, Ахмед, не знаешь ты, какие шапки я мог бы шить!
– Все выполняют свой долг, – сказал дядя Ахмед. – В каком доме, скажи, нет сирот или вдов?..
– Не понимаешь ты меня, Ахмед…
Дядя Ахмед поднялся, но молчал и не уходил. Потом он сказал:
– Где валенки?
И дедушка сорвался с места, принес завернутые в газету валенки и подал их Ахмеду.
– Война кончится, – сказал дядя Ахмед. – Внуки вырастут. Хорошо будет. Они спасибо тебе скажут. Только одно плохо: жалеть тебя будут… – Он помолчал. – Хорошие, видать, валенки. Спасибо.
Фининспектор появился на склоне дня, хмурого, слякотного. Сапоги его были заляпаны грязью, шинель намокла, и фининспектор, снимая ее, покряхтывал.
Опять они с дедушкой пили чай, и фининспектор не скрывал удовлетворения, которое он получал, сидя на мягкой подушке, положенной на стул, чаевничая, покуривая.
– С утра торчал возле часовщика, – заговорил он, усталым движением потирая лицо рукой. – Знаете, будочка его недалеко от того заборчика, где вы сидите. Да-а… вот уж не думал, что с часовщиками придется так маяться. Однако я узнал, кажется, сколько часов он ремонтирует за день.
– Часовщик мог и не спешить, – заметил дедушка.
– Вы так думаете?! – Он даже встрепенулся. Затем невесело, почти горестно усмехнулся: – Этого обстоятельства я не учел. – Он долго молчал. – А шеф наш объявил строгий выговор одной инспекторше, – сказал он вроде бы ни с того ни с сего. – Вперлась в алтарь, а батюшка возмутился и заявил протест.
– Что ж, – сказал дедушка, – работать не умеет, пусть выговор получает.
– Работать она умеет, – сказал Анатолий и о чем-то вздохнул. – Умеет она работать. На днях вот с работниками милиции обыск проводили у одной портнихи. Ничего такого не нашлось, ну, мешочек там с лоскутками разной расцветки. Для чего бы, вы думали? Вот и мы не понимали. А на днях органы задержали старушку с платьями, порылись в тех лоскутках и обнаружили сходные с расцветкой платьев.
– Хитрая инспекторша, – отметил дедушка.
– Она умеет работать, – сказал Анатолий и опять вздохнул.
Анатолий согрелся, и лицо его уже не выглядело таким усталым, как вначале. Вдруг он произнес:
– Вы, дедушка, с того раза трижды были на базаре.
Дедушка не отозвался. Он был невозмутим и своим видом словно бы говорил: ну-ну, продолжай, продолжай…
– Вы были на базаре в понедельник, среду и четверг. А прежде вы ходили по субботам и воскресеньям? – воодушевлялся отчего-то Анатолий, глаза его заблестели. – Вы, дедушка, сшили шапку пимокату Семену Харламову… Не перебивайте!..
Он замолчал, глаза его еще блестели, но видно было, что он усмирил уже в себе это волнение. Ему удалось перейти на спокойный, приветливый тон, и он сказал:
– Ну, хорошо посидели. Спасибо, дедушка, за угощение.
Он ушел, а мы, как только закрылась за ним дверь, уже гадали, когда он заявится опять. Момент, надо сказать, он выбрал удачный, для него, конечно, удачный, потому что ему надо было (по всему его поведению это стало потом ясно) застать дедушку за шитьем шапок. Вроде бы глупо все это: ведь улик у него было достаточно, он мог прямо, без хитростей, подойти к дедушке на базаре и, подозвав милиционера, заглянуть в дедушкин чемодан, но ему, видно, хотелось проявить некую профессиональную хитрость, для того хотя бы, чтобы показать, что и он не лыком шит, не хуже той хитрой инспекторши, а может, и самого Николаева.
Был очень поздний вечер. Дедушка работал, я и бабушка сидели возле него. Вдруг за окнами послышались странные звуки, будто кто-то скребется в ворота или вынимает доски из забора. Звуки стали сильнее, залаяла собака, что-то топнуло, ухнуло.
– Во двор кто-то забрался, – сказал дедушка.
Собака остервенело лаяла, затем, точно захлебнувшись, замолчала. И тут раздался пронзительный крик. Бабушка поспешила во двор, оставила двери широко распахнутыми, и дальнейшее я видел довольно явственно. Вот она обернулась, и на лице ее был ужас, а потом в освещенном квадрате двора появился Анатолий, тянувший полу своей шинели, в которую мертвой хваткой вцепилась собака. Бабушка, взмахивая юбками, ходила вокруг и отгоняла собаку, но, по-моему, она это делала не слишком рьяно (так что если бы дедушка сообразил, он, может быть, и успел бы спрятать подальше материалы и инструменты), но в конце концов она отогнала-таки собаку, а Анатолий стремительно побежал к двери и чуть не сшиб меня в сенях. Я думал, что он бежит так быстро, потому что очень испугался. Но истинный смысл этого стремительного вторжения стал понятен минутой позже, когда я увидел, что он стоит около дедушки как победитель.
– Вот! – сказал он, как бы поставив точку, потом сел на низенький табурет и рассмеялся громким, но не обидным, а искренним смехом радости. – Вы, конечно, не ждали меня в такой поздний час?
– Не ждали, – честно признался дедушка и отложил шитье.
– Но, может, все-таки приходила мысль, что я нагряну именно сейчас?
– Нет, – ответил дедушка.
Он снял очки, взгляд его стал рассредоточенным, растерянным. Он молчал. Анатолий закурил, сизый дым стал окутывать дедушкину голову и плечи. Анатолий курил, смеялся, качал головой.
– Интересный случай на днях… На бывшей заимке Полковникова проживает, оказывается, некий Кирпичев, который занимается перепродажей скота. К нему-то и отправился один наш товарищ. Ну, обошел заимку – ничего подозрительного. Беседует с хозяином. «Почему вы, говорит, Кирпичев, месяц назад продали телку, с кормами худо стало?» – «Нет, говорит, не помню». – «А может, припомните?» А ребятишки Кирпичева кричат с печки: «Батя, батя, а быков продал дяденьке, забыл?» Каково, а? – Анатолии рассмеялся.
И вдруг – как ни странно – дедушка поддержал этот самодовольный смех и тоже засмеялся.
– И я ведь так, а? Ведь вы даже и подумать не могли, что я так ловко накрою вас, а? – Он опять рассмеялся, и странно, дедушка опять поддержал его. Причем не просто хохотнул, для вежливости там или с иронией, нет – Анатолий смеется, а дедушка сидит и хихикает, и опущенные плечи трясутся от хихиканья.
Было уже далеко за полночь. Фининспектор и не думал, кажется, уходить. Шагал по комнате, курил и молчал, и дедушка сидел и молчал, и над его головой и опущенными плечами клубился густой дым от папиросы фининспектора.
Фининспектор встал. Дедушка поднял голову, поглядел на него.
– Что? – спросил он устало. – Что, Анатолий?
Тот встрепенулся, шагнул к дедушке и сел перед ним на корточках.
– Дома у меня сущий ад, – сказал он. – Дедушка… так жить, как я живу… – Он замолчал, потряс головой и опять закурил.
Ему, возможно, хотелось сказать о чем-то очень грустном, сокровенном, и дедушка, может, и понял бы его в другое время, но сейчас душа его противилась участию и состраданию.
Дня через два или три Анатолий пришел, держа под мышкой некий сверток. Он был загадочно торжествен, можно было подумать, что он принес дедушке подарок.
– Есть дело, – сказал он. – Надо сшить фуражку.
– Фининспектору? Фуражку? – удивился дедушка. – Я?
– Одну фуражку, – ответил Анатолий. – На товарищеских началах. Ответственному товарищу.
– Ладно, – обреченно сказал дедушка.
Анатолий развернул газету и положил на стол защитного цвета материал, потом извлек из нагрудного кармана нитку.
– Вот, сам снимал мерку. – Он неловко засмеялся, но быстро подавил тот смех строгостью, почти суровостью.
Дедушка расправил свой метр, положил на него нитку и сказал удивленно:
– Да, большая голова. Гляди, шестьдесят два сантиметра!
– Поняли! – сказал Анатолии и рассмеялся. Было похоже, что ему приятно, что он принес такой солидный заказ.
– Понял, – ответил дедушка и хихикнул.
– Шестьдесят два сантиметра, говорите?
– Шестьдесят два, – ответил дедушка, хихикая.
– Большая голова, а, умная?
– Да, да, – кивал дедушка и не переставал хихикать.
Пока дедушка работал над фуражкой, Анатолию несколько раз удавалось застать его врасплох за шитьем. И хотя в данном случае дедушка ничего предосудительного не делал, потому что шил на товарищеских началах, эти посещения доконали его. Точнее сказать, доконали его надежду на спокойную работу, на спокойную жизнь, доконали в конце концов его гордость, гордость мастера, независимого человека.
Но что-то стряслось и с Анатолием. Он интерес, что ли, потерял к охоте за дедушкой. Появлялся он не реже, а может, и чаще, чем прежде, но бывал иногда нетрезв, жаловался, что жизнь у него в семье идет неладно. Он уж не был прежним фининспектором, строгим, четким, дотошным. Но дедушка, кажется, не замечал этого – он был повержен, хотя и продолжал шить шапки, повинуясь долгу. И когда однажды Анатолий пришел и смущенно попросил денег взаймы, дедушка не почувствовал его унижения – так он сам был унижен, – и он дал ему денег. Анатолий через день принес ему долг, опять говорил о катящейся в тартарары семейной жизни и наконец так разжалобил себя, что опять попросил денег, и дедушка взял те самые деньги, которые Анатолий принес (он их не успел еще убрать, деньги лежали на столе), и отдал ему. И потом, когда Анатолий опять приходил, все так же смущаясь, дедушка давал ему деньги и хихикал, щелкая себя по горлу: мол, понимаю и сочувствую…
6
Так их отношения продолжались, наверно, очень долго, и дедушка все эти годы шил и продавал шапки, и никто его не преследовал, никто ему не запрещал.
Мне уже было семнадцать, я работал на кирпичном заводе и кое-что зарабатывал, а брат учился в школе. Старики наши сильно постарели, в особенности дедушка, – он стал плохо видеть и ходить и в конце концов слег. Он таял на глазах, и мы день-деньской – то бабушка, то мы с братом – были возле него и старались исполнить малейшее его желание. А когда мы спрашивали, чего он хочет, он подымал желтые тонкие веки и спрашивал:
– Анатолий не приходил?
– Нет, – отвечали мы и чувствовали себя очень виновато.
Бабушка, та прямо извелась и ругала Анатолия на чем свет стоит, как будто он был родственником, забывшим о долге перед умирающим. Она наказывала мне: если встретится, мол, на улице, обязательно скажи – пусть навестит дедушку; а если не встретится, то, может, зайдешь в то здание, где он работает, и скажешь, что дедушка шибко болеет, пусть навестит. И я ходил по улицам, всматриваясь в прохожих, но фининспектор Анатолий, как назло, не попадался мне на пути, а идти к нему на работу мне не хотелось: и без того, казалось мне, дедушка унижается тем, что ждет его.
И все-таки я встретил его. Он сам окликнул меня, когда я выходил из кино, окликнул и бросился ко мне, расталкивая публику, будто боялся, что я потеряюсь.
– Слушай, – сразу заговорил он, взяв меня под руку, – я все как-то не соберусь дедушку навестить. Но обязательно, обязательно!.. – Сделав паузу, он сказал: – Я ведь ушел оттуда, не работаю больше. – Он был смущен, но, кажется, ему было приятно сообщить мне эту новость.
Мы зашли с ним в городской сад и сели на скамейку.
– Однако, – сказал он, с удивлением на меня глядя, – однако ты вырос, парень. Работаешь?
– Да, – ответил я, – на кирпичном.
– На кирпичном? Почему именно на кирпичном? – Я не сразу ответил, и он сказал: – Человек должен быть готов ответить, почему он занят этим, а не другим делом.
– Где же еще работать? – сказал я. – Не на кирпичном, так на мыловаренном или в заготконторе – где же еще у нас тут работать.
– Верно, – согласился он. – Ну, а сам-то, где бы ты хотел работать? Кем бы ты хотел быть, где учиться?.. Вообще, что ты намерен делать в жизни?..
– Ну… – Я замялся, мне непонятен был смысл его заинтересованности. – Ну, буду работать… брат еще учится, бабка старая, а дедушка – вы знаете.
Он вздохнул и, не глядя на меня, спросил:
– Плох? Что признают врачи?
– Плох. А врачи ничего такого не говорят. Да… в больницу, говорят, надо ложиться. А он не хочет.
Анатолий долго молчал, возбужденно курил – вроде собирался оправдаться, объяснить, почему он до сих пор не навестил дедушку.
– Слушай, – сказал он, – как ты считаешь, у нас с дедушкой отношения были хорошие?
Я усмехнулся. Не хотелось мне об этом с ним говорить.
– Если бы были плохие, он бы не ждал вас, – сказал я.
– Да, да. Но я не об этом, я зайду обязательно… я не об этом. Могу ли я… ну, мог бы человек, будучи на моем месте, посоветовать тебе?
Я почувствовал, с каким напряжением он ждет ответа.
– Мог бы, – ответил я. Правда, это прозвучало как – валяй, мол, советуй. – А что советовать-то?
– Понимаешь… может, к старости… – Он усмехнулся. – Может, действительно, пожив сколько-то, приходишь к выводам. Понимаешь, для человека не годится так: вот кирпичный завод, там будет видно.
– Ну хорошо, – сказал я. – Я хочу быть инженером по радиотехнике.
– Ты должен иметь цель и стараться, и добиваться… Цель надо иметь. Но еще важнее иметь… страсть, верность… чтобы не поддаться… ну, соблазнам разным. Вот, может, такую страсть, какая была у дедушки.
– У дедушки?
– Да, – ответил он.
– Но у дедушки немного было радостей с этой страстью.
– Ах, да дело не в этом… А ты знаешь, кем я хотел быть? Археологом. А на фронте, знаешь, кем я был?
– Вы были на фронте?
– Да, – сказал он гордо. – На фронте я был шофером. А вот стал фининспектором. Теперь уж в прошлом – тоже был. Будешь курить?
– Нет. А вы неплохой вроде фининспектор были, – сказал я с иронией и горечью.
– Хотел! – сказал он страстно. – Хотел так… ну, ты, правда, не знаешь. – Он рассмеялся. – Хотел, как Николаев. Был, говорят, такой фининспектор.
Опять он надолго замолчал.
– Я ведь с женой разошелся, – сказал он с грустью, но вроде без сожаления. – Разошлись, продали дом и поделили деньги. Забавно? Она уехала. – Он внезапно поднялся, взял меня крепко за плечи и поднял со скамейки. Потом заговорил быстро, горячо: – Я тоже уеду! Мы продали дом, поделили деньги. У меня теперь есть деньги и я могу отдать долг дедушке. Я зайду обязательно. И отдам обязательно.
Несколько дней я не говорил дедушке о том, что встречался с Анатолием. Но он все не шел, дедушке становилось хуже, и когда однажды он спросил о фининспекторе, я сказал, что видел его и что тот обещает зайти. Дедушка, к моему удивлению, спокойно встретил это сообщение. А ведь он так хотел, чтобы пришел Анатолий!
– Дедушка, – спросил я, – ты очень хочешь его видеть?
– Пусть бы зашел, – слабо, спокойно ответил дедушка. – Мы с ним дружили. Он ведь не работает больше фининспектором. Вот… хотел посмотреть на него.
Я не хотел говорить о встрече, но дедушка был спокоен, равнодушен, – придет, не придет, посмотреть только хотел. И я сказал:
– Он говорит, разошелся с женой. Они продали дом и поделили деньги. Теперь Анатолий хочет из своей доли отдать тебе. Говорит, должен.
– Как жалко, – проговорил дедушка, – жалко… – Он коротко и сильно дышал. – Вот ведь болезнь проклятая… очень хотел я на него посмотреть…
7
Никогда прежде, пока жив был дедушка, я не задумывался о том, знают ли в городе о его отношениях с фининспектором Анатолием, но когда дедушка умер, понял – знали.
На похоронах было много древних стариков, они собрались у нашего дома, тепло одетые, некоторые даже укутанные в шали, и ждали, когда дедушку вынесут, – молчаливые и бесстрастные, как на собственных похоронах. Вот дедушку вынесли со двора на длинных прогибающихся носилках с зеленым куполообразным верхом. Провожающих было много – согнувшись, они шли за гробом. Но еще больше выходило из переулков посмотреть – мужчины все были в шапках, которые сшил им когда-то дедушка.
Сдержанность и суровая чинность царили надо всем, что окружало нашу процессию, и вдруг из переулка, точнее, из тупика, где и люди-то не стояли, вышел фининспектор Анатолий, с непокрытой головой и растрепанными волосами, и двинулся к нам. И некое смущение прошло по рядам, но оно быстро сменилось оживлением. Только древние старики возмущенно зашипели. Странно: я обрадовался, увидев его, и помахал ему рукой. Потом опять все обрело сдержанность и чинность, и старики перестали шипеть, потому что им объяснили, что человек этот не был чужим шапочнику. Анатолий вел себя смирно, печально, и о нем вскоре забыли. За всю дорогу он не произнес ни одного слова, только когда показались кладбищенские ворота, заблаговременно раскрытые, пустые и жуткие, как пропасть, он наклонился ко мне и спросил:
– А мне можно на кладбище?
– Конечно, – сказал я, – только наденьте шапку и держитесь подальше от стариков.
– Хорошо, – быстро закивал он и нахлобучил шапку.
После того как дедушку похоронили и все вышли за ограду кладбища, я стал искать Анатолия, но его не было. Я выбежал на дорогу и поглядел в сторону города; на пустой белой дороге – никого. Я бросился было обратно, сторож закрывал ворота, я взволнованно спросил, не остался ли там кто. Он только улыбнулся в ответ. Потом я понял, что хотел тогда видеть именно Анатолия, потому что он был связан с дедушкой, как никто другой.
Ты это однажды почувствуешь – может, когда пристроишь под сиденьем вагона нехитрый фанерный чемоданчик, в котором все твое имущество – пара белья, учебники, любимая книга и завернутые в бумагу ватрушки, – и выйдешь глянуть напоследок на свой городок и не весь, конечно, его увидишь, а только пристанционные строения, сквер и уходящий в низину автобус; или, может, когда после долгой разлуки пойдешь от вокзала пешком, и откроется тебе с холма речка, за речкой веселая в утреннем свете груда домиков, среди которых и твой дом, и не твой, но где живут родные тебе люди, – ты почувствуешь, что не торопишь уже время, хотя и не считаешь с испугом дни, а просто понимаешь стремительность жизни и ценишь и день и год. И ты идешь над городком, притягательным и чужим, радостный, что все здесь, в общем-то, без перемен, и грустный, что это так… Идешь так вот, и вдруг…
Меня остановила вывеска, выполненная с отменным щегольством и яркостью, на которые способны провинциальные маляры, называемые в городочке художниками: «Магазин проката М. Г-го комбината бытового обслуживания». А на порожке магазина стоял дядя Ахмед. Постаревшие глаза его щурились младенчеству утра, вокруг серебряной головы дрожало приветливое, доброе мерцание. Он крепко обнял меня верной, вот уж сколько лет несущей двойное бремя рукой.
– Ах ты! – воскликнул он, отодвигая меня. – Каков, а, директоров сын!
– Чу! – сказал я. – Мальчонка шапочника!
– Ладно, – согласился он и помолчал. – Вот встретились.
– Хорошо, – сказал я.
– Конечно, хорошо, – согласился он. – А хочешь, у тебя будет очень интересная встреча? – Он глянул на меня пытливо. – Сегодня, вот-вот, в магазин проката придет…
Он помолчал немного и добавил:
– Фининспектор Анатолий. Именно сегодня. Проходи в мой кабинет, и подождем, – предложил он. – Он заглянет ко мне. Мы, знаешь, иногда вспоминаем…
– Нет, – сказал я, – я подожду его здесь.
Дядя Ахмед скрылся в магазине, я стал прогуливаться возле. Вскоре я услышал где-то в глубине, в тумане и яркости пыльной улицы жизнерадостный стрекот и насторожился, выйдя на середину мостовой. Прямо на меня в сиянии металла, в облачках дыма и пыли несся на велосипеде с моторчиком фининспектор Анатолий. Он едва не наскочил на меня, но ловко повернул руль, подъехав к магазину, заглушил моторчик. Я подошел к Анатолию.
– Сколько лет, сколько зим, – сказал он и смущенно и обрадованно, но не глядя на меня пристально, хотя мы долго не виделись: он был сосредоточен в себе самом. Нельзя сказать, что он раздобрел, нет, он был просто здоров, крепок, и глаза его имели живой блеск, даже не свойственный людям его возраста. Он говорил:
– Студент? Время, время… Не женился? Нет? А я, – он покачал головой, вроде укоряя кого-то, – а я, да ты слышь, у меня дочка родилась! Я ведь, слышь ты, женился!.. В магазине нет детских колясок, а в прокате четыре штуки… Попрошу Ахмеда Галиевича… В Челябинск как-нибудь съезжу, а сейчас работы по горло. Я ведь сейчас начальник автовокзала… Новые машины получаем…
– Рад за вас, – сказал я. – Передайте привет жене.
– Спасибо, – сказал он и крепко стиснул мою руку и долго не отпускал ее. – Спасибо! – повторил он еще более истово и все не отпускал моей руки, не расслаблял пальцев, а крепче сжимал их.
«Да отпустите, черт возьми, мою руку!» – хотелось мне сказать, и тут я поглядел на его лицо: на нем было какое-то мучительное усилие: будто старался он что-то вызвать в памяти или что-то додумать, что-то такое, о чем он всю жизнь думал.
– На! – вдруг сказал он и отпустил мою руку, и усталое лицо его стало мягче, счастливей. – На! – сказал он, шагнул к велосипеду с моторчиком и, легко, изящно взяв его, подкатил ко мне широким бескорыстным движением, будто ковер расстилал передо мною. – На, прокатись.
Когда я поехал, мне пришла в голову странная мысль: уехать очень далеко, чтобы он забеспокоился, гадал и мучился, что же такое стряслось с его велосипедом, но, усмехнувшись, я повернул обратно. Прощаясь, я еще раз сказал:
– Рад за вас. Передайте привет жене.
– Как? – спросил он, показывая на велосипед с моторчиком.
– Зверь мотор, – сказал я.
И опять он с силой стиснул мне руку, я ответил ему тем же, каждый из нас был доволен бескорыстием другого. Потом мне стало грустно: будто мы с ним стояли над прахом дедушки и он старался искупить всю свою былую слабость или суровость, а я будто бы принял искупление, хотя не имел на это никакого права.







