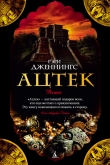Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
10
Когда схлынуло напряжение государственного масштаба, последний сон Розалии Чюжене дождался широкого отклика. Тем более, что учительница Кернюте уехала в далекий Каунас здоровье поправлять и, как говорила наушница Пурошене, свадебное платье справить. Но за кого Кернюте могла бы выйти? Разве что Мешкяле, сочувствуя викарию, сосватал бы Кернюте писарю своего участка Эймутису, который глядит на нее щучьими глазами...
– Нет уж! Чем с таким рохлей в кровать, лучше под поезд лечь.
– По моему разумению, единственный Кряуняле ей в пару годится.
– Верно говоришь. Ксендзом траченная девка в жены органисту – самый раз.
– Хо-хо-хо.
– Так будет, или иначе, помяните мое слово, этот угорь Жиндулис руки умоет.
– О, чтоб у него все оконечности отсохли! Ирод! Чтоб ему дьявол репейник в хвост!..
– То-то, ага!
Высокая политика мужиков-босяков и бабьи сплетни местного значения наконец-то разбудили умаявшегося за великий пост Кулешюсова бесенка...
Пасхальным утром, когда верующие после мессы высыпали из костела, перед памятником Михаилу архангелу встретил их Горбунок верхом на сосновой метле, обрядившись свадебным глашатаем – с пестрым петушиным пером за ухом, с пастушьим рогом на боку. Рядом с ним Зигмас извлекал из гармоники ржание породистого жеребца, а Напалис печально позванивал колокольчиком, словно церковный служка, сопровождающий ксендза к смертельно больному.
Закрутив за ухом пакляный ус, Горбунок подул в пастуший рог и, когда толпа затихла, начал пасхальную речь, восхваляя «нового надсмотрщика над сметоновскими министрами – ксендза Миронаса». А под самый конец мощным голосом Синей бороды затянул:
Не будем с поляками воевать!
Будем свадьбу викария играть!
После этого, упав на колени перед памятником Михаила архангела, пригласил графа Михалека Карпинского, соорудившего когда-то этот памятник, в почетные сваты. Всех остальных – обутых и босых – призвал по возможности помочь свадьбе, потому что у сыночка викария в кармане ветер свищет, папаша Бакшис скуповат, старший братец Кряуняле – пропойца, а первый дружка – опекун пашвяндрской графини Мешкяле, засеял этой весной половину помещичьих полей ромашкой, валерьянкой да табаком и вместе с пани Милдой и графом в долгах увяз. Пока урожай, обратившись в успокоительный чай и душистый дым, принесет нации забвение, а им – состояние, святой жених и состарится. Так что, хоть плачь, надо сыграть свадьбу на средства прихода... И сегодня же, поскольку после пасхи мужики-босяки уходят на строительство шоссе. Некому будет пить да пировать, некому петь да танцевать.
Хорошо в песне поется:
Славно ксендзам живется! —
поддержали своего крестного юные Кратулисы, сняв шапки, они пошли по кругу, ковыляя, будто нищие из Скудутишкиса.
Не знали добрые католики, куда глаза девать, смеяться или сердиться, кричать благим матом или подпевать. Так что одни садились в телеги, другие пешком улепетывали домой. Ведь не приведи господи! Может ли быть Содом и Гоморра пострашнее, когда безбожник да пьяница вместе с сопляками среди бела дня над ксендзом потешались?..
Аллилуйя! Ералаш!
Женится викарий наш!
На болото, бабы, бегите,
Лягушек в подружки зовите!
На трясину, братцы, бегите,
Аистов в дружки зовите!
Свахой выберем свою
Черную как ночь свинью! —
горланили юные Кратулисы наперегонки да так, что весь городок звенел.
Хозяйка настоятеля Антосе в страшном возмущении послала батрака Адольфаса звать на помощь полицию, однако... Мешкяле гостил в Пашвяндре, Микас и Фрикас уехали на побывку к родителям, а Гужас успел спрятаться за печкой... Пускай радуется престарелый Бакшис своему восприемнику, пускай краснет духовный жених, омрачивший молодые деньки барышни Кернюте. Черт его не возьмет. Одну учительницу жалко. Хорошо, что она в отъезде... Так что пой спокойно, горбатый дьявол, вместе со своими подмастерьями. Пой, плюй прямо в лицо этому блудному миру! Альфонсас Гужас всей душой с тобою и поэтому не позволит своему затянутому в мундир телу ногой ступить из избы, а лучше, приоткрыв форточку, сам послушает, как гудит городок, и мысленно прокричит ура Йонасу Кулешюсу.
– О-хо-хо.
После обеда три певца так расхрабрились, что, сопровождаемые стаей детей и собак, врывались во двор каждого крестьянина с дружным воплем:
Католики, не жмитесь!
Женится наш викарий —
Хоть по яйцу с гектара
Подайте, не скупитесь...
Что тем оставалось делать. Давали. Хозяйки доставали яйца, совали детям босяков, чтоб побыстрее спровадить незваных гостей. Когда детворе некуда стало яйца девать, Горбунок отвел всю ораву к корчме и принялся не то по-литовски, не то по-еврейски звать на свадебный пир господина Альтмана с семьей. Откуда он мог знать, что в доме Альтмана полный разлад? Любимая дочка Альтмана Ривка осенью собиралась выйти замуж за Гирша Лейзера из Таурагнай, но отец сегодня заявил – нет, поскольку вчера в Утяне раввин Кац доверил ему на ухо тайну, что Гирш – закоснелый коммунистический агент, который, прикрываясь развозом товаров, распространяет листовки. Раньше или позже попадет в руки полиции, так стоит ли рисковать счастьем дочки? Неважно, что Гирш, своей красной правдой задурив голову Ривы, закинул удочку в ее нежное сердце. Неважно, что самому Альтману, его Соре и сыну Пинхусу Гирш по душе. Зато впредь... Запомните! Чтоб ноги его по эту сторону порога не было! Никаких чаепитий! Пускай Гирш остудит свое сердце у городского колодца, где каждый день, проезжая через Кукучяй, поит свою клячу. Вот и все. Аминь. Так Альтман сказал, и быть посему. Зря слез не проливай, Рива. Твои красивые глаза еще понадобятся. Гирш не один на белом свете...
– Ша! Штиль!
О какой же свадьбе этот чертов скворец Горбунок поет? Неужто пронюхал через толстые стены корчмы, что творится в семье Альтмана?
Выбежал Альтман, всполошившись, во двор, но услышал, что сапожник над молодым раввином гоев измывается, и вернулся. Потом вынес бутылочку, вручил ее Горбунку и попросил увести детвору подальше от корчмы, потому что у его Ривы голова болит, шума не переносит.
– Зови доктором Гирша! Рива сразу поправится!
– Ша, Йонас! Штиль! – простонал Альтман, схватившись за голову.
Зигмас заиграл свадебный марш, Горбунок поднял бутылочку над головой и, собрав в прозрачном стекле закатные зори, гордо зашагал дальше. Не выдержали нервы у босяков. Высыпали мужики из домов, надеясь вкусить дьявольского зелья. За ними бросились бабы, в страхе, что Горбунок их любимых и проклятых с пути истинного сведет.
Перед домом Валюнене шествие остановилось, потому что на крыльце сидели Стасе с Пятрасом, уставившись в одну точку на небе, будто двое святых возле гроба Христова, ничего не видя и не слыша, что творится вокруг, хотя тут же, в нескольких шагах, сын Валюнене Андрюс, навалившись грудью на стул, просто пожирал их глазами, чиркая что-то на листе белой бумаги то одним, то другим карандашом. Рядом с Андрюсом – его мать Веруте и Аукштуолис, Алексюс со своей мамашей Аспазией и дочка добровольца Кратулиса Виргуте.
– Эй, люди добрые, что вы там поделываете? – удивленно спросил Горбунок.
– Угадай, Кулешюс! Вот угадай! – воскликнул Аукштуолис.
– Если на Стасе с Пятрасом посмотреть, то ни неба, ни земли не слышите. А если на вас всех – то вы завещание для Стасе и Пятраса пишете.
– А вот и нет. Вот вы и не угадали, дяденька! – ответила Виргуте. – Андрюс цветную картину делает, а мы ничего не делаем. Только смотрим и ждем, что выйдет.
– А может, и нам позволите взглянуть?
– Просим, – сказала Веруте. – Просим всех.
Хлынули гости ксендзовской свадьбы во двор, окружили рисовальщика и долго глядели, не в силах глаз оторвать от картины, на которой звезда ясная была и желтый ущербный месяц. Звезда в виде девицы с золотой фатой и рутовым веночком, а месяц – в голубой шапке с георгином цвета крови в петлице. Когда Андрюс вставил им обоим глаза, прилепил губы, носы да прицепил уши, вышла парочка, как пить дать Стасе и Пятрас.
– Ах, чтоб ты скис!
– Чтоб тебя черти драли! – удивлялись взрослые, а Розалия попросила Андрюса, чтоб словами загадку своей картины передал. А поскольку Андрюс, застеснявшись, юркнул в избу, Виргуте ответила как по-писаному:
Месяц на звезде женился,
Пятрас женится на Стасе.
А тут как завизжит ее брат Напалис, как запоет:
Аллилуйя! Помолись!
Божьей воле поклонись,
Божьей воле поклонись, —
Пятрас, поскорей женись!
– Мужики и бабы, давайте забудем молитву. Отложим свадьбу викария до слякотной погоды. Отдадим должное нашему лазарю и работяге, – сказал Горбунок и, выбив из бутылочки пробку, окропил ноги парня и девки. Окропив, запел:
Во имя Пятраса и Стасе,
Плоти и духа единение,
Здоровие и размножение!
– Аминь, – ответили юные Кратулисы вместе со всеми детьми босяков.
– Кулешюс, ради бога... Будь человеком. Не смейся над нами, – заговорила Стасе, зардевшись еще гуще.
– Кто над вами смеется, коза ты божья! – ответил Горбунок. – Разве мое крестное знамение хуже, чем настоятелево, или моя святая водичка хлебушком не пахнет? Будьте вы счастливы!
И шваркнул бутылочку под ноги Стасе и Пятраса о каменный порожек. Со всего маху! С неба роса брызнула, колокола костела зазвонили. Прислушались, вгляделись босые да голые. Своим глазам не поверили – неужто Горбунок с ума спятил? Или господь бог чудо явил? Переглядывались босяки, не переставая удивляться, что колокола все не замолкают. И роса небесная благоухает хмельным ржаным духом, даже голова кружится. Умиление в сердцах у всех да слабость непонятная в коленках.
– Дети, сбегайте посмотрите. Может, там сам черт на графской висюльке верхом сидит?
Но дети не слушались матерей. Били яйца, очищали от скорлупы, уплетали за обе щеки. Горбунок, сняв шапку, шел с нею по кругу, гармоника Зигмаса играла заунывно, а Горбунок еще унылее пел:
Карман Пятраса зияет —
Чем зачинишь?
Рысак Пятраса страдает —
Чем напоишь?
Стасе босая да голая —
Не зачинит.
Слеза ее соленая —
Не напоит!
Бедняги работяги,
Кто поможет? —
подхватил Напалис, но в шапку Горбунка падала лишь крашеная яичная скорлупа. Стояли босяки, повесив носы. Откуда возьмешь центы, если бабы еще перед пасхой всем карманы обшарили. Хоть лопни, хоть живьем в могилку лезь – не соберешь складчиной даже на рюмочку...
Раз нету складчины,
Вы все не мужчины!
Без свадьбы у Стасе
Пусть будут крестины —
в ярости кричал Горбунок.
Без свадьбы девица
Пусть с парнем живет!
Прости нас, всевышний,
За Стасин позор.
За Стасин позор,
Да за Пятраса горе,
За мой пьяный вздор
И за баб жадных тоже.
– Перестань, ирод!
На Горбунка нашло вдохновение. Чем дальше, тем жалобнее пел Кулешюс. Чем дальше, тем сильнее верили бабы, что это не шутовские затеи, а взаправдашияя свадьба Стасе. Не приведи господи с девкой местами поменяться. Целый месяц возле своего Пятраса на коленях простояла, пять лет у Швецкусов пробатрачив, место в неподходящее время потеряла. Ведь когда нанимал, Яцкус обещал приданое Стасе справить. А теперь кукиш показал. Что она заработает, если с Пятрасом на строительство шоссе уйдет?
– Пузо.
Еще неизвестно, что сам Пятрас запоет в чужих краях. Может, шмыгнет в кусты и будь здоров. Что тогда?
– Петля.
– Волком, не человеком был бы.
– Ай, сестричка. Все мужики вроде волков. Голодные цапают, сытые удирают.
– Дело говоришь. Мужская жалость не в сердце, а в штанах.
– Черт он! Черт! – вдруг заговаривает второй больной Алексюс, до сих пор не проронивший ни слова и, ковыляя, бросается наутек.
– Кто черт?..
– Где черт?..
– Что с тобой, сынок? – кричит мать Алексюса Аспазия, припустившись за ним.
– Может, от запаха водки одурел?
– Или у него в голове бараны бодаются?
– То-то, ага.
Однако Алексюс бежал не по полю. По дороге. Во двор своего бывшего хозяина Швецкуса. Так что и Горбунок со всей своей свадьбой подался туда.
– Дядя Яцкус, выходи! – кричал Алексюс, барабаня в дверь.
Яцкус Швецкус приплюснулся носом к стеклу, увидел целую толпу молчащих да одного кричащего, и черти-те что подумал. Выбежал в одной ночной сорочке в дверь:
– Что стряслось?
– Свадьбу Стасе играем.
– Тьфу! Чтоб тебя!..
– Погоди, дядя!
– Чего хочешь?
– Отдай Стасе деньги за корову...
– За какую еще корову?
– Что ты обещал в приданое ей дать.
– Кто тебе говорил?
– Сам слышал.
– Раз слышал, Алексюкас, то пускай Стасе берет тебя в свидетели и подает на меня в суд! – захихикал Швецкус, весьма довольный своим ответом.
– Ах, вот ты как?
– Вот так.
– Так может, дядя, скажешь, что и мне тетя Уле петуха не обещала?
– Что правда, то правда.
– Отвали чистоганом за петуха!
– Твоего петуха черт унес, хорьком обратившись.
– Не моя беда.
– А чья, Алексюкас? Твой петух – и беда твоя.
– Хорошо. Тогда выкладывай, дядя Яцкус, за мое ухо, что после заговенья содрал.
– Кто тебе сказал?
– Кто видел, тот сказал.
– Стасе видела! – завопили дети.
– Куда ты мое ухо дел, дядя Яцкус, спрашиваю? Куда?
– Отвяжись.
Твоего уха, Алексюс,
И след простыл.
Дядя Яцкус
Его курам скормил! —
запел Зигмас, а Напалис подхватил:
Ухо Алексюса погибло,
В желток превратилось,
Тетушка яйцо проглотила...
– Давай рассчитаемся, дядя Яцкус! – схватил его за грудки Алексюс.
– Пусти.
– Не пущу. Хватит, что ты мою кровь два года за полцены пил!
– Как ты нашу настойку.
– Ах, вот ты как!
– Вот так.
Не нашлось больше слов у Алексюса. Дурной пот прошиб. За три-четыре глотка дядя его вором обозвал. Поднял Алексюс кулак высоко, однако не ударил. Мамаша на руке повисла:
– Не надо, сынок. Пасха – праздник мира.
– Связавшись со всякими подонками, Алексюс, далеко не пойдешь, – сказал Яцкус Швецкус и ушел было в дом, но тут Альбинас Кибис схватил его в охапку:
– Повремени, дядя. Пасха так пасха, а чем мы тебе помешали? Почему ты нас подонками обзываешь?
Не нашел Швецкус, что ответить, а главный забияка босого племени продолжал:
– Так вот что, Алексюс. Раз уж ты записываешься в наше братство, то и наши законы выполняй. Врежь дяде по уху за Стасину корову, за своего петуха да ухо свое, и за то еще, что всех нас оскорбил.
Аллилуйя! Улийона
Овдовеет очень скоро!
– Ну как, Алексюкас? Бить будешь дядю или помилуешь?
– А ну его, Альбинас. Лучше, когда осенью с шоссе вернусь, красного петушка в подарок принесу да на крышу гумна ему посажу.
– Дело говоришь! Молодец! Раз уж садиться в тюрьму, то хоть бы было за что. Иди-ка спать, дядя Яцкус. Ну тебя к лешему.
Однако Швецкус на этот раз не торопился. Его плешивая макушка побагровела:
– Видит бог, вы тут несерьезно начали, мужики, зато я серьезно кончу. Сколько же ты, Алексюс, за свое ухо запросишь? Лит, два или три я тебе задолжал? Твоя плоть – тебе и цену называть. Свали камень с моей совести.
– Чертово копыто, а не совесть у тебя, Яцкус!
– Чем богат, тем и рад. У тебя шило не прошу, сапожник! – и Швецкус распахнул сорочку, где на груди вместе с ладанками висел черный замшевый кошелек. Но тут выскочила из сеней его жена Улийона. Обеими руками уцепилась за мужнину казну:
– Рехнулся ты, папаша?
– Отстань! Пусти!
– И не подумаю!
Ох ты, Уле, Улийона,
Ох, скупая ты жена...
Ведь порвется, ведь порвется
Так у Яцкуса мошна! —
кричит Зигмас, наигрывая на гармонике, но мошна у Яцкуса крепкая. Хохочут дети, бабы и мужики. До тех пор хохочут, пока Улийона не затаскивает своего муженька в сени, задвигает засов и рядом за воротами не начинает выть настоятелев Нерон.
– Слава Иисусу Христу! – доносится из мрака голос кукучяйского звонаря Антанелиса Гарляускаса.
– Во веки веков! Что скажешь, колокольчик божий? – спрашивает Горбунок.
– Ничего путного.
– Тогда желаю тебе ветра попутного.
– А вы не слыхали, что пашвяндрский граф Михалек свадьбу справляет?
– Будет заливать, Антанелис!
– Чтоб мне умереть на этом месте!
– Выкладывай, если не врешь.
– Во имя отца и сына... Не вру. Граф – жених, костлявая – невеста.
– Тьфу, тьфу, тьфу!
– Ах, чтоб тебя черти драли, – не могут надивиться бабы, а звонарь Антанелис хохочет. То согнется втрое, то выпрямится, словно в колокол звонит. Хоть раз в жизни Антанелису удалось отыграться – поднять на смех весь босой люд, а главное – самого Горбунка, который вечно над ним подтрунивает.
– Так ты что, колокольчик божий!.. Никак гостей для графа Михалека сзываешь?
– Ага. Подыскиваю веселую компанию.
– Коль слово сухо, не лезет в ухо.
– Не твоя беда. Смочу.
– А сколько заработала графская висюлька для твоего кармана да для Альтмана стакана?
– Десять серебряных.
– Будет заливать.
– А ты послушай, – отвечает Антанелис, зазвенев монетками в кармане штанов.
Аллилуйя, в самом деле
Молодец наш Антанелис,
Молодец наш Антанелис,
А у графа быть веселью! —
затягивает Напалис, а Горбунок сует звонарю под нос свою шапку:
Все на свадьбу наперегонки!
Антанелиса медяки,
А винчишко пьют босяки!
И тут Антанелис начинает доставать из кармана серебряные монетки да, поплевав на каждую, швырять лит за литом в шапку Горбунка, свободной рукой держась за сердце, чтоб не лопнуло от счастья.
– Да настанет светлая пасха для всех босых да голых в городке Кукучяй, а для графа Михалека – в царстве небесном!..
– Аминь.
На второй день пасхи, сразу после заутрени, побежали кукучяйские кумушки в Пашвяндре, чтоб разузнать, что к чему. Вернулись под вечер с большими новостями: граф Михалек-то и впрямь помер, играя в шашки с Франеком... на щелчки. Мартина принесли им кофеек и нашла обоих игроков мертвыми, а спальню полную чада. Франек, когда его вынесли во двор, очухался, а вот граф – нет... Пани Милда накинулась на Франека, зачем тот не вовремя вьюшку задвинул. А Франек только головой качал, будто и впрямь был виноват (кому неизвестно, что он глух как пень...). Пани Милда тут же послала верхом Мотеюса в Кукучяй заказать колокола и сообщить Мешкяле, который с час назад с ней и Мартиной пасхальными яйцами в Пашвяндре стукался. После двенадцати часов ночи Мешкяле доставил из Утяны пьяного начальника уездной полиции господина Заранку, своего старого приятеля, и не более трезвых следователя с врачом-экспертом. Эти двое продолбили графу череп и поспорили. Один говорит, что причина смерти – угар, а другой – что щелчки. Заранка кое-как помирил их и составил протокол, всю вину свалив на Франека, который, когда его допрашивали, опять только головой качал и отмалчивался. Лишь в самом конце, когда Заранка сунул ему в руку вечное перо, чтобы протокол подписать, Франек буркнул ему: „Idz do dupy spiewac”[8]8
Пошел ты знаешь куда! (Польск.)
[Закрыть], и ушел. Заранка бросился за ним побагровев, будто индюк. Мешкяле с пани Милдой едва успокоили его и отвели всех троих наверх поить вишневкой. Еще и сейчас они там гуляют. Но уже не одни. Прибавились волостной старшина Дауба, секретарь Репшис, Чернюс и сугинчяйский настоятель Бельскис. Их всех Мотеюс доставил по приказанию пани Милды как свидетелей, чтобы вскрыть завещание графа. Эфруня, притаившись за дверью, краем уха слышала, что с этих пор до совершеннолетия барышни Мартины вся земля, скот и все имущество поместья будут принадлежать пани Милде, а сама барышня Мартина – господину Мешкяле.
– Где его голова была? Где головенка-то?
– И не спрашивай, ягодка. Эта ведьма Милда уже давно графа вокруг пальца обвела. Что ни просит, то он и напишет. А когда выпросила, чего ей надо было, самого послала к Аврааму овечек пасти.
– Да будет тебе. Побойся бога.
– Будто я глухая, будто не слышала, как Франек бродит вокруг покойника, снимает нагар со свечей и бормочет: „Gdzie baba rzadzi, tam diabel bladzi”[9]9
Где баба правит, там дьявол бродит (польск.).
[Закрыть].
– Иисусе, Иисусе, Иисусе... Чего доброго, Франек-то жалеет, что вместе с графом не помер...
– Помянете мое слово – его дни сочтены. Пани Милда не потерпит у себя под боком живого свидетеля.
– Да будет тебе...
– Будто я слепая, будто не видела, что у покойника глаза приоткрыты? Кому другому, если не Франеку, не дворне теперь пора помирать?
– Как ни верти, для бедного графа без шашек и рай не рай – один только Франек со своим терпением может ему там угодить.
– Как знать, правда ли, что настоятель Бельскис сватал за графа свою двоюродную сестру вдову, которая в шашки играет даже лучше мужчин?
– А кто тебе говорил?
– Сестра бабы Бельскисова кучера. После пасхи граф собирался уже ехать в Паужуоляй и целую ночь с ней в шашки играть. И обещал, если хоть раз продует, на ней женится.
– Видишь, а ты еще спрашиваешь, чья рука вьюшку задвинула.
– А я говорю, может, Франек?.. Из зависти...
– Уж другой такой дурочки, как ты, сестричка, в наше время и не отыщешь.
– То-то, ага.
– Ладно уж, ладно. Да будет ваша правда.
– Иисусе, Иисусе! Как эту ведьму святая землица носит?
– Подождите. Посмотрим еще, что Бакшис запоет.
– Да говорят, у него руки-то связаны. Вместе с завещанием графа нашли пачку писем Бакшиса, что он покойной Ядвиге писал. Пачка голубой ленточкой перевязана, а за ленточкой – записка: «Огласить лишь с разрешения пани Милды, сжечь – лишь после смерти настоятеля Бакшиса».
– Ишь, что творится! Застраховалась, змея, на всю жизнь.
– На оба конца способный бабец.
– Говорят, нашего Бакшиса даже и к могиле не подпустят. Такова воля графа.
– Иисусе, кто же его хоронить будет?
– Может, викарий?
– Нет. У викария после пасхальных песенок Горбунка желчь разлилась. Раньше, чем через неделю, с кровати не встанет. Кряуняле его чистым спиртом лечит.
– Вот обеднели, ягодка, ксендзами...
– То-то, ага.
Три дня жужжали бабы, а на четвертый – притихли, потому что с самого утра раззвонилась графская висюлька. Антанелис с похмелья перестарался или просто ошибся, но горожане, выбежавшие из дому, прождали целых полдня, пока, наконец, не увидели траурное свадебное шествие.
– Иисусе, дева Мария!
Уж чего-чего не навидался кукучяйский люд, но таких похорон...
На первой телеге развеваются два черных флага, привязанных к грядкам. Между этими флагами – старший батрак поместья Мотеюс. Пьяный вдрызг, зажмурившись и с черным крестом на плече, вроде падшего Христа с Голгофы. На второй телеге – старый настоятель из Сугинчяй Бельскис клюет носом, обрядившись в белый стихарь – ну просто шутник сват. На третьей – гроб, разукрашенный золотыми бубликами, точно сундук с приданым посреди венков, и поезжанин Франек, которого донимает дурная зевота. На четвертой – пани Милда в черной фате, будто невеста-смертушка, к себе Мартину прижимает, хотя та всем телом вперед подалась, обеими руками за Мешкяле держится. Мешкяле в парадной форме – статный, румяный, так и пышет огнем – ну просто пламенный столп из вещего сна Розалии. За ними – телеги с лежащими вповалку пьяными певчими да шестеро кукучяйских шаулисов, чтоб нести гроб, в одной куче.
Когда похоронная процессия добралась до ворот костела да когда помещичьи батраки стали девок из телег вытаскивать, послышался истинный свадебный визг. А тут еще Нерон разлаялся, вороны раскаркались, и Чернюс с супругой, выстроив всю школу, пригнали детей с венком почтить последнего графа Кукучяйской волости. Войдя в раж, Антанелис Гарляускас и не думал выпускать из рук графскую висюльку... Стоит ли удивляться, что графине Мартине вдруг худо стало?.. Оба опекуна, долго не думая, затащили ее под руки в костел. Вслед за ними ринулись похоронные поезжане и зеваки. Гроб и настоятеля Бельскиса внесли в костел последними... А что потом творилось – и описать трудно. Настоятель Бельскис как стал чихать возле катафалка, нюхнув кадила, так и не перестал до конца молебна. Ризничий Рилишкис поводил его под руку возле алтаря, открыл перед ним требник и закрыл, однако тот после вознесения даров отломил облатку, в рот себе отправил и подавился, опять адски зачихал да просипел:
– Какой это бес тут меня обуял?
– Иисусе, Иисусе, Иисусе, – шептали богомолки, обложившие перегородку перед алтарем, все еще не теряя надежды причаститься за душу покойного графа, но Рилишкис, когда Бельскис повернулся ко всем с „Ite missia est!”[10]10
Ступайте, месса окончена (лат.).
[Закрыть], злобно шуганул их:
– Кыш!
Кончились надежды с концом траурного молебна. Бельскис не стал даже евангелие читать.
Провожали кукучяйские бабы графа Карпинского на кладбище, умирая со страха, как бы земля под ногами не разверзлась да не поглотила их вместе с пьяным дряхлым ксендзом и веселыми похоронами. Спасибо двойняшкам Розочкам, которые, забежав вперед, осеняли крестным знамением шествие... Черт даже кукучяйским шаулисам ножку не подставил. Затащили-таки они графа на песчаную горку. Бельскис окропил с горем пополам могилу, где виднелся подгнивший гроб графини Ядвиги, и взревел:
– Прощай, Миколюкас! Легко ты жил, легко и умер, да будет легкой тебе кукучяйская землица под боком у супруги. Аминь.
И затянул «Ангел господний». Хористы Кряуняле подхватили песнопение, шаулисы Чернюса – гроб да лопаты. Раз, два – и холмик ссыпан и песнопение допето.
– Спасибо всем, выразившим сочувствие нам в столь тяжкую годину! – промолвила пани Милда и от волнения запнулась, но господин Мешкяле выручил:
– Будем счастливы, видя вас, господа, за поминальным столом.
– Домой, домой, домой! – бормотал Бельскис, поднимая с земли графиню. – Пока живы, должны есть и пить. Когда умрем, всему шабаш!
И, снимая через голову стихарь, первым припустился с горки. Словно ему пятки поджигали. Но у ворот поймали его сестры Розочки вместе со стаей других богомолок.
– Духовный отец, умоляем идти с нами, умоляем не смешить людей... Вы сегодня ночью многовато приняли...
Бельскис оторопел:
– Да кто вы такие?
– Мирские монашенки.
– Куда меня ведете?
– К канонику Бакшису. В гости. На ночлег.
– Брысь, блошки святого Франциска! – рассвирепел Бельскис, но сестры Розочки не струхнули, вцепились в рукава сутаны и повели из ворот, поклявшись обломать рога бесенку пьяного ксендза. Но бесенок Бельскиса оказался шустрым. Наклонил старика всем весом к земле, руки вызволил, опять приподнял и кинул его наутек...
Подбежав к каменной ограде, Бельскис задрал сутану и пустил струю – так молодое пиво вышибает из бочки затычку...
– Иисусе!
– Содом!
– Юдоль плачевная! – вопили богомолки, разбегаясь куда глаза глядят.
– Курицы! Квохтушки несчастные! – кричал Бельскис им в спину. – Разве ксендз не человек, разве ксендз не мужчина? – и всем кукучяйским зевакам огласил с амвона: – Стар я. Стар. Но силен как бык. Много могу съесть, много выпить и рассудок при том не теряю. Лишь один недуг истязает меня, братья и сестры. Пузырь уже не тот, что был. Далеко не тот, вы уж меня простите.
Вскоре похоронщики снова повалились на телеги и с грохотом понеслись по улице. Застоявшиеся лошади мчались, будто сорвавшись с привязи. Только теперь впереди всей этой дьявольской свадьбы летел господин Мешкяле, отдав вожжи батраку Мотеюсу, одной рукой придерживая пани Милду, а другой обнимая Мартину. Под аистовым гнездом Ванагаса, где когда-то Горбунок остановил свадьбу графа Карпинского, случилось нежданное-негаданное. Точь-в-точь как тогда, Кулешюс с гармоникой и кучей мальчишек да пареньков перегородил дорогу и, заставив лошадь Мешкяле взметнуться на дыбы, загорланил:
Милда с барышней вдвоем —
Вот для Балиса услада...
Пусть викарий подождет,
Балиса женить нам надо!
Свадьбу мы закатим все —
Не одну, а целых две! —
подхватили Зигмас и Напалис.
Вскочил Мешкяле на телеге во весь рост, словно святой Илья, меча громы да молнии:
– Прочь с дороги, собачья свора!
Аллилуйя! Знают все:
Женится матерый волк,
Женится матерый волк
На овечке и лисе.
Мешкяле, позеленев, выхватил кнут из рук Мотеюса, замахнулся:
– Прочь! С дороги!
Хитрую лису ты с пути своди,
Овцу к алтарю веди.
В сваты Бельскиса зови,
А меня в гробовщики!
Свистнул кнут Мешкяле. До Горбунка не дотянулся, но лошадь напугал. Бросилась лошадь вперед во всю прыть, шмякнув Мешкяле на колени к пани Милде, и умчалась. А вслед за ними и другие лошади – с фырканьем да ржанием. Хохоту было бы, пожалуй, не меньше, чем в тот год свадьбы графа, но бабы босяков, сбежавшись к телегам, уже успели увидеть глаза Мартины. Почудилась им ее мать Ядвига, как живая.
– Иисусе, дева Мария! Иосиф святой!
Одни крестились, у других ноги подсекло, а дети да пареньки не посмели больше рта разинуть, поскольку Розалия, злющая, будто ведьма, разоралась:
– Тс-с, ироды! Негоже над сиротой смеяться!..