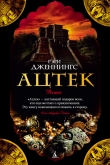Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
4
В избе сапожника – лишь унылый стон хворой Марцеле.
Обегал бесенок Гужаса вдоль и поперек Кукучяй, пока не смекнул, в чем загвоздка. Что же делать Горбунку в городке-то? Ведь любители его песенок – босяки – сейчас на строительстве жемайтийского шоссе потеют. Стоит ли веселить впавших в детство стариков, которые, близясь к могиле, отпустили своих бесенят на покой и теперь слушают, высунув языки, сладкие речи этого порося в сутане о вечном блаженстве...
Обнаружил полицейский бесенок разыскиваемого уже за полночь на мельнице в Андрайкенай, спящего вместе с крестником Зигмасом возле кошловины жерновов. Будто мертвые оба. Горбунок надрался. Ребенок умотался. Оказывается, мельник Каушила двух дочек замуж выдает. На пятые сутки свадебники повалились где попало. Для музыкантов места в избе не нашлось. Что будет завтра утром, когда свадебники продерут глаза – даст скупердяй Каушила опохмелиться или нет?.. Если и не даст, плату за музыку все равно надо забрать, как договаривались, – половину куличной мукой, а половину водкой. Вдобавок, их зовут в Скудутишкис. Пожалуй, до осени дома побывать не удастся.
Видит полицейский бесенок, что дело худо. С хмельным бесенком по-хорошему не договоришься. Хоть он и твой двоюродный брат. Надо совесть Горбунка пронять не словом, а сном. Поэтому птицей слетал в Кукучяй, принес оттуда стоны Марцеле и, для верности, хрустнул сваями старой мельницы да рявкнул голосом Синей бороды:
– Вставай, безбожник! Прощайся навеки!
Вскочил Горбунок, будто ужаленный, и разбудил Зигмаса:
– Я пошел.
– Куда?
– Домой.
– Что случилось?
– Марцеле умирает.
– Иисусе! И я с тобой...
– Нет. Ты остаешься. У Каушилы муки завтра утром не бери. Все водкой потребуй. Скажи – на поминки. Для тетушки.
И убежал Горбунок с гармоникой на плече. Казалось ему, что это не ноги его несут, а она, проклятая музыка...
– Марцеле, Марцелюте, – повторял всю дорогу, а душа полнилась раскаянием в своей беспутности и священным гневом на Синюю бороду, на этого дьявола, который напугал его жену так, что та даже слегла.
Слава богу, Марцеле стонала. Значит, еще жива. Но как застрял Горбунок в своих сенях среди баб, так и ни с места. Набросились на него бабы, будто вороны на ястреба:
– Пьянчуга!
– Скотина!
– Ублюдок!
– Где глаза твои? Где совесть? Баба умирает, а ты водку хлещешь по свадьбам, будто пес паршивый, шлендаешь. На своей гармонике проклятой наяриваешь!
– Ирод!
– Чтоб ты провалился!
– Чтоб ты скис!
– То-то. Ага! Такую женщину в могилу свел, и что теперь делать будешь?
Сапожник присел на корточки, за голову схватился:
– Фельдшер где? Аукштуолис?
– Ишь, когда допер!
– То-то. Ага! Задним умом крепок.
– Без тебя позвали!
– Да будь ты проклят, злодей!
Так и затюкали бы бабы босяков Горбунка. Спасла Марцеле:
– Йонялис, ради бога... Зови ксендза. Не выдержу больше!
Сама гармоника вырвала его из бабьей толпы, по воздуху унесла в настоятелев дом. Однако Антосе даже двери не открыла. И не поверила его мольбам:
– Проваливай! Настоятель болен.
– Что же мне делать-то?
– Беги в нижний дом. Буди викария.
В нижнем приходском доме еще не спали. Дверь открыл органист Кряуняле, пьяный вдрызг.
– О! Долгожданный гость! Милости просим.
– Некогда. Баба умирает.
– А пускай ее умирает. Баб – до черта, а настоящих музыкантов – на пальцах сосчитать! Нам умирать нельзя. Нам надо опохмелиться! Викарий! Этот музыкант пришел, который ксендзов и господ без ножа режет. Хочешь познакомиться?
– Пусть войдет.
– Не войду! – взвизгнул сапожник. – Перестаньте шутки шутить!
– А кто же ты еще? – рассердился органист. – Зачем тогда музыку с собой притащил?
Только теперь Горбунок почувствовал у себя на плече гармонику. Тяжелой она показалась, будто из свинца.
– Ага! Поймал на вранье! – вскрикнул Кряуняле и, схватив за ремень гармоники, затащил Горбунка в дом да потребовал приветствовать песней викария, который, едва живой, клевал носом за столом.
– Не могу, – возражал Горбунок, одурев от блаженных запахов.
– Почему не можешь?
– Бесенок мой куда-то подевался.
– Объявится! – и, наполнив стаканчик вином, влил в глотку Горбунку. – Не бойся, не освященное. Краденое. Из погреба Бакшиса! А теперь спой! Восславь викария Жиндулиса или валяй к Бакшису, чтоб он твою бабу соборовал.
– Недурно сказано! – загоготал викарий.
Загорелись щеки у Горбунка. Медлить было нельзя. Он сорвал гармонику с плеча и, заставив ее завизжать девичьим голоском, сердито запел:
Бакшис старый в рай идет,
А Жиндулис в хлеву ржет!
Ржет в хлеву Жиндулис милый,
Круп его давно уж в мыле...
Так трудиться ведь негоже,
Дай ему здоровья, боже!
Дай здоровья для овечек,
А Кряуняле для певичек...
Горбунок навалился грудью на гармонику, растеряв все свое остроумие, и жалобно застонал.
– Чистую правду говорит! – сказал Кряуняле и наполнил три стаканчика вином: – Примем еще, викарий, и потопали.
– Куда?
– К бабе.
– Мне нельзя. Пускай Бакшис топает.
– Бакшис не может. Болен. На тебе теперь все обязанности.
– Ладно. Выпьем. И потопаем.
Выпили все трое. Кряуняле и Горбунок встали, а Жиндулис – нет. Жиндулис вдруг рассердился. Вспомнил про песенку. Как смеет этот горбатый дьявол над ксендзом издеваться? Разве квартира викария – хлев? А сам он разве жеребец? За такие слова, по правде, надо бы язык выдрать.
Нам нельзя
Без языка...
Без него
Мы как треска! —
попробовал обратить все в шутку Горбунок, но ничего не вышло. Жиндулис вломился в амбицию и спрашивал дальше:
– Известно ли тебе, темный ты сапог, что ксендз ради своего призвания, если надо, должен отречься от всего на свете: от любви, богатства, матери, родины?!
Тебя, здоровяк,
Легко не возьмешь!
Ты бога продашь,
А к черту пойдешь! —
сами вылетели у Горбунка слова вместе с поросячьим визгом из мехов гармоники. Его пьяный бесенок проснулся-таки наконец!
Побледнел Жиндулис, будто мел. Схватился за нож. Хотел полоснуть по мехам гармоники, но Кряуняле цапнул его за руку.
– Я же тебе говорил, Стасис, – он сущий черт! Не принимай близко к сердцу.
– Я покажу ему смеяться!
Воля черту смеяться,
Воля богу гневаться,
Воля тебе, Жиндулис,
Святым оставаться!
– Перестань, Кулешюс, – взмолился органист. – Разве не видишь, что викарий молод да зелен. Шуток не понимает!
– Молод – постареет, глуп – ума не наберется. Ничего путного из него не выйдет!
– Выйдет! Я пробьюсь! – не сдавался Жиндулис, которого вдруг проняла недобрая икота.
– Пробьешься. Выйдет, – успокаивал его Кряуняле, с хитрецой подмигивая при этом сапожнику. – А что мы с Кулешюсом тебе говорим? Да поможет тебе господь! Вставай. Только гляди в оба, чтоб раньше сроку колени не преклонить!
– Не преклоню. Пойду.
– Иди. Далеко пойдешь. Так что примем все втроем и потопали к бабе Кулешюса.
– Не потопаю. Ненавижу баб.
– Давай, Кулешюс, выведем святого на двор. Худо ему.
Музыканты, чокнувшись, выпили и вывели Жиндулиса на свежий воздух. Когда тот малость оклемался, все трое, взявшись под руки, дружно двинулись к костелу. Возле ограды догнал их Нерон, хотел было залаять, но разглядел, что все свои, и успокоившись засеменил за ними.
Долго шли, немало натерпелись, пока Кряуняле выпросил ключ у звонаря Антанелиса, пока дверь отперли, пока, отыскав ризницу, надели на викария стихарь, пока тот достал святые дары...
Пели третьи петухи, когда они зашагали по улице. Чуть было не удалось втихаря прошмыгнуть мимо дома богомолок. Но черт пустил кота Швецкуса поперек дороги. Нерон – за котом. Кот – на дерево. Пес раззявил глотку. Кряуняле стал его унимать. Вот тут-то и началось... В окнах расцвели пышным цветом двойняшки Розочки. Весь дом воспрянул ото сна. Вскочил и Гужас, разбуженный от крепкого сна собственным бесенком. Высунул голову из окна. И глазам своим не поверил. Конец света, не иначе, если безбожник Горбунок под ручку с ксендзом в свой дом направляется. Схватил галифе, сапоги, чуть было не прослезился. Не только Гужас, все, кто их видел, выбегали из домов и следовали за тремя мужчинами да четвертой собакой... Богомолки опередили их, дружно бросились во дворе на колени. Крестились да молились за умирающую Марцеле.
– Господи, то есть человек, то нету.
Горбунок робко приоткрыл сенную дверь.
– Марцеле, мы уже тут. Можно войти?
Ответа не было. Сени пустовали. Тишь да темень. Горбунок робко перешагнул порог, нашарил следующую дверь и, открыв ее настежь, зарыдал:
– Марцеле, прости...
Изба набита битком. Но ни одна баба не бросилась зверем на него. Подбежала к нему пышущая жаром Веруте Валюнене, обняла:
– Благодари бога. Марцеле победила.
– Не умерла?
– Нет.
– Ирод! – вскричала Розалия. – Сына она тебе родила. Опору на старости лет!..
– Брось заливать!
Но тут же раздался пронзительный крик младенца. Горбунок вкатился в избу и увидел то, чего уже не надеялся увидеть в своей избе. Фельдшер Аукштуолис держал младенца, взяв за ножки. Подбежав на четвереньках к кровати, Горбунок уткнулся лицом в ладони Марцеле:
– Куда теперь ксендза деть?
– Веди сюда. Наш ребеночек малость придушенный родился. Пускай окрестит...
У органиста и викария голова пошла кругом. Глаза выпучили, норовя тут же удрать. Но Горбунок загородил дверь, раздвинув меха гармоники:
Благослови, Жиндулис, сына моего,
Пускай Марцеле счастливо живет!
– Где же крестные, безбожник? – закричал органист, первым пришедший в себя, вынул из-под мышки кропило и откупорил зубами пузырек со священной водой.
– Мы побудем, – сказала Веруте Валюнене, остановившись рядом с фельдшером, потому что викарий, долго не ожидая, уже кропил им на ноги:
– Во имя бога...
– Имя? Каким именем наречете? – крикнул Кряуняле.
– Пускай будет Пранас, – ответила Марцеле. – Как наш доктор... О, господи! Йонас!.. – охнула она.
Викарий-то вдруг попятился!.. Пятился раком, пока органист не схватил его под мышки и не поволок к двери. Однако дверь была не в той стене. Слава богу, что Горбунок встрял между ними, ловко развернул и вместе со священнослужителем нырнул в сени. Из сеней – пулей на крыльцо. Дальше не успели, потому что викарий вцепился в столбик крыльца, взревел голосом дьявольским да изверг струю смолы адовой...
– Иисусе! Дева Мария!
Бабы вскочили с колен, а мужики вместе с Гужасом спросили:
– Что случилось-то?
– Ничего страшного. Нуль, – лепетал органист. – Шли к умирающему, угодили к новорожденному... Викарий у нас слабенький. Душок от новорожденного... Пардон.
– Да... Вот-вот... Чтоб его... – икал викарий.
– Кыш, пьяницы, с глаз долой! – обидевшись, закричал Горбунок. – От вас самих душок! Не от моего сына!
– Как ты смеешь нас оскорблять! – рассвирепел Кряуняле. – Знаешь, кто ты такой? Знаешь, кто мы такие?
Оттого Кряуняле спился,
Что Христос у нас родился! —
затянул Горбунок, наигрывая рождественский марш. Беда только, что органисту и викарию не удавалось ступать в такт. Шатались, будто два голубя, обожравшись моченым в водке горохом...
Двойняшки Розочки крестились, а род мужской... у Гужаса бесенок первым с привязи сорвался, а вслед за ним даже древние старики, вспомнив о своих бесенятах, захохотали... Нерон, и тот поджал хвост, глаза потупил и, чихая, засеменил домой.
5
В воскресенье Жиндулис по причине болезни не говорил проповеди, зато Горбунок, явившись после обедни к костелу, принялся витийствовать, призывая верующих от имени всех пьяниц – отцов и рожениц – помолиться за легкую руку Синей бороды и здоровье Жиндулиса. Потом пригласил баб, стариков и детей босого племени на крестины своего первородного сына Пранаса. Похвастал, что чертова зелья да сладкой репы хватит на всех. А хлебушек лучше с собой принести, потому что всю рожь в поместье Кулешюса сожрали белые ученые мыши. Если кто не верит, то одну мышку его крестник Напалис изловил и может задарма показать цирк перед тем, как босяки за стол сядут, дабы здоровый смех облегчил внутренности от скверного воздуха, а головы – от грустных мыслей...
Так оно и было. Первая часть программы крестин всем пришлась по вкусу, потому что белая мышка Напалиса, которую звали Юлой, вытворяла истинные чудеса. Плясала, когда он хлопал, пищала, подвешенная за хвост, бегала по рукам-ногам Напалиса да по натянутой веревочке, и до тех пор штучки выкидывала, пока у собравшихся не заболели животы и лбы от хохота.
– Иисусе, Иисусе, кем этот ребенок станет?
– Дай боже, чтоб живым да здоровым вырос.
– То-то, ага.
После представления Напалис, сунув белую мышку за пазуху, разделил детворе девять реп и пригласил взрослых гостей за стол, ломящийся под тяжестью яств: Веруте Валюнене принесла пирог, что сама испекла, Пумпутене – семь яиц, Розалия Чюжене – полтора козьего сыра да хлеба каравай, ее младший сын Рокас – щуку в три пяди длиной, которую Мейронене еще жарила, и поэтому изба полнилась таким чудесным запахом, что у босяков слюнки потекли. Зигмас заиграл на гармонике, и Горбунок торжественно вынес из сеней три бутыли дьявольского зелья, заработанного в поте лица на мельнице, и похвастал, что со свадьбы дочек мельника капли не взял, берег сумасгонку для крестин, одним блаженством от рождения сына тешился. За эту неслыханную выдержку Розалия от имени всех баб похвалила сапожника и первую рюмочку подняла с пожеланием доброго здоровья да красоты его отпрыску. Горбунок тут же прослезился. И хвалился своей Марцеле, которая в чулане кормила Пранукаса.
– Да будет, Йонас, – успокоила его Розалия. – Она свое сделала. Главное, что отец трезвый все это слышит. Ему-то ведь сына честным да здоровым вырастить придется.
– Спасибо тебе, – впервые в жизни всерьез сказал Горбунок и чмокнул в щеку Розалию, а потом и крестную мать своего сыночка.
Все было так чудесно, так торжественно... Хоть возьми да заплачь. Но когда Розалия рюмочку опрокинула и закатила глаза, когда Горбунок сказал: «Бог в помощь!..» – случилось неожиданное! Розалия выхватила бутылочку из рук Горбунка да шваркнула на пол:
– Ирод! Мы тебе сердце показываем, твоему ублюдку счастья желаем, а ты нам – кукиш?! Бабы! По домам!
У Горбунка руки-ноги онемели, язык отнялся, потому что в ту же минуту и он, и все, у кого нюх не отшибло, учуяли, что в избе не водкой, а тухлой водичкой запахло, самой что ни на есть лягушкой...
– Зигмас, что ты принес?!
Бабы босяков чуть было не убежали в дверь, смертельно оскорбившись, но Зигмас зарыдал, клянясь, что он не виноват, если мельник Каушила – надувала, что он не виноват, если Горбунок, его крестный, хоть и горький пьяница, строго-настрого запретил ему прикладываться к тонкому горлышку...
Розалия осталась вместе со всеми бабами за столом. Увидела, что питомец Горбунка не брешет, что собрался уже в Андрайкенай бежать да Каушилу вниз головой повесить, а всю его мельницу спалить дотла. Что же, и Каушила не так уж страшно виноват... Ведь две свадьбы гуртом играли. Целую неделю гости водку глушили. Диво ли, что в последний день не хватило? Нечего было музыкантам давать... Только не надо было Каушиле Зигмаса надувать. Зигмас – это вам не Горбунок. Смертный грех ребенка обманывать. За такие дела Каушиле придется после смерти кипящую смолу вместо водки пить...
– Не плачь, Зигмас.
– Было тут чего...
– Велика печаль!
– Водичка еще здоровей.
– То-то, ага. Не придется опохмеляться.
Между тем и Марцеле вышла из чулана, убаюкав младенца. Не понимая, в чем дело, набросилась на мужа за то, что он соседей дорогих не угощает.
Что же делать-то? Не станешь ведь объяснять роженице, какая беда в дом нагрянула, как осрамился ее муженек со всеми крестниками... Уселись бабы, не зная, куда глаза со стыда девать, но Зигмас, смахнув последнюю слезинку, сердито пробежался по кнопочкам гармоники и весело запел:
Крестному отцу беда —
В рюмках пусто, да-да-да!
В рюмки нечего налить, —
Может, воду гостям пить?
Не успела замолкнуть гармоника, как его младший брат Напалис взвизгнул:
Крестной матери беда —
Нет конфеток, да-да-да!
Детям нечего ей дать, —
Может, палец нам сосать?
Захохотали бабы да дети. Веруте зарделась, будто маков цвет, а крестный отец фельдшер Аукштуолис достал из заднего кармана брюк бумажник, швырнул на стол две серебряные монетки по пять литов и закричал:
От крестной – сласти!
От крестного – хмель!
От Рокаса Чюжаса – быстрота ног!
Когда Рокас с узелком умчался к Альтману, Зигмас с гармоникой да Напалис со свирелью принялись возбуждать аппетит. Беда только, что без чертова зелья козий сыр был жестковат, хлеб твердоват, пирог суховат, а яйца – крутоваты. Ничто в горло не лезло. Только тешила сердце музыка сыновей Кратулиса. А глаза баб волей-неволей низали крестных. Ну и ладная же вышла бы пара, ну и бойкая же, если бы сын Валюнене, словно тень отца своего Миколаса, не сидел в углу, бесенят на ногах покачивая... Ах, господи, давно ли в той же самой избе Кулешюса, на той же самой скамье на свадьбе Горбунка Веруте была подружкой Миколаса Валюнаса... Косточки Миколаса, может, уже истлели, а глаза его Веруте на другого смотрят, да и сердце ее, чего доброго, к крестному отцу льнет... Ведь в самом она соку, в самой бабьей силе!
– Иисусе, Иисусе, Иисусе...
– Не говори – она святая, раз под одной крышей с чужим мужиком живет, а соблазну не поддается.
– Как знать, как знать... В ее шкуре ты не была.
– То-то, ага.
– Вы мне не говорите. Отведавший мужик такими светлыми глазами на бабу не смотрел бы. Да еще безбожник, впридачу.
– То-то, ага.
– Так может глядеть только беспорочный ксендз, не давший воли своей плоти.
– Не дал, так даст.
– Дело говоришь. Где сила плотская, там воля дьявольская.
– То-то, ага. Мужик – набожный или безбожник – один хрен. У всех черт на уме, все к юбке льнут, будто ужаки к меду.
– Хо-хо.
От бабьих взглядов да шушуканья Веруте все пуще краснела, а Аукштуолис бледнел, вытирая ладонью запотевшее оконце, и ждал Рокаса, как спасения. Когда тот влетел с покупками, все ожили. Веруте раздавала детям да бабам конфеты, Аукштуолис разливал вино и приглашал всех выпить.
До вечера бабы, спустив на плечи платки, прикладываясь к сладкому винчишку, хвалили младенца, а больше всего Марцеле, которая всем пожилым бабам нос утерла... В сумерках, когда Зигмас зажег коптилку, бабы стали проезжаться насчет Йонаса Кулешюса, допытывались, как это у него на старости лет получилось – одолжил у кого бесенка для этого святого дела или самолично управился?..
Кулешюс будто воды в рот набрал, сидел туча тучей. Зигмас решил снова выручить своего опекуна и веселой музыкой бабье любопытство заглушить. Но как ты, дитя малое, заглушишь бабью тоску, которой столько накопилось за все лето и осень, пока мужья-работяги отсутствовали. Хмельное вино распалило кровь, и бабы, подзуживаемые бесенятами, не умещались в своей шкуре. Пока Зигмас пел, они только глазами сверкали, а когда перестал, опять языку волю дали. На сей раз, правда, привязались не к Кулешюсу, а к Аукштуолису. Почему кум так далеко от кумы сидит? Может, он крестнику своему худа желает, хочет, чтобы крестник вырос редкозубым?..
Сколько ни придвигался Аукштуолис к Веруте, бабам было мало. Веруте, сама не своя, сказала:
– Да хватит этой близости.
Но бабы кума в покое не оставляют, дивятся его неуклюжести, спрашивают, может, он своего бесенка потерял, раз голоса кумы слушается, а не ее сердца и глаз.
Растерявшись, Аукштуолис возьми и чмокни Веруте в щеку. Бабы босяков разразились хохотом. Розалия встала за столом, подбоченилась и, набрав воздуха в могучую грудь, запела:
Кум куму поцеловал,
Да спасибо ей сказал,
Жмись к куме поближе, кум,
Чтоб кума взялась за ум.
Покраснел Аукштуолис до корней волос, обнял Веруте Валюнене. Та поначалу ерзала, не давалась. Но когда Аукштуолис губы ее отыскал, понравилось обоим. Целовались, пока дверь избы не хлопнула.
Все повернулись на звук. Может, сквозняк? Но Веруте тут же хватилась своего сыночка:
– Андрюс! Андрюкас!
А того и след простыл. Веруте хотела за ребенком погнаться, но бабы удержали. Мало ли что могло ему померещиться. Не маленький. Вернется, никуда не денется.
Но Андрюс все не возвращался. Веруте сидела как на иголках. От нее и Аукштуолис заразился тревогой. Ничего не попишешь. Кумовья убежали искать ребенка. Все веселье крестин испортил этот воробей. Бабы долизали вино, но хорошее настроение не возвращалось. Одни ребенка честили, зачем убежал, другие – мать, зачем за ним погналась. Розалия защищала обоих, потому что оба были несчастны: одна – без мужа, другой – без отца.
Бабы долго не могли дождаться кумовьев. Распустили было языки, но когда увидели лицо вернувшейся Веруте, сразу приумолкли. Валюнене ни плакать не могла, ни слова вымолвить. Лица на ней не было. Один Аукштуолис пытался ее утешить и, не находя других слов, повторял:
– Все будет хорошо. Все.
Встали из-за стола бабы вместе с ребятами и отправились на поиски мальчонки. Разбежались по огородам, полям да лесам. Вороной каркали, кукушкой куковали. А мальчонка будто в воду канул. Под утро, выбившись из сил, все опустили руки, а Розалия побежала к Гужасу.
Гужас, пыхтя, отправился в участок и налег на телефон.
Трое суток прошло, а об Андрюсе ни слуху, ни духу. Богомолки уже молитвы творили за невинную душу, проклинали Горбунка, этого посланца ада и его кума, безбожника фельдшера, да вспомнили грозные слова синебородого монаха.
На четвертый день, слава богу, позвонили из Лабанорского лесничества в участок, что лесник обнаружил в глухомани ребенка, бледного и тихого, похожего на цыганенка, но лабанорский табор его своим не признал. Знаменитая гадалка из Кривасалиса Фатима попыталась разузнать, кто он, куда идет и кого ищет. На первые два вопроса мальчонка промолчал, а на третий ответил примерно так: «В Вильнюс иду. Ищу польскую границу. Попробую разыскать отца». И больше ни слова. Фатима попробовала усыпить его и разузнать всю правду. Тщетно. Заговоры Фатимы на него не действовали. Молчал он, как стена, и даже глаз не сомкнул.
Гужас запряг лошадь и на следующее утро доставил беглеца домой. По этому случаю все бабы босяков сбежались во двор Валюнаса, страшными словами проклинали Андрюса, угрожали посадить на железную цепь:
– Где твоя голова?
– Где совесть?
– Молодую мамашу в могилу сведешь.
– То-то, ага. Пока одного будешь искать, другую потеряешь.
Только мать без слов покормила его, уложила спать и на другой день сама отвела в школу. Молча. Андрюс думал, что по дороге она заговорит. Не дождался. Чем ближе к школе, тем хуже ему становилось. То ли от молчания, то ли от синевы под глазами матери.
– Цыганенок вернулся! Цыганенок! – распустили глотку первоклассники.
Дети кричали до тех пор, пока не появилась в дверях класса учительница Карнюте. Все ждали, что она станет ругать Андрюса. И Андрюс ждал. Но учительница даже не насупилась. Подошла к Андрюсу и, гладя его вихор, попросила:
– Пожалуйста, цыганенок... Если еще захочешь когда-нибудь пойти искать Вильнюс и отца, возьми меня с собой. Обещаешь? Хорошо?
Андрюс сам не понял, что с ним стало. Вдруг уткнулся учительнице в грудь и заплакал. Может потому, что глаза у учительницы были добрые, а руки душистые, мягкие, будто из бархата?.. Откуда ему знать?..
После этого памятного всем случая Андрюс еще больше изменился – совсем затих, замкнулся в себе. Самое любимое занятие для него теперь было рисование. Жилец его мамы фельдшер Аукштуолис под осень привез из Каунаса подарки – множество цветных карандашей и коробку водяных красок с четырьмя кисточками. Попробовал Андрюс раскрашивать белую бумагу и забыл все на свете. День-деньской рисовал карандашами или водяными красками. Больше всего цветы. Но цветы у него получались похожими на людей. Тюльпаны – на заколдованных принцесс, лилии – на невест, бегонии – на жирных старух, гвоздики – на церковных служек, пионы – на кукучяйских пьяниц, георгины – на полицейских...
Все девочки школы налюбоваться не могли на рисунки Андрюса и подсовывали свои тетрадки, прося нарисовать им новые цветы. И Андрюс рисовал: и в школе, и дома... И каждый раз выдумки у него хватало. Когда перерисовал цветы садовые, взялся за полевые, когда и те кончились, брал из головы – такие дивные, что Дед—Мороз на окнах не нарисует. Не зря бойкая Кратулисова Виргуте назвала их гренландскими лилиями. Кстати, она первая и заметила, что невиданные цветы Андрюса лучше всего цветут в тетради Евы Крауялите, хотя эта пятерочница из третьего класса и хвастала, будто сама их дома рисует. Никто ей не поверил, поскольку девочки из третьего класса были не слепые, видели, что на уроке все цветы у Евы выходят вроде раскрашенного лопуха. Однако Ева не моргнув глазом твердила свое, отчего начались споры и зависть. Третьеклассницы раззвонили на всю школу, что Андрюс Валюнас втюрился в Крауялисову Еву...
Андрюс обиделся и с той поры рисовал лишь для себя. Не только цветы, но и птиц, животных и зверей. Все, что видел, о чем слышал в сказках, или что ему снилось.
Веруте Валюнене, наглядевшись на рисунки своего ребенка, за недели рождественского поста выткала покрывало, какое ни для кого еще не делала: на голубом небе парила парочка красноногих аистов, а по краям этой голубизны по реке разноцветных тюльпанов летели золотистые пчелки.
На рождество кукучяйские бабы сбежались к Валюнене полюбоваться на это диво. Охали да ахали, радовались и завидовали, а, выйдя из избы, одни тихо, другие громко твердили:
– Начался у Веруте медовый месяц.
– Да поможет ей бог. Десять лет постилась. Хватит.
– То-то, ага.
Богомолки тут же помчались к настоятелю – доложить, что происходит в доме Валюнене. Но ответа должного не получили.
– Не то его заботит, беднягу.
– Дело говоришь. Ожиданием Мартины жив.
– Старый грех боками прет.
– Не знаете, как там с ксендзами бывает после смерти? Всевышний их по той же мерке карает, как нас, простых людей, или нет?
– Наш Бакшис – каноник. Получит послабление.
– Ох, господи, хорошо же ксендзам – и живым и мертвым.
– То-то, ага. Не то, что нам – босым да голым.