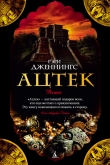Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
4
Весь конец лета и всю осень бабы ломали голову, кто же был этот несчастный самоубийца, которого Пурошюс с Анастазасом закопали рядом с Гарляускасом да ногами могилу утрамбовали? Так ничего и не придумав, вздыхали, молились и каждую ночь видели страшные сны. Проснувшись, неслись впопыхах к Розалии и опять голову над этой загадкой ломали, пока Умник Йонас, обняв свою «радию», не выгонял их всех на двор. Слава богу, у этой чертовой говорилки на рождество что-то в середке испортилось, и Умник Йонас в поисках причины перепутал день с ночью. Возвращаясь домой с посиделок, бабы босяков стали замечать, что на пригорке висельников торчит привидение, присохнув к белой березе наподобие огромной губки. Раз... Другой, третий... Попробовали бабы крестным знамением его отвадить. Не помогло. Что же делать? За какие такие грехи душу висельника ни ад не принимает, ни чистилище? Баба Петренаса пробежалась вдоль-поперек по городку, собрала денежки. Отнесла к Жиндулису, заказала заупокойный молебен. Подействовало. Господь бог сыпанул с небес снегом, сугробы навалил до пояса и лютые морозы напустил. Перестало привидение являться к белой березе. Городок начал забывать про него, но черт попутал сестер Розочек в ночь на крещение продуть заиндевелые оконца своей избенки да на восход луны поглядеть. Глядят-глядят обе и глазам своим не верят. На пригорке висельников белый призрак из-под земли проклюнулся да белый клуб пара испустил... Набросили двойняшки на себя платки, надели валенки и побежали к кладбищу. Подползли на четвереньках к воротам, дружно перекрестились и спросили:
– Чья ты душа и чего ты желаешь?
Только баран заблеял в ответ. Еще больше разобрало любопытство сестер. Будь что будет! Взялись они за руки да побрели по сугробам вперед. А тут как зарычит чудовище дурным голосом, как побежит с горки, вздымая к небу белый снег! Пустились двойняшки вдогонку, и следы привидения привели их к баньке Швецкуса. Вот тут и мелькнула у обеих двойняшек сразу мысль, что Стасе Кишките уже давным-давно в костел не приходила и даже к рождественской исповеди не явилась. Не продала ли часом душу дьяволу эта девка, не снюхалась ли со скверной душонкой висельника-цыгана? Стук-постук сестры в дверь:
– Стасите, одна ты или нет, отзовись!
– Кто там?
– Мы.
Загрохотало что-то в баньке, упало... и вдруг заблеял кто-то, запищал... И не баран вроде. Ягненок.
– Чего вам?
– Пусти.
– Не могу.
– Почему?
– Ребеночка боюсь застудить.
– Какого ребеночка?
– Своего.
– Стасите, побойся бога. Не впустишь – баньку подпалим.
– Ах вот как!..
Хлопнула дверь. Выскочила Стасе в одной сорочке, босиком да с кочергой. Двойняшки завизжали не своими голосами и дай бог ноги, словно за ними дюжина чертей погналась. У гумна Швецкуса отдышались и увидели, что белое привидение выскочило из-за угла да в городок улепетнуло. Зря, оказывается, они Стасе заподозрили, что та с нечистой силой путается. Чего доброго, там Пятрас Летулис был. Хоть вернись назад да извинись перед девкой. Скоро сюда сам Яцкус Швецкус с фонарем прибежал и без труда обнаружил место, где мужчина стоял и мочился, а самое страшное – три обгорелые спички нашел. Устыдившись, двойняшки Розочки побрели по сугробам домой, а Яцкус Швецкус, целую ночь пробродив вокруг своих построек, спозаранку примчался в участок и стал уверять господина Мешкяле, что Алексюс Тарулис хотел его гумно поджечь. Не кончил Яцкус Швецкус своего рассказа, потому что Мешкяле вдруг схватил его за отвороты, и, встряхнув как следует, спросил, дыша перегаром:
– Хватит туман наводить. Говори по-хорошему, какие нелегальные связи поддерживаешь со Стасе Кишките, своей бывшей батрачкой?
– Бог видит. Не понимаю.
– Не поминай имя господа всуе, значится! Отвечай на мой вопрос.
– Иисусе. Начальник, ты давай попроще...
– Пускай будет попроще. Чего ты, ужак, всю осень и всю зиму почти каждую ночь у своей баньки вздыхаешь, что ты Стасе Кишките сообщаешь?
– Иисусе! Откуда ты знаешь?
– Я спрашиваю, Яцкус Швецкус, а не ты! Признавайся, или горько пожалеешь.
– Я Стасе Кишките образумить хочу.
– Не ври.
– Я в теплую избу зазвать ее хочу. Вместе с куделью. Можешь ли понять, что уже скоро год, как без бабы живу. Мое хозяйство вот-вот рухнет.
– Не води меня за нос.
– Кровь моя виновата, господин начальник. Кровь, – простонал Яцкус Швецкус, низко опустив голову. – Стасе мне приглянулась.
– Ни стыда, ни сраму! Баба твоя, кажется, еще жива?
– А что мне от ее живости-то? Какой прок? Какое успокоение?
– Может, даст бог, поправится?
– Это тебе не насморк, господин начальник.
– Всякое бывает.
– С другой стороны, возраст у меня уже не тот. Ждать не получается.
– Что люди скажут, что церковь?
– Мне на людей наплевать. А епископ разрешение бы дал, господин начальник. Взял бы я Стасе в жены вместе с ее ублюдком.
– Ты лучше прямо отвечай, что тебя связывает с отцом этого ублюдка Пятрасом Летулисом?
– Чего ты от меня хочешь, начальник?
– Правды, значится.
– Мог бы, удавил бы его собственными руками, крота проклятого, работягу темного!.. – И принялся Яцкус Швецкус последними словами честить Пятраса, пока Мешкяле не сказал:
– Хватит. Верю, значится. Не стоит горячиться, господин Швецкус. И без тебя найдется кому Пятраса удавить.
– Ты не думай, начальник, силенки у меня еще есть.
– Нам не твои силенки нужны, господин Яцкус. Нам твои глазки да ушки... Чем у своей баньки молиться да нам работать мешать, ходил бы почаще к своему свояку Блажису да выспросил осторожненько. Слыхал я, он задолжал своему бывшему батраку... Может, этот кабан чует, где сейчас Пятрас. Запомни, пока он не в наших руках, тебе и мечтать о юбке Стасе не стоит.
– Прости, начальник. Рассудок из-за нее помрачился. Сам бы мог догадаться. Слово даю, я его из-под земли достану.
– Иди домой и веди себя разумно, господин Швецкус. Насчет поджога не бойся. Вокруг твоего гумна наши люди ходят.
– Спасибо, господин начальник.
– Да не за что. Буду ждать тебя с добрыми вестями.
– Господи, не завидуй моему счастью.
Перед полуднем сбежались бабы босяков к Розалии, а потом все толпой повалили к баньке Швецкуса. Одни – с яйцами, другие – с хлебом, третьи – с сухими дровишками, четвертые – с холщовыми пеленочками. Чтоб лишний раз дверь не раскрывать, баньку не студить.
Покраснела, растерялась Стасе, дождавшись такой стаи баб, но Розалия ее тут же успокоила, расцеловав в обе щеки и сказав, что сын Пятраса – вылитый отец, что мужчина он что надо. Пока маленький – грудь матери будет сосать да колени топтать, а когда подрастет – сердце. Но разве ты, Стасите, исключение? У всех нас, баб, одна судьба, Так что остается лишь ради святого спокойствия да глаз людских окрестить сына. И наречь его надо Пятрасом. А крестными пускай будут – Веруте Валюнене и Алексюс Тарулис, друг твоего мужа.
– Пусть будет по-твоему, Розалия.
Закутала Розалия Пятрюкаса в тулуп, охая потащила святую ношу в нижний приходской дом. По дороге прихватила обоих крестных. Все шло как по маслу, пока Жиндулис, надев стихарь, не обратился к Веруте Валюнене:
– Правда ли, что вы живете в незаконном браке с господином фельдшером?
Веруте зарделась, слова сказать не смогла. Тогда Жиндулис на Алексюса накинулся:
– Как ты смеешь, будучи церковным слугой, с такой женщиной ребенка крестить? Кто будет растить разбойничьего сына в страхе божьем, если мать умрет?
– Я, викарий, – ответил Алексюс.
– Ты?! У тебя самого еще молоко на губах не подсохло.
Веруте – в дверь. Розалия цапнула викария за стихарь:
– Погоди, ксендз. Сейчас я тебе такую крестную мать приведу, что ты перед ней на колени станешь.
И помчалась Розалия в школу, взметая юбками сугробы, и притащила, схватив за руку, учительницу Кернюте в приходской дом. Простоволосую, перепуганную, все еще не понимающую, что же случилось. Жиндулис потупил воровато глаза и начал:
– In nomine partis...[24]24
Во имя отца... (Лат.)
[Закрыть]
Когда органист Кряуняле уселся за стол выписывать метрическое свидетельство, викарий снова приободрился. Злобно ткнув пальцем в бумажку, велел в графу отца ребенка вписать имя его матери Стасе.
– Святой отец, будь человеком. Зачем ребенку жизнь портить? – вскинулась, покраснев, Розалия. – Все босяки могут засвидетельствовать, что ребеночек от Пятраса Летулиса.
– А Пятрас Летулис какого мнения?
– Пятрас – человек чести. За него можешь быть спокоен, святой отец. Он порядочный, хотя его и в головорезы записали.
– Раз он такой порядочный мужчина, то пускай сам ко мне зайдет и свое отцовство подтвердит. Вот тогда и выпишем свидетельство на его имя. Будьте здоровы, женщины. Слава Иисусу Христу! – и викарий выскочил в дверь, будто кот, нагадивший в молоко.
– Ирод! Он с полицией стакнулся! Не поможет тебе бог! Не быть тебе нашим настоятелем! Ни одна баба босяков к твоей исповедальне не подойдет! Ни одна слова божьего с твоего амвона слушать не станет. Лицемер ты! Потаскун! Свояк Мешкяле!.. Пособник Чернюса!
Выкричала. Все выкричала Розалия, что на сердце лежало. Даже дурной пот ее прошиб, слабость охватила, отдышаться не могла. Возвращаясь, кумовьям пригрозила ничего Стасе не говорить, а сама еле-еле до своего дома дотащилась. Отворила дверь и рот от удивления открыла. Изба полна мужиков. А уж дыму – хоть топор под потолком вешай. Оказывается, Умник Йонас свою «радию» починил и сразу же дурную новость поймал. Что в Клайпедском крае волнения начались. Сейм босяков обсуждал, что будет, если Гитлер Литву займет – учредит ли, как думает Винцас Петренас, племенные пункты отборных мужиков да баб для улучшения арийской расы, как в своем краю сделал, или будет довольствоваться тем, что заберет у наших матерей маленьких детей для воспитания в своей вере.
Розалия сама не почувствовала, как взвизгнула:
– Вон из моей избы! Вон все! Хватит мне своей нервотрепки!
И схватилась за помело. Опрометью кинулись мужики из избы, а доброволец Кратулис, придерживая ногой дверь, громко заявил из сеней:
– Розалия, у тебя не все дома. На месте твоего мужа я бы из дому ушел. Йонас, забирай свою радию! Будем у меня заседать. Предоставляю тебе политическое убежище на эту ночь и пожизненно. Не в твоем возрасте такой шальной бабой управлять. Пускай она одна Гитлера ждет! Пускай родит еще дюжину работяг от отборных германских частей! Тьфу! А ну ее в болото, ведьму такую!
Чуть было не послушался Умник Йонас своего лучшего друга Юозаса Кратулиса, но Розалия отодрала его руки от двери, сунула себе под грудь и вполголоса сказала:
– Да куда ты пойдешь, дурачок? Лучше послушай, какой гость в твою избу стучится.
Побледнел Умник Йонас, на порожек присел. Ноги у него подкосились.
– Ты шутки брось!
– Успокойся, Йонукас. Что в борозде посеял, то в великий пост пожнешь.
– Не может быть.
– А до девяти сосчитать не умеешь? Только смотри у меня! Никому ни гу‑гу.
– Ты и впрямь с ума сходишь, Розалия.
– Помолчи, Йонукас. Будь добр... Вырастили семерых. Вырастет и восьмой. Боже спаси и сохрани нас от войны.
Схватился Йонас обеими руками за голову и замолчал, почувствовав себя малюсеньким, будто головастик. Что поделаешь! В семейной жизни тот же порядок, что и в мировом эфире. Чья станция слабее, того и зашибают, хотя бы и умнее всех была, или, попросту говоря, не поспоришь с бабой, когда та в тягости... Ах ты, гадюка полосатая, подловили тебя, Умник Йонас, как безусого юнца. Хоть возьми да в болото полезай. Каждый сопляк, извините за выражение, сможет теперь тебя похвалить да по плечу похлопать. А куда придется глаза девать, когда свои босяки дураки вокруг пустого стола усядутся да затянут «Многие лета родителю нашему»?
– Йонас! Йонукас, а какую веру этот Гитлер исповедует?
– Ту самую, что Люцифер.
– Люцифер хотел быть побольше самого бога. Он-то без веры был, Йонукас.
– И Гитлер такой же...
– Иисусе. Люцифера господь обуздал, а кто же этого обуздает?
– Не знаю.
– Так неужто Гитлера дождемся?
– Все может быть.
– Иисусе! Ирод, вставай. Садись к своей радии. Слушай! – вскричала Розалия и вдруг схватилась за живот, потому что «ум» Йонаса вдруг стал лупить ножками прямо по сердцу под такой военный марш, что дух захватило...
Тяжелая, лютая зима навалилась на землю. Положение в Клайпедском крае становилось все хуже. Становилось хуже и в Кукучяй. Заранка не переставал наведываться в участок, на санях, втянув голову в овчинный воротник, таинственный и грозный. Наверное, по его, ужака, наущению, Мешкяле вздумал вызывать к себе босую публику да задавать всевозможные вопросы про ночь накануне дня святого Иоанна, про стачку работяг, про Пятраса Летулиса и его семью. Гужасова Пракседа накануне 16 февраля похвасталась в школе перед пятиклассниками, что ее крестный, хоть тресни, поймает до весны разбойника Пятраса и тогда заделается большим уездным начальником. Пракседе не надо будет снимать в Утяне квартиру, когда придется ходить в гимназию. Кратулисова Виргуте, возмутившись, что Пракседа хочет нажиться на чужой беде, облила ее чернилами и обозвала ее крестного вором и убийцей, которого Пятрас Летулис скоро сотрет в порошок. Не только Мешкяле он сотрет. Всех Иуд и сволочей, которые ночью стоят на дороге у Летулиса, чтоб он не мог попасть в баньку Швецкуса к Стасе Кишките и своему сыночку.
Залитая чернилами Пракседа, вопя не своим голосом, помчалась домой и вскоре вернулась с матерью. Эмилия Гужене высыпала в угол горсть гороха и потребовала от учительницы Кернюте, чтобы та тотчас же поставила на колени преступницу Виргуте. Когда Кернюте не послушалась, обозвала ее потаскухой, выкинувшей сукой, кумой ублюдков и сама попыталась отвести Виргуте в угол. Ухо ей до крови исцарапала. Хорошо еще, что девочка – проворная, будто хорек – укусила госпожу Эмилию в грудь, убежала из школы прямо к своей крестной матери Розалии и рассказала ей все от начала до конца. У Розалии кровь вскипела. Выбежала простоволосая на двор, поймала по дороге из школы домой госпожу Эмилию и, уложив ее в сугроб, привела в чувство, всю пудру с лица стерла да всю прическу испортила. Дети, окружив помятую Гужене, нарадоваться не могли и кричали ура победительнице. Однако добрый час спустя Микас и Фрикас, с помощью Анастазаса, уже вели Розалию Чюжене в кутузку, а Тамошюс Пурошюс, встретив ее у двери, низко поклонившись, потребовал отдать ладанки.
– Ради бога! Почему?
– Дабы не повесилась и честным патриотам-католикам завтра праздник не испортила. Хе-хе.
– Смеется тот, кто смеется последний, ты, полицейская гнида! – ответствовала Розалия. – Я всем вам еще боком выйду. Всем! Иди и скажи своему начальнику, что сегодня ночью увижу его во сне, как он на одном осле с госпожой Эмилией скачет. Прямо в пропасть. А ты, Пурошюс, будешь привязан к хвосту этого осла. Вместе с Анастазасом и прочими легавыми вашего участка.
– Ой, как страшно! Я уже дрожу, Розалия. Посоветуй, что мне делать!
– Бросай свою собачью службу, пока не поздно. Исповедуйся у порядочного ксендза.
– Ты за меня не переживай.
– Не за тебя! За твоего Габриса.
– Чем тебе мой сын помешал, ведьма старая?
– Не приведи господи Иудой быть. Не приведи господи – сыном Иуды, – ответила Розалия, направляясь в кутузку. – Спокойной ночи, ирод. Чтоб у тебя кишки скрутило, между нами бабами говоря! Тебе и всем твоим дружкам!
Пожелания Розалии Чюжене чуть было не исполнились. В полночь возле участка грохнул адский выстрел. Один. Другой. Третий! Пурошюс решил, что это господин Мешкяле в пьяном виде салютует по случаю годовщины независимости или демонстрирует свою меткость перед воронами, которые с вечера, усевшись на высоком тополе возле участка, очень уж каркали – предсказывая оттепель или беду. Но вскоре прилетел запыхавшийся Дичюс и по приказу господина Мешкяле велел вставать. Оказывается, эти три выстрела были пущены неведомой рукой в окно комнаты Мешкяле. Слава богу, хозяин покамест еще жив, хотя одна из пуль угодила прямо в его подушку. Прибежав на место происшествия, Пурошюс застал всю полицию и шаулисов городка во главе с Чернюсом. Они стояли, окружив высокий тополь, под которым нашли место, где мужчина стоял и мочился. Точь-в-точь, как у гумна Яцкуса Швецкуса. Только вместо окурков – три ржавые винтовочные гильзы валяются. Не только Пурошюс да Швецкус... Все, кто сбежался на выстрел, были потрясены. Такого в Кукучяй не случалось за все время независимости.
– Я вам говорю, это дело работяг. Это они наши винтовки сперли во время польского ультиматума. Они! Пошли быстрее. Работяги теперь у Кратулиса сидят и водку пьют. Надо делать обыск у всех подряд! Пока след этого мерзавца не остыл. Никуда он не денется!
– А кто он? – спросил Гужас, терпеливо выслушав Анастазаса.
– Тот самый, который летом меня хотел укокошить возле гумна Швецкуса. Пятрас Летулис – кто же еще!
– У тебя опять в голове помешалось, братец.
– Иди ты знаешь куда, господин Гужас!
– Это ты иди, господин Тринкунас. Ты! У тебя, как вижу, со страху кишки скрутило.
– Молчать! Цыц! – помрачнел господин Мешкяле. – Я бегу звонить в Утяну, Микас и Фрикас – за мной, а ты, господин Гужас, веди мужчин в квартал босяков. Ни одной живой души не выпускать из домов до моего приказа! Ни одной! Ясно, значится?
– Господин начальник. Тут что-то не так... Выставим себя на посмешище в день независимости. Без ножа нас зарежет Кулешюс...
– Не возражать! Исполнять. Не в тебя... в меня целились, значится, господин Гужас. Против меня покушение!
– Воля ваша, – ответил Гужас и сердито потащил свое пузо по сугробам. Вслед за ним – все шаулисы да Пурошюс со Швецкусом. Когда они скрипели по снегу мимо кутузки, Розалия забарабанила кулаками по стене и дурным голосом завопила:
– Пятрас! Пятрюкас, это ты?
– Это я – Тамошюс, ведьма старая! – хихикнул Пурошюс. – Не тот сон тебе померещился, какой хотела. Иду в гости к твоему Йонасу. Может, поклон передать? Он, слыхал я, у Кратулиса обмывает свое соломенное вдовство, за свою и нашу общую независимость пьет, за здравие президента нашего молитву творит и бога благодарит, что работы не имеет.
Пурошюс бы еще языком молол, но Швецкус ткнул его кулаком под бок. По дороге прямо к кутузке двигалась толпа мужчин, над которой поднимались к небу клубами пар и табачный дым.
– Иисусе. Босяки. Я же говорил, – простонал Анастазас. – Господин Гужас, доставайте револьвер. Там Пятрас Летулис. Я вижу. Вон! Первый! С винтовкой!..
– Молчи, придурок.
– Я в участок бегу.
– Стой.
– Иисусе. Попался.
– Вам как вам. А мне-то конец, – просипел Яцкус Швецкус.
– А ты в штаны клади, – злобно хихикнул Пурошюс. – Вонючего убивать не станут.
– А ты не радуйся. Тебя тоже не погладят, Иуда.
– А кого я продал, Яцкус?
– Мужчины, не будьте бабами, – прикрикнул Гужас и, выйдя вперед, приказал босякам:
– Стой! Ни шагу дальше!
Босяки остановились. В воздухе запахло водкой и луком.
– Вот те и на! А какой черт вас сюда принес, господин Гужас, с этим полчищем вонючек? – заговорил первый из босяков, и перетрусившие шаулисы увидели, что никакой это не Пятрас Летулис с винтовкой, а Альбинас Кибис с длинным ломом на плече...
За Кибисом – доброволец Кратулис, Умник Йонас и прочие...
– Что это вы, мужики, шутить вздумали посреди ночи? Еще ведь не заговенье... – простонал господин Гужас.
– Не говори зря и дураком не прикидывайся!.. А ну-ка все прочь с дороги! – взревел Альбинас Кибис, встряхнув своей гривой и подняв, как перышко, длинный лом, точно Михаил Архангел меч против семиглавого змея...
– Господин Кибис, брось свои шутки! Я при исполнении обязанностей.
– Это ты шутки брось, пузан проклятый!
– Погоди, Альбинас. Не горячись. Господин Гужас умный мужик... Он нас поймет... – сказал Умник Йонас, едва ворочая языком. – Альфонсас, мы же с тобой мужики. Оба с тобой баб имеем шальных. Твоя Эмилия за своего ребенка дралась, моя Розалия – за чужого... За сироту! Так что скажи, объясни мне, Умнику, по какому закону и по какому порядку одна баба должна за решеткой гнить, а вторая – на свободе гулять?.. А? Ага, молчишь?! Без пол-литра ты и сам не разберешь и мне ничего не объяснишь, Альфонсас!
– Ошибаешься ты, Йонас. Я выпил не меньше твоего, и поэтому скажу тебе все, как есть. Нехорошо получилось. Некрасиво! Тьфу! Но это не моя работа. Это господин Мешкяле такой приказ дал. Ты ему, а не мне, этот вопрос задай. Ты его, не меня, проси свою бабу выпустить. Да и то сегодня ночью не советую, Йонас. Сегодня он пьяный и злой. Сегодня ночью в него три раза выстрелил неизвестный бандит...
– Почему ты, Альфонсас, объясняешь мне, сколько раз стрелял бандит? Ты лучше скажи, попал ли хоть раз этот бандит в этого бабника и потаскуна.
– Нет. К его счастью.
– Его счастье – наше несчастье, Альфонсас.
– Тс... Мужики, я же вам всем добра желаю. Выпили, подурили и топайте домой. Не ищите беды! Не ищите тюрьмы!
– А ты нас тюрьмой не стращай, господин Гужас. В тюрьме, какой бы она ни была, задарма кормят. Запомни, у всех босяков припасы кончаются, – сказал Кратулис.
– Так на что вы пьете, шельмецы?
– Не от хорошей жизни, господин Гужас. Разве ты не знаешь, что мы души свои записали в черную книгу господина Альтмана? Вот и пьем, оттого что тяжело... Что есть у нас независимость, а работы и хлеба – нету... что дети наши истощали как поросята зимой... что каждая, извините, потаскуха может бедную дочку добровольца за уши таскать и на воле находиться, а порядочная женщина, вставшая на дыбы за справедливость, должна сидеть в тюрьме. Вот влезь, господин Гужас, в мою и Умника Йонаса шкуру и попробуй не пей горькую.
– Так чего вы от меня хотите, мужики?
– Ах чтоб тебя черти, не ругаясь! – прогремел Альбинас Кибис. – Последний раз тебе говорим: или ты бабу Умника Йонаса домой отпустишь, или свою Эмилию приведешь сюда и тоже в кутузку запрешь.
– Альбинас, не шути зря. Никакая тюрьма наших баб не изменит. Пускай они обе радуются воле. Я лично твоей Эмилии худа не желаю. Вот и ты, Альфонсас, будь человеком с моей Розалией. Выпусти ее, бога ради...
– Йонас, я тебе по-литовски говорю – не имею права.
– А сердце имеешь, господин Гужас? А понимание? Подумаешь, право нужно, чтоб простую бабу из кутузки выпустить. Вспомни, в прошлом году Сметона точно в это время Вольдемараса амнистировал, и то государство не развалилось. Почему же ты, рядовой слуга Сметоны, не можешь последовать его примеру и выпустить мою бабу?
– Мало ли что бык делает, мало ли чего баран хочет... О-хо-хо...
– Мужики, хватит политику разводить! Я скоро замерзну, – крикнула Розалия. – Или вызволяйте меня из заточения, или катитесь к черту! Сил у меня больше нету вашу пьяную болтовню слушать.
– Терпение, Розалия. Я хочу по-хорошему. Без кровопролития хочу тебе свободу вернуть.
– Без кровопролития ничего путного на этом свете не добьешься. Ребенка, и то не родишь, Умник Йонас!
– Долой полицию и шаулисов! К черту Яцкуса Швецкуса с рожей божьей и чертовым норовом! Вздернуть Иуду Пурошюса на сук! – прогремел Альбинас Кибис, угрожающе замахнувшись ломом. – Мужики, сотворите за них «Вечный упокой»!
– Альбинас, не дури. Раз уж господин Гужас такой кремень, я ему всю правду скажу. Как мужчина мужчине выдам святую тайну своего семейства, – Умник Йонас обнял Гужаса да прошептал: – Альфонсас, моя баба Розалия последние дни дохаживает. Неужто хочешь, чтобы она, простудившись, выкинула? Неужто будет тебе приятно, если нашего поскребыша в утробе погубишь?.. Только, Альфонсас, будь мужчиной, не бабой... Чтоб никому, никому ни гу-гу...
Захохотала шайка босяков, шаулисы и Яцкус Швецкус с Пурошюсом, потому что все до единого расслышали секрет Умника Йонаса.
– Врешь, старый чертяка! – оживившись, крикнул Гужас.
– Во имя отца и сына! – перекрестился Умник Йонас и бухнулся на колени прямо в сугроб. – Не будь ты полицейским, позвал бы тебя в крестные, Альфонсас. А теперь коротко и ясно тебе говорю – выпусти мою бабу по-хорошему, или Альбинас тебе ломом кишки выпустит... И тебе, и твоей честной компании. А зачем это нужно, если здраво рассудить? Ведь ни дегтя, ни мыла из вас не сваришь. А в гроб лечь никогда не поздно.
– О-хо-хо!
– Раз уж так тяжко вздыхаешь – меня заместо Розалии запри. Меня черт не возьмет.
– И меня... Чтоб с тоски не повесился накануне дня независимости... Господин Гужас, как бывший доброволец бывшего добровольца прошу.
– И меня.
– И меня.
– И меня.
– И нас всех! – завершил Альбинас Кибис просьбы босяков. – Мы-то и огонь и воду прошли...
– Господин Гужас, – прошептал Анастазас на ухо. – Выслушай босяков. Обыск легче будет без них сделать... сегодня ночью.
– Кыш, дурень! – торжественно воскликнул Гужас. – Пурошюс, ключи!
– Воля ваша, господин вахмистр. Можете взять. Но я при свидетелях умываю руки.
– Прочь. Пилат понтийский. Я, Альфонсас Гужас, отпускаю Розалию Чюжене домой. Я. И вместо нее заточаю себя! Себя! Дабы справедливость вернулась в Кукучяй. Справедливость и дружба между бывшими добровольцами. Все равно мне сегодня света божьего не видать, мужики. Живьем съест меня Эмилия. Так что беги, Анастазас, легавый, к ней и объяви мою волю. Ты, Иуда Пурошюс, будешь здесь меня охранять, чтобы я не повесился с горя. А ты, Яцкус Швецкус, со всеми шаулисами безрогими, живо в участок – дрова колоть! Осточертели вы мне! Осточертел я сам себе. К черту полицейские штаны! После праздничка покупаю землю! Не хочу больше сметоновской Литве служить! Не хочу, господин Кратулис. Свободы хочу. Будь что будет! Возвращаюсь на лоно матери земли!
И, рывком выдернув револьвер из кобуры, господин Гужас повернулся к бывшим своим:
– Слышали, что я сказал? Или повторить надо?
Дождавшись, пока шаулисы со Швецкусом растворились во мраке, господин Гужас швырнул револьвер Пурошюсу под ноги и с блестящим ключом в руке, пошатываясь, двинулся к двери кутузки.
Босяки стояли, как очумелые. Ничего не могли понять, что с господином Гужасом творится. Очнулись лишь, когда Розалия вышла из кутузки и вместо того, чтобы броситься к своему Йонасу, обняла господина Гужаса и, трижды поцеловав его, сказала:
– Спасибо тебе, Альфонсас. Говорила и говорить буду – ты настоящий человек и настоящий мужчина. Не то что мой – кобель и трепло. Сам меня подловил да еще хвастает! Умник называется. Тьфу!
– Розалия, прости, я пьян, как сапог!
– Твое счастье, Йонас. Твое счастье, что ты пьяный да босяками уважаемый. И твое счастье, что мой сон в руку. Как, по-твоему, Пурошюс? Есть нюх у Розалии Чюжене или нету?
Ничего не ответил Пурошюс, только губу прикусил. Замерев, ждал, что дальше будет.
Когда господин Гужас вознамерился шагнуть через порог кутузки, Розалия схватила его за локоть:
– Куда?! Успеешь! В тюрьму никогда не поздно.
– Пойдем, Альфонсас, к Кратулису, допразднуем независимость, – подхватил Умник Йонас. – Независимость и освобождение моей Розалии.
– Нельзя, – сказала Розалия, – у Кратулиса дети есть! Не положено будить.
– Тогда к Йонасу Кулешюсу.
– У Кулешюса Пранукас хворает.
– Так куда же, Розалия? Куда нам деваться? Где посидеть?
– У нас, – сказала Розалия. – Мне настойка на валерьяновом корне больше не нужна. Лопайте ее, освободители мои.
– А потом к господину Альтману! – сказал господин Гужас. – Выпьем, мужики, за мой счет. За мою свободу и независимость.
– Скажешь гоп, как перескочишь, Альфонсас. Взнуздает да оседлает тебя Эмилия, чует мое сердце.
– Не сдамся! – в ярости вскричал Гужас. – Не сдамся, чтоб мне умереть на этом месте!
– Не сдавайся, Альфонсас. Не сдавайся своей бабе, потому что твоя баба никогда мужика до добра не доведет, – сказала Розалия, взяв под руку Гужаса.
Галдя и хохоча растаяла в сизом тумане ростепели компания босяков.
Остался у кутузки лишь Тамошюс Пурошюс, словно вырезанный из дерева Христос с пронзенным сердцем посреди большого белого поля. Так нехорошо было. Так грустно почему-то. И почему-то не хотелось поднимать револьвер Гужаса со снега... Хоть бы кто-нибудь «спокойной ночи» сказал или вместе позвал... Босяки проклятые! Босяки, работяги, голытьба...
Сам не почувствовал Тамошюс Пурошюс, как заплакал, как сжал кулаки. Страстно хотелось побежать за ними и совсем не было сил. Напиться! Хорошо бы напиться и забыть обо всем... Ах, хоть бы ты, Виктория, была другой, хоть малой долей похожа на Йонасову Розалию! Чтоб хоть раз Пурошюс мог прижаться к тебе как человек к человеку и сердце свое раскрыть!.. Какая сумятица в сердце-то, какая чертовщина... А может, запереться самому в кутузке да повеситься? Нет, нет! Нет! Чего ради? Ведь Пурошюс никого еще не предал. Совесть у него чиста. Покамест он может еще спокойно глядеть в глаза своему Габрису. Велика печаль, что, спасая службу да шкуру, за тринадцать литов ежемесячно пообещал Мешкяле докладывать обо всем, что, дежуря ночью на горке висельников, увидит и услышит. Кто на его месте не согласился бы? Не соврешь – не проживешь. Слава богу, покамест и соврать-то не о чем было. Об одном-единственном Яцкусе Швецкусе он чистую правду Мешкяле сказал. Но разве не достоин Яцкус Швецкус презрения, раз к чужой бабе лезет? Не потому ли он так взъярился, волком смотрит да Иудой Пурошюса обзывает? Чует, хорек проклятый, кто над его любовью подшутил, и сам теперь рьяно исполняет собачью службу на своем хуторе, ждет не дождется своего соперника Пятраса Летулиса, дает Тамошюсу Пурошюсу спать спокойно. А видишь, что получилось? Видишь! Пиф-паф! Кто же мог выстрелить? Кто? Неужто и впрямь Пятрас Летулис по таким сугробам притащился? Не может этого быть. Это дело рук какого-нибудь сопляка. Но не это главное. Самое главное, что сегодня ночью посланец Мешкяле обнаружил Пурошюса не на боевом посту, а рядом со своей Викторией. Что теперь будет? Как придется отбрехиваться да как выкрутиться? Как продолжать доить полицию, не замарав ни рук, ни совести? Никак допрыгался ты, Тамошюс Пурошюс, и теперь если не те, то другие тебя проклянут... Попросту говоря, или Болесловас Мешкяле тебя с работы турнет, или Пятрис Летулис тебе пулю в лоб запузырит. Какая судьба ждет сироту Габриса, останься он с матерью, этой темной бабой? Служил бы ты, Тамошюс, звонарем кукучяйского прихода, и не болела бы голова у тебя от такой тьмы вопросов. Дрых бы себе в теплой постели, смотрел сладкие сны, а проснувшись, плевал бы в потолок, блох ловил. Ах, черт бы их драл!
– Господи, не завидуй моему счастью!
А может, пойти домой и прикинуться больным, пока вся эта смута не кончится?
Как решил Тамошюс Пурошюс, так и сделал. Притащился домой и лег. Однако недолго он нежил себя притворной немощью. Поначалу черные мысли донимали, потом – черные сны, а когда проснулся, то увидел, что его Габрис рыдает, обняв мать за шею. Долго слушал Пурошюс, навострив уши, пока не понял, какое несчастье постигло его любимого сыночка. Оказывается, рано утром госпожа Чернене с барышней Кернюте повели всю школу к статуе Михаила Архангела на торжества поднятия флага. Выстроились ученики, шаулисы, павасарининки и вдруг Чернене: «Ах!», Чернюс: «Ах!», а у Анастазаса из рук флаг выпал. Стоит он как в столбняке и вверх глядит. Вслед за ним весь строй вверх уставился и видит, что на мачте, предназначенной для флага, шесть крыс кружочком подвешены за хвосты и у каждой крысы на шее ладанка из белой бумаги с черной надписью. Пока шаулисы приволокли стремянку от портняжки Варнаса, дети толпились вокруг мачты и прочитали: «Юлийонас Заранка», «Болесловас Мешкяле», «Стасис Жиндулис», «Анастазас Тринкунас», «Яцкус Швецкус», «Тамошюс Пурошюс» – кстати, самая тощая и облезлая крыса... Дети давай смеяться, учителя – их унимать. Вот Габрис и сбежал от этого позора домой, не дождавшись конца торжеств. И теперь желает узнать, что плохого сделал его папа, раз его прибили к позорному столбу, и почему Габриса в школе обзывают Иудочкой?..