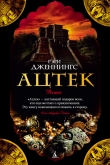Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
7
Не исполнились в ту весну тайные мечты Мешкяле. Спутал дьявол все карты господина Болесловаса.
В одно прекрасное утро, недели две после пасхи, когда Мешкяле запряг Вихря и увез госпожу Тякле в Утяну на базар (а если по правде – то заказать траурное платье), откуда ни возьмись появилась у открытого окна Крауялиса гадалка Фатима и предложила поворожить умирающему старику. Верная служанка Крауялиса Констанция, обидевшись, хотела взять метлу для этой цыганки-полукровки, но старик не позволил. Велел пригласить ее в дом и оставить их наедине.
О чем они говорили с глазу на глаз да что делали – никто не знает. Только когда Фатима ушла, господин Крауялис в тот же вечер вышел во двор встречать вернувшихся с базара. По свидетельству Констанции, Мешкяле с Тякле потеряли дар речи, а Крауялис заявил:
– Вы уж меня простите. Я решил жить.
Весь городок навострил уши. Что теперь будет? Долго ждать не пришлось. Накануне дня святого Иоанна лабанорские цыгане купили у Крауялиса Вихря – неизвестно за какую цену, а после святого Иоанна батраки Крауялиса перенесли вещички господина Болесловаса в заброшенную комнатушку рядом с участком, в которой тот обретался девять лет назад.
После таких перемен Крауялис окончательно ожил, его Тякле стала чахнуть, а господин Болесловас оседлал казенную кобылу и стал чуть ли не каждый день ездить в Пашвяндре... Без него захандрили кукучяйские господа. Осенью даже карточный столик был бессилен собрать их воедино. Хорошо еще, что эта хандра длилась недолго. Еще перед днем всех святых заведующий школой и командир отряда шаулисов господин Чернюс получил письменный призыв из департамента, как следует подготовиться к двадцатилетнему юбилею независимости республики и по этому случаю в школе устроить копилку, посвященную железному фонду Вильнюса от поляков. За пожертвованиями-де лично прибудет высокий гость из Каунаса. Господин Чернюс тотчас же созвал весь элит Кукучяй и свою пламенную патриотическую речь закончил следующим образом:
– Господа, во имя благородной цели сплотимся наподобие бетона. Чтоб не опозорить гостя, нас самих и родину.
Самый активный шаулис[1]1
Шаулисы – военизированная организация правящей в те годы в Литве партии таутининков.
[Закрыть] Кукучяй, действительный член Союза освобождения Вильнюса и начальник кукучяйского отделения фонда Вильнюса, сын старосты Тринкунаса Анастазас уже на другой день сколотил широченный ящик, смахивающий на гроб, на котором Юзефа Чернене черной тушью вывела: «Тебе, порабощенный Вильнюс», нарисовала похожие на пушки столпы Гедиминаса. Ящик водрузили в коридоре школы, чтобы он колол глаза да будил совесть детей. И не ошиблись. Дети набросились на родителей. Родители развязывали кошельки, совали центы, а были и такие, которые не пожалели даже серебряных монеток. Например, Крауялисова Ева каждый день опускала в ящик по целому литу. Труднее было детям босяков, но и те старались, как могли: воровали свои и чужие яйца, тряпки, тащили к Иоселю и вырученные центы тоже швыряли в копилку. Чтобы у учеников не остыл воинственный дух, Чернюс то и дело обходил классы и испитым голосом хрипел:
– Вильнюс порабощен!
– Освободим его! – кричали дети что есть мочи, свято веря в победу.
Учительница Кернюте, вдохновленная энтузиазмом малышей, сочинила стихотворную молитву – к матери божьей Островоротной – за литовских воинов, павших в борьбе за Вильнюс, начиная со времен самого князя Гедиминаса... В день поминовения усопших, когда Крауялисова Ева с другими четвероклассниками продекламировала эту молитву на кладбище, бабы прослезились, а сестры Розочки громко сказали:
– Боже, награди мертвых небом, а живых – Острыми воротами[2]2
Над Острыми (Медининкскими) воротами в Вильнюсе находится часовня с почитаемым католиками и православными образом девы Марии.
[Закрыть].
По дороге с кладбища господин Крауялис поцеловал руку барышне Кернюте, а викарий Жиндулис с подвыпившим Кряуняле проводил ее до школы и от имени хора павасарининков[3]3
Павасарининки – молодежная католическая организация.
[Закрыть] попросил сочинить молитву для взрослых к матери божьей Островоротной. Чернюте усомнилась в своем таланте, однако, когда Жиндулис вызвался ей помочь, согласилась, но с тем условием, чтобы павасарининки и шаулисы вместе праздновали юбилей независимости.
– Это моя давняя мечта. Нас объединяет один бог, одна земля и одна цель – как можно быстрее освободить Вильнюс, – ответил Жиндулис, а Кряуняле добавил:
– Но, освободив его, мы бросимся в часовню Острых ворот, а вы, барышня, – в замок Гедиминаса. Но разве стоит нам из-за этого цапаться?
– Святая правда. Да ведет нас любовь к ближнему, без различия наших убеждений – поддакнул викарий и, приподняв шляпу, не помянул по привычке Иисуса Христа, а сказал: – Спокойной ночи! – И добавил: – Сладких снов. До скорого свидания у нас, в нижнем приходском доме.
– Удобно ли будет мне бывать у мужчин после уроков? Сейчас рано смеркается...
– Если стремишься к святой цели, не стоит бояться грязи, барышня. Грязь была и будет. Главное, чтобы мы сами сохранили мужество и чистоту, – сказал Жиндулис, а Кряуняле, икая, добавил:
– Вы еще нас не знаете. За девичью честь мы можем и голову сложить.
– Боже, какие вы молодцы!
– Может, зайдем к нам сейчас, барышня? – предложил Кряуняле. – Вдруг, малость согревшись, ощутим священный огонь и сообща сложим гимн к непорочно зачавшей?.. Моя музыка, ваши слова, вздохи викария.
– Не соблазняйте, творчество любит уединение, – ответила Кернюте и побежала по лестнице вверх, в свою комнатушку.
– Клюет рыбка. Жалко, слишком восторженная, – подытожил Кряуняле. – С такой уйма хлопот, а удовольствия с гулькин нос. Стоит ли путаться, Стасис?
– Заткнись, глупец! – сердито прикрикнул Жиндулис на органиста, который хихикал, будто дьявол, до самого приходского дома.
Месяц спустя Кернюте доставила им в приходский дом не молитву, а священную драму о героической литовской девушке, которая спасла князя Витаутаса из польского плена и сама погибла на плахе, умоляя бога спасти языческую душу князя. Драма кончалась живой картиной: Витаутас в монастыре крестоносцев уже после своего крещения забывается и во время бури умоляет бога Перкунаса вернуть ему Вильнюс и Тракай... В свете молний матерь божья является ему в облике героической литовской девушки и обещает исполнить его желание. Витаутас, ошеломленный этим чудом, падает ниц. Внезапно прекращается гроза и ливень. За стеной кельи монашеский хор поет «Аве Мария».
– Барышня, я потрясен до глубины души. Позвольте поцеловать вашу руку, – воскликнул викарий, выслушав драму.
Слух о новом произведении Кернюте мгновенно разнесся по всему приходу, потому что Кряуняле рассказал хористкам содержание драмы, а те уж...
Долго не ожидая, двойняшки Розочки примчались в нижний приходской дом и попросили билеты на это святое действо, но Кряуняле заявил, что ничего не смыслит в практических делах. Его голова занята другими делами. Он-де не понимает до сих пор, как его хористкам придется исполнять морморандо «Аве Мария», когда палач возьмет на руки обезглавленную героиню и, обливаясь ее кровью, промолвит: «Завидую тебе. Ты победила страх».
– Не может быть!
– Будет. Так написано.
– А кто же голову обратно пришьет, когда представление кончится?
– Для этого дела собираемся пригласить из Каунаса доктора Кузму. Дай боже, чтобы палач правильно перерубил шею – у безымянного позвонка.
– Не может быть.
– Так сказал доктор Кузма.
– А кто же этот палач? Кто героиня?
– То-то и оно. У Кернюте и викария головы пухнут. Не знают, что и делать. Никто не хочет этих ролей брать. Слишком рискованно.
– А что же будет?
– Если не найдутся добровольцы, викарию придется Кернюте голову отрубить.
– Иисусе! Дева Мария!
И бежали двойняшки Розочки по избам, хуторам да деревням, гласили страшную весть, разжигали любопытство баб и детей.
Слава богу, догадки Кряуняле не подтвердились. На исходе рождественского поста, когда Болесловас Мешкяле, уступив уговорам Чернюса, дал согласие играть князя Витаутаса, а волостной секретарь Репшис – Ягелло, все единодушно поддержали предложение викария-суфлера не рубить голову литовской героине, а просто задушить ее. Быть палачом вызвался Анастазас, а играть героиню Мешкяле уговорил свою подопечную графиню Мартину...
После рождества в доме шаулисов начались репетиции. Метельне метель, морозне мороз, каждый божий день Мешкяле, надев казенный тулуп, стал возить графиню в Кукучяй. Для баб не осталось ни малейшего сомнения, что граф с настоятелем окончательно рассорились, а вдова Шмигельского теперь дурит голову полицейскому жеребцу. Они-то пускай хоть к черту катятся. Но вот невинная девочка в такое общество угодила... Много ли надо, чтобы ее испортили? Ведь, говорят, красотой она свою мать Ядвигу превзошла. Неважно, что еще парным молоком пахнет. Таким малолеткам проще всего поскользнуться. Хористки утверждали, что на репетиции Мешкяле ей руки и глаза целовал, а она настоящими слезами залилась и с настоящим чувством сказала: «Остановись, о сладкое мгновенье». Слова не ее. Кернюте написала... А слезы чьи? Чье чувство-то?
– Иисусе, Иисусе, Иисусе.
– То-то, ага. Мамина кровь играет.
Стоит ли удивляться, что накануне шестнадцатого февраля[4]4
День провозглашения буржуазной республики.
[Закрыть] бабы босяков еще добрый час до представления вместе с детьми взяли в осаду дом шаулисов, решив любой ценой проникнуть в зал и убедиться собственными глазами, правдивы ли все слухи.
Увы, на крыльцо вышел сам Анастазас и суровым голосом палача возвестил:
– Сидячие места проданы состоятельным. Стоячих – не будет.
– Почему? – ошеломленно спросила Розалия.
– Такой приказ. Высокий начальник из Каунаса прибыл. Желает серьезной публики.
– Ирод! Разве мы не литовки, разве дети наши не католики?
– Вам представление покажем даром. После пасхи.
Хорошо тебе говорить-то! Может, война на пасху начнется, может, в великий пост мы с голоду подохнем... Когда еще чего будет... Но Розалия больше спорить не стала, побоялась рассердить Анастазаса. Лучше уж вместе с бабами потерпеть, пока знать не соберется, а потом броситься Анастазасу в ноги и смягчить его кровожадное сердце. Поэтому столпились босяки у крыльца и наблюдали, как цвет волости идет мимо, суя под нос Анастазасу белые билеты. Один только Напалис зудел не переставая:
– Анастазас, будь человеком.
– Не буду, не проси.
Но Напалис упорен. Он верит в свое счастье. Счастье попискивает, как белая мышка у него за пазухой, только он его слышит. Ах, если бы можно было с мышкой шкурами поменяться! Хоть на миг.
– Слава Иисусу Христу.
Это сам настоятель Бакшис вынырнул из мрака. Замолчали бабы, оторопел Анастазас. Один только Напалис нашелся:
– Во веки веков!
И юркнул в дверь, исчез в клубах пара.
– Куда, лягушонок? – рявкнул, почтительно вытянувшись перед настоятелем, Анастазас. – Пожалуйте в первый ряд.
– Благодарю, – ответил тот, потупив глаза, словно вор, перешагивающий чужой порог.
– Иисусе, Иисусе...
– Видишь, что творится, когда отец по родному ребенку тоскует. На всю политику наплевал. К самому дьяволу в гости бы пошел. Ведь ни разу в доме шаулисов до того не бывал. И чего это они с графом поцапались?
Вот и Крауялис, будто матерый волк, двух овечек ведет. Пускай хоть поглядит Тякле на своего князя...
– Кончились романы у Тяклюте. Аминь.
– То-то, ага. Жди теперь, пока старик копыта откинет...
– Жди, жди, пока сама не сморщишься. Не в ее-то годы ждать.
– Была баба, что печка, а теперь на что похожа...
– Хворостинка.
– Помянете мое слово – переживет ее Крауялис.
– Вот и не верь ворожбе Фатимы.
– То-то, ага.
После Крауялиса настал черед процентщику Яцкусу Швецкусу, который свою жену Уле принес на руках, взяв на подмогу батрачонка Алексюса. Уле-то черт поясницу скрутил, а ее девичий сынок Йокубас играет сегодня подмастерье палача. Почетный билет она получила. Хоть тресни, должна увидеть своего ублюдка на сцене. Вот где семейка мошенников. Сами палец о палец не ударят, зато батраков держат справных. Пять лет Пятрас Летулис будто вол тащил на своем горбу все хозяйство, пока Блажис из Цегельне прибавкой жалованья не переманил. Все твердили – пропадут Швецкусы без Пятраса. Где уж там! Нашли еще шустрее – Алексюса Тарулиса, который вот уже второй год не ест, не спит, а работает за двоих и жалованье берет меньше, потому что еще не совершеннолетний... Золото – не батрак. Вдобавок, страдает плоскостопием и единственный сын матери – едва живой вдовы. Таких в армию не берут. Швецкус дорожит им и обещает, когда помрет мать Алексюса, усыновить, если, конечно, сам жив-здоров будет. А хозяйка, Уле Швецкувене, говорят, с прошлого года для него петуха держит. Петух через девять лет высидит яйцо, из которого вылупится домовой и Алексюсу счастье принесет на пасху...
– Да будет заливать.
– Верное дело.
– Скажи, Алексюкас, твой петушок для курочек уже мужичок?
– Хо-хо.
– Ты его не спрашивай, ягодка, он, наверно, мощь своего петушка еще не испытывал.
– То-то, ага. Надо у Стасе спросить. Кому это знать, как не Стасе. Она теперь у Швецкусов батрачит.
Парню краска бросилась в лицо.
– Алексюкас, куда ты?
– Пускай бежит. Вышло шило из мешка.
– Теперь видишь, кто его держит на привязи у Швецкусов? Видишь?
– Стасе.
– Никак Пятрас Летулис уже ей веночек общипал!
– А ты найди наемную девку с цельным веночком?
– То-то, ага. Не Пятрас, так сам Яцкус бы подобрался. Девка-то пригожая, ядреная.
– Вот ирод!
– Иисусе, Иисусе. Не простит Пятраса господь, если он батрачку испортил да бросил...
– Не бойся, Алексюс парень добрый. Возьмет и испорченную.
– Да будет заливать. У Алексюса кишка тонка. Невеста Алексюса еще в зыбке!
Долго бы еще судачили бабы да зубы чесали, но у крыльца появилась Веруте Валюнене с сыном. Это еще что такое? Ведь, кажется, до сих пор в публичные места она носа не совала. И с каких это пор Валюнене причислена к состоятельным? Еще больше, чем бабы, удивился Анастазас. Валюнене не было ни в списке жертвователей на железный фонд, ни в списке родственников актеров. Сам ведь билеты стриг, сам сидячие места распределял. И вот те и на! Подделка?
– Откуда получили сидячий, госпожа Валюнене?
– От господа бога, господин Тринкунас.
– Хо-хо-хо.
– Го-го-го.
– Просим без шуток!
– Учительница Кернюте свой уступила, – объяснил перепуганный Андрюс.
У баб затряслись бока от смеха, а рассвирепевший Анастазас решил свести старые счеты:
– А почему тогда с ублюдком Миколаса явилась?.. Почему не со своим жильцом и благодетелем, госпожа фельдшерша?..
– Сволочь! – И как хряснет Веруте Анастазаса по морде!
И вошла с Андрюсом в дверь, оставив Анастазаса ни живого, ни мертвого, приплюснутого к косяку.
Бабы затихли. Притворились, что не видели и не слышали, чтоб себе и своим детям ненароком не навредить, хотя животики так и распирало от хохота. Так тебе и надо, скотина неотесанная, за то, что мать оскорблял при ребенке. Так тебе и надо за то, что ребенка при матери нехорошо обзывал...
По правде говоря, ни Анастазас, ни бабы такого от Веруте не ожидали. С виду ведь – тихоня-тихоней. А попробуй, оказывается, задень... Умоешься соплями да еще облизнешься. Ничего не поделаешь, Анастазас. У вдовушки в доме хороший учитель живет. Аукштуолис давным-давно ее писать и читать научил, а теперь, говорят, объясняет, что босяки раньше или позже господ скинут и свои порядки устроят. Веруте-то, оказывается, способная ученица – приучает даже тебя, старейшего шаулиса Кукучяй, к этой мысли...
Одного только Розалия с бабами в толк не возьмут, почему самый молодой член шаулисов Кукучяй Кернюте такую честь Веруте оказала. Ведь не подруги они и даже не добрые знакомые... Может, она учительнице покрывало задарма выткала? В приданое. Голубое, будто летнее небо, и с белыми аистами, как она одна только умеет.
– Нет, нет. Не за это, – сказала четвероклассница Виргуте, дочка добровольца Кратулиса.
– А за что? – спросила Розалия, ее крестная.
Поскольку Виргуте из всех уроков больше всего любит историю, то она стала рассказывать все по очереди: после дня всех святых Кернюте задала четвертому классу сочинение о том, что они видели, чувствовали и слышали в день поминовения усопших. Все дети писали чернилами, только Андрюс рисовал цветными карандашами, пока Гужасова Пракседа не наябедничала. Тогда учительница Кернюте отняла у него тетрадку. Смотрит-смотрит в тетрадку, а слезы будто горошины – кап да кап. Попросила у Андрюса дневник и не двойку вывела, как все дети ждали, а огромную пятерку... Теперь этот рисунок Андрюса висит под стеклом в комнате Кернюте. За этот рисунок учительница и подарила Андрюсу почетный билет.
– Что же там было нарисовано? Никак, матерь божья Островоротная? – не выдержали двойняшки Розочки.
– Нет, нет. Обыкновенный солдатик. Мертвый. С открытыми глазами. Глаза голубые-голубые, и небо голубое... Река крови из груди струится – и Виргуте замолчала, не знала, как еще описать эту картинку.
Но бабы босяков верят на слово. У двойняшек Розочек уже слезы на глазах, потому что их старший брат погиб на мировой войне – даже где могила его, они не знают, а другие четверо, что в живых остались – на польской стороне... Не приведи господи воевать с поляками! Может, ребенок, отца не знавший, беду чует, раз такую картинку про день поминовения усопших намалевал?..
– О, господи боже.
Задумались бабы, притихли и не увидели, что все господа волости уже поднимаются по крыльцу. Юзефа Чернене с пани Шмигельской, за ними – граф с высоким, как жердь, гостем из Каунаса. Дауба с бабой, Чернюс...
– Дорогу! – рявкнул Анастазас, но Горбунок, будто с неба упав, дорогу господам загородил и сказал:
– Здорово, граф Карпинский! Здорово, господин Путвинскис!
– Здравствуйте, – ответила жердь. – Но вы ошиблись. Я – Бутвинскис.
– Мне один хрен.
– Прочь с дороги! – вспылил Чернюс.
– Пусть говорит, – сказал Бутвинскис. – Чего вы хотите, дружище?
– Свободы для Вильнюса и свободы для Литвы.
– Вильнюс мы скоро освободим, а Литва свободна уже целых двадцать лет, – усмехнулся господин Бутвинскис, решив, что имеет дело со слабоумным.
– А почему в свободной Литве свободы нету? Почему наших баб и детей в дом шаулисов не пускают?
Растерялся господин Бутвинскис, но когда Чернюс шепнул ему что-то на ухо, побагровел, будто индюк.
– А вы, почтенный, билет купили?
– Спасибо, что спросил. Теперь буду знать, что и тебе, Бутвинскис, больше хочется у своих лит выдрать, чем у чужих – Вильнюс.
– Да пошли вы, знаете куда!..
– Пошел!.. – И Горбунок цапнул обеими руками за полы шубы гостя да впился клыком в мягкое место...
Укусить как следует не укусил, но перепугал насмерть. Влетел господин Бутвинскис в дом вместе с дамами, будто телок, спасающийся от слепней, а Горбунок уже болтал ногами в сугробе и вопил, чтоб Бутвинскис ему клык вернул...
Малости не хватало, чтоб и босяки вместе с господами в зал прорвались, но на помощь Анастазасу прибежали Микас и Фрикас, грудью сдержали натиск, кое-как вытолкали непрошеных гостей в коридор... Что поделаешь. Все ж не на морозе... Розалия схватила свою крестницу Виргуте, посадила на плечи, поднесла к дверной щелке и велела рассказывать обо всем, что творится в зале...
Поначалу каунасская жердь с крестом на шее взобралась на сцену и сказала длиннющую речь о том, как она завоевала независимость для Литвы. Потом, смешав поляков с грязью, пообещала за пожертвования, собранные в Кукучяй и других местах, купить железный танк, который не боится ни огня, ни воды, ни медных труб и может один за минуту целый полк поляков уничтожить, потому что из него пульки будто пчелки целым роем летят...
Когда Бутвинскис слез со сцены, хор Кряуняле запел «Литва дорогая», и занавес раздвинулся. Виргуте увидела Ягелло, который будто черт сидел на пне и сосал трубочку. Когда Ягелло заговорил, бабы поняли, что он ждет Кястутиса с Витаутасом, которые должны приехать на переговоры, и собирается их коварно пленить... Тут как нарочно Нерон, взобравшись на крыльцо, жутко завыл. Горбунок с Зигмасом выбежали на улицу унимать собаку и больше не вернулись, а Розалия вместе со своей босой публикой вооружилась терпением...
Час или два, затаив дыхание, бабы и дети слушали голоса артистов, гул зала и объяснения Виргуте. Когда литовской героине было позволено последний раз помолиться перед смертью, Розалия не выдержала:
– Ироды! Побойтесь бога! Впустите!
Пустить не впустили. Но Микас и Фрикас, побоявшись скандала во время самой трагической и тихой сцены, открыли половину двери. Пускай и босяки увидят, что проклятые поляки с литовскими девушками вытворяют...
Мартина стояла на коленях. Во власянице. Обе руки воздела к небу. Слова ее были такими душевными и прекрасными, что просто дух захватывало, сердце леденело... Ах, господи, пришли чудо, спаси эту мученицу из когтей костлявой. Увы! Уже вбежали три палача с мешками на голове. У крайних в руках горели свечи. Средний держал в руке петлю. Он и промолвил дрожащим голосом Анастазаса:
– Обвиняемая, ты готова?
– Господи, не завидуй моему счастью, – пролепетала героиня и покорно скрестила на груди нежные ручки.
– Иисусе! Оставь ее в покое, ирод! – сорвалось у Розалии, и в тот же миг у самой сцены взвизгнул Напалис:
– Юла, гоп! Юла, гоп!
На сцене вспыхнул белый огонек. Долгожданное чудо свершилось. Героиня, истошно взвизгнув, вскочила с колен и бросилась в дверь. Палач, оторопев, так и остался с петлей в руках.
– Занавес! – рявкнул викарий.
Белый огонек вернулся в руки Напалиса. Напалис уже чесал вдоль стены к босякам. Оказавшись в объятиях Розалии, закричал:
Анастазас – дурачок!
Скачи к курам на шесток!
Вместе с курами квохчи!
Яйца тухлые неси!
Захлопала в ладоши да захохотала босая публика, а вслед за ней расхрабрились даже зажиточные крестьяне волости. Весь зал хохотал, взявшись за бока.
Представление оборвалось.
Целую ночь кукучяйские господа потчевали Бутвинскиса и ломали голову, почему такой темный народ в Литве и как его просветить... При свете дня вместе с шаулисами и детьми подняли на мачту перед статуей Михаила архангела трехцветный флаг. После этого весь отряд промаршировал к школе на торжественную церемонию открытия сундука с пожертвованиями. Однако сундук уже был открыт и совершенно пуст.
– Господа, что это у вас творится? Какой-то хаос! – простонал голосом умирающего Бутвинскис.
– Честное слово. Я лично ничего не понимаю, – сгорая со стыда, кряхтел господин Чернюс.
– Дело рук коммунистов! Этого хулиганья, этих бедняков! – теряя чувства, визжала госпожа Юзефа.
– За такое дело расстрелять их мало!
После такого заявления господина Бутвинскиса из самого темного угла коридора выскочили двойняшки Розочки, бросились в ноги каунасскому гостю и в один голос повинились.
– Кто эти женщины? – удивленно спросил господин Бутвинскис.
– Мирские монашки. Барышни. Школьные сторожихи, – объяснили Розочки.
– Кто вас толкнул на такое преступление?
– Сами доперли.
– Почему?
– Боялись кровопролития.
– Какого еще кровопролития?
– Вы же обещали вчера за эти грошики танк купить...
– А ваше-то какое дело? Не ваши деньги, не ваш товар.
– А братцы наши?
– Какие еще братцы?
– А те четверо, что на польской стороне!
– Значит, вы поляки?
– Нет. Чистокровные литовки.
– Чего же вы боитесь?
– Так ведь наши братцы-то на самой границе живут. Им первым придется головы сложить.
– Литовцы в литовцев стрелять не станут.
– Да ведь, барин, пуля-то не выбирает, литовец ты или поляк. Без разбору укладывает.
Господин Бутвинскис опустил руки. Господин Мешкяле счел нужным продолжить допрос.
– Сколько денег позаимствовали, значится?
– Мы-то не считали, а вы-то спрашиваете. Может, было там десять литов, а может, и нет...
– Вруньи! – не выдержал Анастазас. – Мы с господином Чернюсом вчера всю выручку за представление в сундук ссыпали. Триста литов.
– Честное слово. Да! – поддакнул Чернюс. – Хотели вас порадовать, господин Бутвинскис.
– Это вы зря, господин Чернюс... глупость все это.
– Тащите сюда деньги, святые барышни! – рявкнул Мешкяле.
– Да нету их у нас, барин.
– Как это нету? Куда дели?
– Денежки-то в костеле. В приходском ларце с пожертвованиями, что возле святой водички помещается.
– Вруньи!
– Господом богом!.. – закрестились сестры, обидевшись, что им не верят.
– А вам известно, что за такое бывает?
Двойняшки Розочки ничего не ответили. Только низко склонили головы. Им было стыдно за этого полицейского петуха, который не мог понять, что, забрав деньги, предназначенные для танка, они следовали пятой заповеди божьей «Не убий». Стало быть, нет такой кары земной, которая бы страшила их. Главная мечта их жизни – стать мученицами за святую католическую веру и невинных братцев.
– Чего молчите? Оглохли вы, что ли, черт бы вас взял?! – разорался Мешкяле.
– Хуже смерти не будет, – ответили сестры-единомышленницы и, вспомнив вчерашнюю героиню, скрестили руки на груди. – Господи, не завидуй нашему счастью.
Мешкяле опустил руки.
– Идиотизм! Везите меня побыстрей на станцию, – прошипел господин Бутвинскис, бросаясь к двери.
Кукучяйским господам не удалось уговорить господина Бутвинскиса остаться. Поэтому господин Чернюс на скорую руку собрал триста литов, которые опустила в карман вместе с затяжным поцелуем его жена, грудастая Юзефа, и повез гостя на станцию. Однако перед корчмой их остановил Горбунок с Зигмасом да стаей детворы и попросил господина Бутвинскиса вернуть ему клык, что вчера остался у него в мягком месте, или откупиться серебряными литами, потому что это был его любимый зуб. Этим клыком сапожник мог проволоку перекусить... Когда Бутвинскис и Чернюс стали грозить им тюрьмой, они издали на гармониках да свирели поросячий визг и голосами нищих стали передразнивать вчерашнюю речь гостя:
Когда Бутвинскис танк нам купит,
Железный танк для храбрецов,
Проклюнется из кучки пушка
И высидит петух яйцо.
Яйцо Бутвинскис в пушку вставит,
А пушку ту на танк поставит,
По Вильнюсу ударит он с опушки,
Лишь скорлупа посыплется из пушки.
Вильнюс нашим будет, будет! —
Таков полякам наш ответ.
Тот день никто уж не забудет,
И станет весело в Литве!
– Полиция! Где ваша полиция? – позеленев, верещал господин Бутвинскис.
– А на что тебе полиция? – спросил доброволец Кратулис. – Или ты забыл, барин, что в Литве свобода слова?
– Кто этот краснобай?!
Доброволец и бедняк
Да беспаспортный босяк, —
вопил Горбунок. – Полезай с саней, Бутвинскис, с народом познакомься!
– Негодяй! Изменник родины!
Твоя родина – в кармане,
Наша родина – в стакане! —
все больше свирепел Горбунок и звал господина Бутвинскиса в корчму, обещая там ему объяснить, что такое родина да что – народ, кто уродина да кто – урод.
– Анархия, господин Чернюс! Анархия! – лепетал Бутвинскис, съежившись в санях.
– Да иди ты вместе со всеми шаулисами хоть в епархию! – раззадорившись, кричал Горбунок. – Попроси у епископа умишка, помолись за нас, горбатых...
За всех горбатых, —
И тут, и там...
Пускай Бутвинскис
Идет к чертям! —
затянул Зигмас.
Напалис первым запустил в гостя снежком. А за Напалисом – все дети босяков с громким криком: «ура»...
Когда Чернюс кое-как кнутом проложил дорогу саням, все босяки во главе с Горбунком отправились в корчму, чтобы спрыснуть проводы господина Бутвинскиса. Побросав последние центы в шапку добровольца Кратулиса, купили в складчину бутылочку, сполоснули горечь и слушали гимн, который Горбунок сложил по случаю юбилея независимости с печальным припевом:
О, Литва, отчизна наша,[5]5
Первая строка гимна буржуазной Литвы.
[Закрыть]
Ты – не наша, ты – не наша.
Чем дальше пели Горбунок с Зигмасом, тем больше нравилась песня слушателям, тем громче гремел смех в корчме. Один только доброволец Кратулис плакал в углу. То ли независимую Литву жалел, то ли свою бабу Милюте, которая, родив семнадцатого сына – Напалиса, оставила его навеки. А может, своих детей, которые, рассыпавшись батраками по белу свету, забыли дорогу домой?