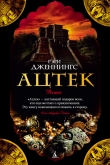Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
9
Три дня и три ночи точила косу костлявая возле дома Валюнене, заглядывала в три оконца Аукштуолиса, любовалась, что жизнь Алексюса и Пятраса на волоске висит. Ждала костлявая, когда от Пятраса отойдет Стасе, а от Алексюса – его мать Аспазия. Однако обе будто сговорились: ни на шажок от своих парней не отошли. Не ели, не пили, даже до ветру не ходили...
Ничего не понимала костлявая... Что мать ради сына родного с небом и адом сразиться может – это она видывала, но чтобы девка молодая к едва живому парню репейником приклеилась – этого ей не довелось слыхать... Села с горя костлявая верхом на свою косу, взлетела на тучку и до тех пор плакала студеными слезами, пока почти весь снег в реку Вижинту не согнала. Под утро такой гололед стал – не приведи господи... Бабенки в костел к заутрене кое-как на четвереньках доползли. А ксендзов-то еще нету. Побежали сестры Розочки по усыпанной золотом тропе в дом настоятеля и узнали, что у того от резкой перемены погоды с сердцем худо, а викарий заспался... Побежали сестры Розочки будить викария, но в передней у того Пурошене – новая школьная сторожиха – топчется: беда с учительницей Кернюте случилась. С третьими петухами бежала она на двор по малой нужде, упала да грохнулась затылком об лед, теперь лежит и зеленой пеной блюет...
Побежал заспанный викарий в костел, схватил с полки дароносицу и в сопровождении стаи баб – бегом в школу.
– Иисусе, чтоб только не поскользнулся.
– То-то, ага. Одна беда – не беда.
– Ах ты, господи. Разве бежал бы он так, хвост трубой, если б одна из нас умирала.
– Так говорить не гоже.
– Пригожая? Точно пригожая, как с образа святого.
– Да уж, помрет – всей пригожести точка.
– Кочка? Какая еще кочка?
Даже договориться не могли богомолки из-за этого гололеда. А когда они ввалились в школу, Пурошене встала на пороге и велела опуститься на колени да молитву творить, потому что учительница уже исповедуется.
Долго стояли женщины, погрузившись в молитву, пока не закралось в их сердца подозрение – почему это Кернюте так долго в своих грехах кается?
Двойняшки Розочки хотели дверь приоткрыть да проверить, однако Пурошене не позволила, являя перед всеми богомолками образец терпения.
Но двойняшек Розочек учить не приходилось. Не зря они целых шестнадцать лет неотступно исполняли обязанности глаз да ушей настоятеля. Отползли на коленях, забрались в уголок коридора да вскарабкались по стремянке на чердак. Одна веник взяла, другая – старую фуражку шаулиса, разгребли кострику, вытащили мох да прильнули к щели в потолке...
– Иисусе, агнец божий...
Кернюте на горке подушек с грудью нараспашку в потолок глядит, а викарий, держа ее за руку, на коленях какие-то слова шепчет. Ей-богу, не святую латынь.
Кубарем слетели двойняшки Розочки со стремянки и громко закашляли. А вслед за ними и остальные богомолки, пока викарий Жиндулис, красный будто бурак, не выбежал вон из комнаты.
В доме богомолок началось смятение. Не спустилась ли этой страшной ночью в Кукучяй нечистая сила?
Чем дальше, тем больше усиливалось это подозрение, поскольку слишком уж быстро нагрянула теплынь и коты стали носиться по заборам. Не великий пост стал, а какая-то бесовская пасха. То юный ксендз каждое божье утро с дароносицей, как кот с пузырем, к Кернюте бежит, то Горбунок, этот посланец ада, каждый вечер приходил к выздоравливающим больным Аукштуолиса и, послушав посмертные видения Алексюса, страшную ересь городил, высмеивая бога, церковь и святые таинства, смущая малышей босяков, которых Катиничя уже стала готовить к первой исповеди...
Мало того. Прошел слушок, что в доме Валюнене учреждена гильдия безбожников. Глава и вдохновитель этой гильдии Аукштуолис расхваливает те края, где признают брак без церковного благословения... С которой захотелось, с той, дескать, и сочетайся. Хочешь – надолго, хочешь – на один разочек. Понравится – живи, не понравится – расходись. Воля твоя. Только перед своей совестью отвечаешь.
– Иисусе, Иисусе, будто пташки лесные.
– То-то, ага. Хорошо, что напомнила – птичьим браком называется это распутство.
– Не приведи господи. Полон свет будет ублюдков.
– Ох, ягодка, все теперь с горки катится. В тартарары.
– Помяните мое слово – лопнет терпение у господа бога, встряхнет он мир как следует.
Дурные предчувствия баб еще усилил совместный вещий сон сестер Розочек. Вздремнули они в день сорока мучеников после обеда и увидели, что под облаками летит ангел. В одной руке у него – окрававленный меч, а в другой – длинная труба. Сделал ангел круг над Кукучяй, помахал крыльями сестрам и так грозно задудел в свою трубу, что сестры попадали с кровати. Подползли к запотевшему окошку и увидели в стороне Вильнюса кровавые столпы...
На другой день «радия» Умника Йонаса поймала волну Каунаса с известием, что германец без единого выстрела занял Австрию, а польский солдат Серафин, в одиночку попытавшийся нарушить границу Литвы, был подстрелен нашим полицейским и задержан возле деревни Трасникай.
Вечером, когда в дом Чижаса сбежался сейм босяков-мужиков, чтобы обсудить международное положение и это злосчастное событие, Умнику Йонасу уже было известно, что польский солдат испустил дух. Значит, порохом запахло, кровь кличет кровь...
– Худо наше дело. Раздолбают нас поляки.
– И долбать не придется. Шапками закидают.
– Ни черта. В двадцатом году мы долбали поляка под Ширвинтай.
– Тогда долбали – Вильнюс продолбали, Кратулис. Сейчас будем долбать – независимость продолбаем.
– Да эта наша независимость точно у девки невинность. С одного боку поляк зарится, с другого – германец... Кто первый цапнет, тому и отдадимся. Против ветру не подуешь...
– Да уж. Стоит ли зря кровь проливать.
Оптимистически настроены были лишь кукучяйские шаулисы, которых Чернюс с Мешкяле на всякий пожарный случай призвал с оружием в руках днем и ночью охранять родину. С этой целью малость укрепили шатающуюся каланчу на горке возле школы, составили строгий график дежурства да смены караула. Один шаулис на каланче следил в бинокль за польской стороной, другой – с винтовкой внизу его охранял, а остальные шестеро, дожидаясь своей очереди, углубляли военные познания. С самого утра в доме шаулисов – теория. После обеда, когда Чернюс возвращался из школы, все брали винтовки на плечо и под его командой отправлялись к каланче на маневры: рыли окопы – кто быстрее, швыряли деревянную гранату – кто дальше, кричали ура – кто громче, да шли в смертельную атаку, распугивая кошек и собак городка... И всегда впереди шаулисов был сын старосты Тринкунаса Анастазас. Не зря, ах, не зря господин Чернюс после третьих маневров, положив руку ему на плечо, перед всеми шаулисами и зеваками заявил:
– Будьте спокойны, наша нация малочисленна, но она победит, потому что один Анастазас Тринкунас стоит сотни польских солдат.
– Господин командир, чего же мы ждем? Почему первыми не атакуем поляков? – спросил Анастазас, которого будто на жеребца подняли.
– Терпенья, брат! Наш президент – неглупый старик. Он хочет сперва психическую атаку провести и посмотреть, что из этого выйдет. Голову даю на отсечение – у польского Рыдз-Смиглы уже сейчас полные штаны...
В тот вечер вернувшись в свой дом, шаулисы составили винтовки пирамидкой в коридоре, заперли дверь, повалились в изнеможении на скамьи и принялись толковать, что значат таинственные слова Чернюса – психическая атака. Не найдя ответа, задремали. Один только дежурный Анастазас бродил по комнате и продолжал ломать голову. Может, час, а может, и два ломал, пока наконец, потеряв терпение, не открыл тихонечко дверь и не побежал к Умнику Йонасу. Кто-кто, а Соломон кукучяйских босяков должен разгадать загадку Чернюса.
Умник Йонас, надев наушники, слушал «радия» и даже головы не поднял, когда вбежал Анастазас да восхвалил Иисуса Христа. Зато Розалия, вскочив после дурного сна и увидев рядом с кроватью чужого мужика, до смерти перепугалась и взвизгнула:
– Ирод, отстань! Йонас, спаси!
– Чего тебе от моей бабы надо, Анастазас? – спросил Умник Йонас, увидев незваного гостя.
– Не от вашей бабы... От вашего ума, господин Чюжас, – ответил Анастазас, несколько растерявшись, и заикаясь объяснил, какие обстоятельства привели его сюда.
Умник Йонас не любил зря разевать рот. Схватил Анастазаса за шиворот, усадил к «радии» да напялил наушники. В наушниках зудело, гудело, пищало, трещало, мяукало и лаяло... И сиплый голос сквозь эту галиматью кричал чужие слова:
– На Ковно!
– Господин Чюжас, что это значит?
– Что?! Что?! Психическую атаку!..
– Иисусе, дева Мария... Ирод, выражайся яснее! – окончательно проснулась Розалия.
– Яснее быть не может. Польская шляхта собирается Каунас занять, война на носу.
– Быть того не может!
– Уши у тебя заросли, шаулис? – в ярости крикнул Умник Йонас.
– Иисусе, дева Мария, что теперь будет, отец? – простонала Розалия. – Ни одного ребенка дома! Чуяло мое сердце беду... Йонас, ради бога... Беги в Цегельне, забери у Блажиса нашего Рокаса... Хоть один ребенок пускай при нас будет. Хоть один.
Анастазас не стал больше слушать рыдания Розалии. Пулей метнулся в дверь. Влетел в дом шаулисов и завопил:
– Встать! Поляк атакует!
– Кто?
– Где?
– За оружие, ослы! – и первым бросился к пирамидке. – Господи... где винтовки?..
– Анастазас, тебе приснилось или в голове помутилось? – спросили все пятеро шаулисов, проснувшись одновременно.
– Оружие вы проспали, дуралеи! – взревел Анастазас и ударил кулаками в стенку. – За мной!
И побежал. Однако сам не знал, куда бежит. А когда прибежал-таки, увидел, что перед ним маячит каланча.
– Руки вверх! – лязгнул затвором винтовки Дичюс, высунувшись из окопа и до тех пор не подпускал, пока Анастазас не вспомнил пароль:
– Вильнюс наш!
– Смерть полякам!
– Что видно на польской стороне?
– Темно, как в кишке у нищего!
– Господи помилуй, – простонал Анастазас, упав ничком на бугорок окопа и уткнувшись воспаленным лбом в сырой песок. – Кто мог выкинуть такое свинство? Кто?..
Шаулисы, став в кружочек, опустили головы и руки. Сами не знали, ни что делать, ни что думать. Какой позор! Что будет, когда Чернюс узнает, когда Мешкяле?.. Малого не хватало, чтобы Анастазас выхватил из кобуры револьвер и пустил себе пулю в висок. Но в стороне дома богомолок некстати запел петух, подбросив Анастазасу дьявольскую мысль:
– Это дело Розочек!
Подозрение еще больше усилилось, когда шаулисы, возглавляемые Анастазасом, ворвались в курную избенку двойняшек, но их не обнаружили.
– Гадюки полосатые!
– Жабы косоглазые!
– Ну погодите. Получите по заслугам.
Под утро, когда двойняшки наконец явились домой, шаулисы набросились на них, будто ястребы. Повалили на пол, лупили ремнями куда попало и яростно вопили:
– Где спрятали?
– Где?
– Показывайте!
Корчились сестры, скулили, кусались, но ни слова не говорили. Только когда одна из них, вынырнув из юбки, улепетнула в дверь, весь городок услышал ее голос:
– Люди! Ратуйте! Разбойники!
– Держите ее, ребята! – крикнул Анастазас, в ярости раздирая юбку...
И посыпались... И посыпались из юбки зашитые в поясе золотые монетки... Царские...
– Продали наши винтовочки!
– Продали, гадюки!
Шаулисы тут же вытряхнули из юбки вторую сестру. У той юбка была пустехонька. Только черными молниями уносились из складок блохи. Вторая двойняшка убегать не стала. Увидела, что это не разбойники, а свои... шаулисы. От удивления так и шлепнулась на пол посреди избы. Ничего не могла она понять. Не могли понять и все сбежавшиеся к дому зеваки, что здесь творится, пока не примчались Микас с Фрикасом и двойняшки, наконец-то обретя дар речи, принялись объяснять, что ничего они не воровали и ничего краденого из Кукучяй не выносили, а пытались сегодня пробиться через границу к своим братцам. Но за рубежом столько польских солдат, лошадей да пушек, что в полях черным-черно... И дух с той стороны какой-то противный идет, не то паленых ногтей, не то недосоленого мяса. Видать, поляки литовцев огнем пытают...
А насчет золота, господа шаулисы, просим зря панику не поднимать. Сестры носят его на себе еще с тринадцатого года, когда братцы им их приданое золотыми десятками выплатили и отпустили на божий свет богомолками. Из десятка монет каждая из сестер по сердечку отлила. Сердечко одной в Вильнюсе у образа матери божьей Островоротной, а другой – в Ченстохове. Остальные монетки они в пояс зашили и дали обет святой – до конца дней своих каждый год в день поминовения усопших заказывать по молебну за упокой души старшего брата и других солдат, без вести сгинувших в войнах... Как видите, золотишко у одной сестры уже кончилось, а у другой – еще не почато. Если их словам не верите, идите к настоятелю Бакшису. Он-то подтвердит, что сестры Розочки не вруньи.
Микас и Фрикас прикусили языки. Один только Анастазас на слово сестрам не поверил, упрямо требовал показать, где спрятаны винтовки, грозился обеих будто сучек пристрелить, пока, наконец, господин Гужас, притащив из темноты свое брюхо, не спросил у шаулисов:
– Кто вчера вечером стоял у вас на посту?
– Я, – ответил Анастазас.
– Он, – подтвердили шаулисы.
– Очень хорошо, – сказал Гужас. – Тогда ты, Анастазас, и ответь нам, куда делись винтовки. Зачем сестер истязаешь?
Поскольку Анастазас смущенно замолк, Гужас снова спросил:
– Давай начистоту – вздремнул?
– Нет.
– Значит, пост оставил?
– Оставил.
– По какому делу?
– По малому, – окончательно убитый, простонал Анастазас.
– А ты знаешь, Анастазас, что для часового не может быть ни больших, ни малых дел?
– ...
– А ты знаешь, Анастазас, что за такое бывает?..
– Что же, что, боже ты мой? – простонала мать Анастазаса.
– Долгий срок тюрьмы или короткая смерть через расстрел, – сурово сказал Гужас и рассказал про сходный случай из войн за независимость, когда его товарищ по роте лишился головы, не вовремя помочившись, извините за выражение... Призадумайтесь, какое сейчас время! Поляки предъявили Литве ультиматум, а вы остались с голыми руками. Военно-полевой суд тебе грозит, Анастазас, за такое... Моя обязанность тебя арестовать.
– Нет, нет, нет! – завопила Тринкунене, упав на колени, обняла ноги Гужаса и зарыдала.
Вслед за ней зарыдали все до единой бабы. Хотя Анастазас и человек никудышний, бродячих псов и кошек стреляет, детей ногами пинает, но... да останется смертная казнь для убийц.
Первой бросилась умолять господина Гужаса жена Умника Розалия, чтобы тот смилостивился над Анастазасом, у которого от холостого состояния уже давным-давно рассудок помутился. Сам ведь не знает, что говорит и что делает. Ведь сегодня после полуночи он Розалию в кровати чуть было не исцарапал пуще, чем сестер Розочек. Хорошо еще, что Йонас дома был, защитил, «радией» успокоил.
– Ведьма. Блудница. Чем сама пахнет, тем другого мажет.
– Ирод! Будто забыл, что к нам приходил, что меня до смерти напугал?
– Приходил. Но никого не пугал. Сама ты испугалась. Ничего я тебе не сделал. У меня был один вопросик к Йонасу.
– Ах ты, бедненький! – простонала Розалия. – Дурак лучше умрет, чем признается, что дурак. Делайте с ним, что хотите, господин Гужас.
– Анастазас, я не спрашиваю, зачем ты приходил к госпоже Розалии после полуночи, – торжественно заговорил Гужас. – Я спрашиваю, все ли были у тебя дома, когда ты покинул пост?
– Все, господин Гужас.
– Взять его! – сказал Гужас.
Анастазас схватился за кобуру револьвера, но не успел. Микас и Фрикас заломили руки, шаулисы выдернули ремень из штанов и отстегнули помочи. Хотели и погоны сорвать, но Гужас не позволил. Новый китель пожалел. Полицейские тащили, друзья толкали, а Анастазас брыкался, пока не запутался в упавших штанах. Тогда шаулисы взяли его на руки и отнесли в кутузку... Напрасно сторож кутузки Тамошюс Пурошюс старался его добрым словом утешить через волчок, напрасно Тринкунене приносила отвар валерьянки и совала в оконце. Анастазас волком выл и требовал тотчас же вызвать Чернюса или Мешкяле. Но Чернюс, услышав, какая беда постигла его шаулисов, прикинулся больным, а Мешкяле, как оказалось, вчера вечером отбыл в Пашвяндре охранять графа Михалека, который по ночам страшно боится нападения поляков... Анастазасу не осталось ничего другого, как бегать по камере и успокаивать себя стихами, которые выучил еще в детстве.
Добрый час спустя начальник полиции Утянского уезда Заранка, которого Гужас вызвал на место происшествия, даже не стал допрашивать Анастазаса. Заглянул в волчок, послушал, какую чушь Анастазас несет и, решив, что «задержанный помешался на почве патриотизма», велел немедленно доставить его к господину Фридману.
Отец Тринкунас запряг лошадь, шаулисы связали Анастазаса и отправили в Утяну, хоть он и кричал благим матом. Итак, как выразился Горбунок:
Из-за двойняшек среди шаулисов разброд...
Осиротел без Анастазаса народ.
Не по этой ли причине отец народа Антанас Сметона, не устояв перед психической атакой поляков, два дня спустя принял их ультиматум, на веки вечные отрекаясь от Вильнюса?..
Смех смехом, но под конец великого поста воцарилось уныние. В траур погрузился Кукучяй, в траур погрузилась вся Литва. На телеграфных столбах появились коммунистические листовки, призывающие бороться против власти таутининков, которая ведет родину к гибели, выпустив накануне юбилея из тюрьмы вместе с Зассом и Нойманом[7]7
Руководители фашистских немецких партий в Клайпедском крае, готовившие отторжение его от Литвы.
[Закрыть] яростного сторонника Гитлера, главу путча 1934 года Вольдемараса... Мало того – портфели министров сельского хозяйства и транспорта были вручены неприкрытым сторонникам Вольдемараса Скайсгирису и Германасу. По этому случаю мужики-босяки, собравшись у Чюжаса, до поздней ночи ломали головы над будущим Литвы, пока доброволец Кратулис впервые в своей жизни не пришел к выводу:
– Так верти или сяк, – а придется Сметону скинуть.
– А где эта твоя кидалка? – сказал любитель повозражать Умник Йонас.
– Революция нужна, Йонас. Революционная кидалка. Другого выхода нету, – вставил Винцентас Петренас.
– Легко вам говорить. А кто начнет революцию-то? Может, мы с тобой? С голыми руками?
– Бьюсь об заклад – Москва бы помогла.
– Ты забыл, Винцентас, что с русскими у нас общей границы теперь нету, что Польша клином между нами влезла.
– Мало ли в Польше босяков? Думаешь, у них не чешутся руки взять своих панов за чуб?
– Думаешь, наши господа будут ждать, пока мы им на шею сядем? Нет уж, братец. У них телефоны и радия получше, чем у меня. Господа быстрей против нас стакнутся, чем мы меж собой договоримся. Скажешь, не так было в девятнадцатом году у нас, или в Испании не то же самое сейчас творится?
– А почему ты про Россию забываешь, где босяки карту господ побили?
– Россия, братец, это большая загадка. В России земли необозримые, вооруженных босяков – целое море, да и Ленин в России был. А кто у нас?
– Зачем тогда наши коммунисты листовки расклеивают, зачем кровь нам будоражат раньше сроку? – спросил Кратулис.
– Чего не знаю, того не знаю, Юозапас, а на эту весну революции не предвижу.
– Вот чертовщина, – вздохнул Кратулис. – Кончилась мука, кончается картошка. Чем придется своих птенцов кормить? Не доведется ли мне в одиночку революцию поднимать?
– Ирод! Вдовец проклятый! Ты лучше к Розочке посватайся! К той, у которой поясница золотом звенит, – вдруг крикнула Розалия, словно злая лаума вынырнув из-под белой перины.
– Какая муха тебя укусила, Розалия? – удивленно спросил Кратулис, а весь сейм босяков вытаращил глаза на Розалию, которая, уже повалившись на спину, голосом умирающей простонала:
– Иисусе. Дева Мария... Иосиф святой! Йонас, ирод, живо подай мне полотенце. Я вся мокрая!
– Что случилось-то? Никак черт во сне к тебе лез? – полюбопытствовал Петренас.
– Почти угадал. Только не черт. Синяя борода.
– Вот те и на!
– Когда?
– Где?
– А я откуда знаю... Не то в костеле, не то в пашвяндрском поместье. Ксендзов, как черных баранов, богомолок, как рыжих муравьев, а стол белым накрыт. Свеча поминальная горит. В красном углу викарий сидит, с кокардой жениха, рядом с ним – Кернюте с фатой, точно липа в цвету, только без рутового веночка на голове – между нами говоря... На месте свата – Синяя борода, веселый, как месяц молодой. На месте свахи – гадалка Фатима с платком на плечах. А дальше – вся честная компания: Карпинский с покойной Ядвигой, Мешкяле с Милдой и Мартиной, Бакшис... А я – в конце стола. Особняком. Как бы на алтаре. И голым голая, будто гусыня на подносе, – между нами говоря.
– Перестань! Слушать стыдно! – сказал Умник Йонас.
– Вот видите, какой у меня муженек. Ему слушать стыдно! А мне пережить пришлось, ирод!.. И это еще не все! Одна Розочка вокруг меня кружит да окуривает дымом девятисила, а другая – золотые тарелочки да рюмочки ксендзам и гостям раздает. «Кого еще ждете?» – спрашиваю тихонечко. «Кто появится, того окрестим, а тебе, ведьма, крышка. Перекрестись». – «Что вы со мной делать будете?» – «Вкусим плоти твоей и кровушки твоей попьем. А вкусив да напившись, пойдем в прятки играть». На этих словах Синяя борода вместе с Фатимой из-за стола поднимаются. Синяя борода достает из рукава длинный нож. Фатима свечу берет и к его бороде подносит. Загорается Синяя борода от головы до ног, будто просмоленное бревнышко, и идет... идет прямо ко мне. Точно столп огненный. Я так и грохнулась с алтаря на пол. «Йонас, спаси!» – кричу, хотя Йонаса и не видать. Только голос его слышен где-то далеко за дверью. Чувствую, нету мне спасения. Вскочила и давай бог ноги. В одну дверь, в другую, третью... Конца этим дверям нету. А обе Розочки по пятам чешут. И Синяя борода не отстает, дымом и огнем дышит. Бежала я, бежала и проснулась от этого страха. Йонас, ирод, подай-ка мне воды. Пускай сердце отойдет. Такого дурацкого сна в жизни не видала. Тьфу, тьфу, тьфу. Отведи, господи, беду.
– Это к перемене погоды, Розалия, или к перемене власти, – изрек Умник Йонас.
– О, господи, и накурили же! – простонала Розалия, отпив холодной водички. – Не перестанете ли вы, трубы печные, гадать о переменах? Домой не пойдете? За керосин нам деньги платить, а ваши речи гроша ломаного не стоят. Йонас, спать!
– А может, Розалия, у тебя к весне кровь взбаламутилась, раз пошли такие сны? – обидевшись, вскричал Кратулис. – Может, твой Йонас больше не кавалерист? Может, не спеши нас на двор выгонять? Может, понадобимся тебе, если что...
– Катись колбасой, доброволец! – ответила Розалия и, схватив метлу, выпроводила из своей избы весь сейм.
Долго молчали Чюжасы, оставшись вдвоем. Йонас обнимал свою «радию», Розалия – голые коленки.
– Йонас, Йонулис, – первой промолвила Розалия. – Не чувствуешь часом, что иду по дорожке Анастазаса?
– С каких это пор?
– А с таких, когда последнего ребенка мы из дому отпустили, когда Рокаса продали Блажису в батраки. После заговенья меня все время дурные сны донимают. А когда просыпаюсь, на сердце тревожно и такая часотка по всему телу, что ни чужому, ни родному не пожалуешься.
– Травки пей.
– Пила. Не помогают травки. Сама не знаю, что будет, когда ты уйдешь на заработки, оставив меня одну-одинешеньку... На это свое шоссе проклятое.
– Черт не возьмет.
– Может, говорю, не ходи. Авось, с голоду не подохнем...
– Еще чего выдумала?!
– Тогда меня с собой прихвати. Обед вам буду готовить. Обошью, обстираю всех.
– Опоздала. Стасе от Швецкусов уходит. Вместе с нами на шоссе подается.
– Лучше говори – с Пятрасом.
– А тебе не все ли равно?
– Как знаешь, Йонулис, – глухим голосом сказала Розалия. – Ты-то мужчина. У тебя голова на плечах. Вот сам и придумай, что надо сделать, чтоб лето у меня было спокойное и здоровье поправилось.
– Мало того, что белый свет меня с ума сводит, еще ты начнешь мне макушку долбить!
– Белый свет был, есть и будет, Йонулис. А мы с тобой временные. Мог бы и больше обо мне заботиться.
– Черт возьми, чего ты от меня хочешь?
– Подойди, на ухо скажу.
– Я не глухой.
– Маленького хочу. Малыша, – прошептала Розалия так, что Умник Йонас вздрогнул.
– Смеешься, или ты и впрямь на старости лет с ума сходишь?
– А что в этом плохого? Сам погляди, как Кулешюсова Марцеле ожила после Пранукаса, как помолодела. Какое счастье в их дом привалило, как дружно живут теперь!
– Дура! Кулешюсы первенца дождались. А мы с тобой уже семерых батраками да девками в люди пустили. Еще одного подпаска хочешь?
– Пока он вырастет, может, другие времена настанут?
– Перестань глупости говорить, дай хоть раз в жизни спокойно Москву послушать.
– Москва никуда не сбежит, а моя бабья сила уже кончается.
– Слышала, что тебе говорят?
– Как знаешь, Йонулис, – спокойно и сурово сказала Розалия. – Только не жалуйся, когда в Жемайтию уйдешь, что мне пришлось со стороны помощь искать, между нами говоря.
– По мне... Хоть бы самого викария. Ха-ха! Тс-с! Москва!
– Ох, чтоб эта Москва тебе боком выперла!
Но Умник Йонас ничего уже не слышал. Прижал обеими руками наушники и сгорбился, будто еж.
– Ирод! Не муж! – сказала Розалия и, уткнувшись в подушку, заплакала.