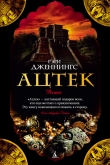Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
После визита Эмилии господин Болесловас, окончательно утратив душевное равновесие, попытался вернуть его при помощи чая с ромом. Когда не удалось, проклял самого себя, этот злополучный мир и господа бога, которому так хочется играть судьбой бедного Балиса и, призвав на помощь силы ада, заснул. Тогда и явился он – черный, будто уголь, весьма похожий на кота Швецкусов. Прильнул этот кот к ногам и бочком-бочком – в дверь. Болесловас вышел за ним на двор – а вместо черного кота черный жеребец стоит. Будь что будет – попробую на нем поскакать. Едва ухватился Болесловас за гриву, как поднял его жеребец и понес прямо в небо, оставив далеко внизу цокот копыт. Пока летел, в голове свистело, будто в пустом горшке, а когда приземлился, сердце так и кувыркнулось: стоит он на высокой круче Вижинты, а под кручей – пани Милда, в чем мать родила, глядит на полную луну да ноги в речной воде мочит. Не успела дурная мысль в голове мелькнуть, как черный конь опять черным котом обратился, черным пламенем с горки шмыгнул, вокруг шеи Милды обвился. Напрасно Милда защищалась, руками-ногами отбивалась, напрасно господина Болесловаса на помощь звала. Он ей спину показал, притворился, что не видит ничего и не слышит. Через минуту, когда опять к реке повернулся, от пани Милды и следа нету. Только черный брюхатый кот, забравшись в реку, лакает черную воду да зыркает на господина Болесловаса.
– Брысь, бестия! – воскликнул Балис, очухавшись, но вместо голоса издал лишь слабенький писк, потому что он был уже не он, а маленький дрожащий воробышек. И кот, стряхивая с лап воду, уже крался вверх по обрыву, глядя на него алчными глазами мачехи. Нет, не мачехи, а пани Милды. Воробышек нахохлился, в жилах у него кровь застыла. И вдруг, откуда ни возьмись, камышовка цапнула его из-под носа у кота да проглотила.
– Это ты, Фатима? – крикнул Балис, задыхаясь от жара.
– Иисусе, дева Мария! Господин начальник, проснись! Это я. Мужского полу!
– Кто ты? – спросил Болесловас, усевшись на кровати и ничего не видя в потемках.
– Анастазас. Тринкунас.
– Какой леший тебя сюда принес?
– Беда, начальник.
– Я болен. Разве не слыхал? У меня бред!
– Прости меня, начальник.
– Что стряслось?
– Я пани Милду утопил.
– Приснилось тебе.
– Ей-богу.
– Катись к дьяволу. Ты пьян!
– Я для храбрости принял...
Господин Болесловас чиркнул спичкой и оторопел. Перед ним сидел не Анастазас, а настоящий черт! Чумазый, в тулупе навыворот.
– Анастазас, давай начистоту – ты опять сдурел?
– Малого не хватает.
– Уходи вон.
Но Анастазас обнял ноги Мешкяле и, точно блудный сын родному отцу, стал выкладывать все как есть. После сватовства он еще глаз не сомкнул, потому что едва зажмурится, а Милда – тут как тут, обратившись в змею. И такое начинает вытворять, то пристает бесстыдно, то жалит, что волей-неволей из кровати выскочишь и чертовскую упругость из чресел выгоняешь, бегая по амбару Блажиса, будто жеребец, за которым гонятся слепни. Блажис попробовал его чесночком пользовать, свою дочку Микасе вечерами присылал мокрым полотенцем поясницу тереть – ничего не помогло. Еще хуже стало. Хоть возьми и эту самую Микасе живьем проглоти... Тогда мамаша, по совету свата, сбегала в Кривасалис и за десять литов купила у Фатимы секрет, что подобную бессонницу ее бабушка вылечивала, смешав мозги черного барана с золой волос снящейся бабы да мочой полосатой козы и отпаивая больного этим снадобьем три недели три раза в сутки перед едой по столовой ложке. Из черного барана она сама мозги извлечет (только надо глубокой ночью его в Кривасалис доставить), полосатых коз у людей тьма-тьмущая, а к пани Милде самому Анастазасу придется подобраться. Проще всего после двенадцати ночи, когда она одна-одинешенька приходит купаться в Вижинту возле того места, где, по словам бабушки Фатимы, живет водяной черт. Очень может быть, что пани Милда – старая ведьма, которой настало время омолодиться. Наверняка Анастазас – первая жертва этой сластены вдовы. Поэтому ему надо обрядиться водяным чертом да, прихватив с собой стригальные ножницы, навалиться на нее, голую, в реке и горсточку волос отстричь. Для своего здоровья, для ее позора и для вящей славы господней... Вот и вся подоплека, из-за которой Анастазас доставил в Кривасалис своего барана, а ночью в Пашвяндре просидел два-три часа в камышах, выдул бутылку сумасгонки и, когда госпожа Милда белым кустом в реке расцвела... О, господи! Как сквозь дым Анастазас помнит только, что бросился на нее на четвереньках, что она защищалась, пока, схлопотав ножницами под челюсть, не упала навзничь в воду, булькнула и больше не всплыла... Выходит, не ведьма она была. Выходит, баба – как все...
– Чего же ты от меня хочешь? – спросил господин Болесловас, решив лишний раз убедиться, не сон ли это.
– Хочу свой револьверт получить.
– Какой еще револьверт?
– Свой. Который господин Гужас тогда конфисковал, обозвав меня психом.
– Что-ты вздумал, Анастазас?
– Чем тюрьма или желтый дом, лучше пулю в лоб.
– Раз так смерти захотел, значится, иди и вешайся.
Но Анастазас твердил свое, потому что умереть хотел с честью, как положено шаулису. А кроме того, – да будет известно господину Мешкяле, – он готов отплатить добром за добро – увести с собой в преисподнюю кукучяйского песенника Йонаса Кулешюса, проклятый язычище которого уже столько лет сеет презрение к верховной власти, нации, местным шаулисам, полиции и самому господину Болесловасу. Пусть исполнится проклятие синебородого монаха хотя бы по отношению к этому гаду. Пусть снизойдут смирение и покой в сердца людские. Пусть стращают босяки своих детей именем Анастазаса во веки веков. И заплакал...
Вот когда у господина Болесловаса мелькнула мысль, что, взяв под свою опеку в эту критическую минуту Анастазаса, он навеки приобретет покорного и беспрекословного исполнителя своей воли. Много ли нужно усилий, чтобы натравить сейчас Анастазаса, к примеру, на кривасальскую куницу и ее подручного кабана Блажиса? Дай только боже выдумать серьезную политическую зацепку. Ну, скажем, что эти лукавые звери состоят в тайной террористической польской организации, цель которой – всеми силами вредить патриотическим пограничным силам литовцев. На этот вертел можно нанизать все беды Анастазаса, начиная с похищения винтовок и кончая этой ночью... Словом, напустить туману в башку этого олуха, чтобы при необходимости можно было ему сказать: «Анастазас, час мести пробил! Действуй! Но так, чтоб комар не пискнул, чтоб все концы – в воду! Помни, сейчас у нас с Польшей налажены дипломатические отношения».
– Почему вы молчите, господин начальник?
– Думаю, как тебе понятнее объяснить, значится, что самоубийство для шаулиса равнозначно измене родине. Вернув тебе оружие, я стал бы пособником предателя. На что ты меня толкаешь, Анастазас?
– Прошу меня простить. Об этом я не подумал, начальник, – простонал пристыженный Анастазас.
– А для чего у тебя голова на плечах, братец?
– Да у меня все перепуталось!
– Не бойся, распутается. Никогда не сожалей о том, чего не изменишь, значится.
– Что же мне теперь делать?
– Иди домой и обзаведись терпением. Ты мне задал большую загадку, Анастазас. Требуется время, чтобы все обмозговать. Я должен принять верное решение, спасительное для тебя и губительное для тех, кто толкнул тебя в пропасть.
– Чтоб они сквозь землю провалились! Отдаюсь в ваши руки душой и телом.
– Будь спокоен, значится. Со мной не пропадешь.
– Не знаю, как вас и отблагодарить.
– Мы – идейные товарищи. Должны помогать друг другу в беде. Только гляди – никому ни гу‑гу, что ты барана в Кривасалис отвел.
– Не бойтесь.
Проводив Анастазаса, господин Болесловас опрокинул рюмочку коньяку и, негромко сказав: «Господи, не завидуй моему счастью», – сам не почувствовал, как заснул.
13
И снова в Кукучяй переполох. Челядь Пашвяндрского поместья распустила слухи, что после сватовства Анастазаса пани Милда окончательно ума лишилась. Еще страшнее стала пьянствовать, а намедни ночью прибежала с речки в чем мать родила и как начнет блевать! Баран, дескать, на нее набросился или сам черт. Не разберешь... Мотеюс хотел за Фридманом съездить, но она строго-настрого запретила, велела дать знать в Кривасалис. Фатиме. Та объявилась лишь вечером следующего дня. Осмотрела больную через замочную скважину и заявила челяди, что их хозяйка понесла от черта. «Откуда знаешь», – спросил Мотеюс. – «От нее за три версты смрадом пекла несет». – «Пила бы ты каждый день, и ты бы смердела». – «Бараний лоб ты, Мотеюс. Кто же ее изнутри так дергает? Пьяницы, насколько мне известно, так не блюют». – «Падучую ночью подцепила, головой ручаюсь». – «Человече, я по-литовски тебе говорю – не падучую подцепила, а водяной бес Вижинты к ней в хвост забрался». – «Сама ты ее за нос водишь и еще издеваешься. Вот подожди, как скручу я тебя да как доставлю к Мешкяле, прищемит он тебе хвост! Будешь знать, как нашу барыню порочить». – «Да разве это удивительно? Господин Мешкяле – мужчина ученый». Батраки и девки захохотали, а Мотеюс малость отошел и сказал: «Чего ты, кривасальская куница, нам туман подпускаешь? В наше время мало кто в чертей верит. Раз уж ты такая умная, то изгони его, проклятого, из нашей хозяйки да нам всем покажи...» – «Ладно, исполню я твою просьбу. Одного я не знаю, Мотеюс, в каком обличье черт свою избранницу покинет». – «А мне один хрен. Главное, чтоб я мог черта в полицию доставить». На этих словах Фатима вытащила из-за пазухи золотой крестик и, совредоточившись в молитве, вошла к пани Милде... И тут же там раздался вопль больной. Фатима вернулась и сказала: «Мощи святой Ядвиги помогли. Ваша хозяйка изрыгнула беса». – «Где же он?» – «В окно выскочил». – «Ах ты, гадюка полосатая!» – бросился к Фатиме Мотеюс, снимая ремень. Но та пулей – в дверь. Вслед за ней – вся дворня. И на те пожалуйста! Под окном пани Милды черный, будто деготь, баран пасется. И мокрый, хоть выжми. Трудно описать, сколько намаялись, пока изловили его, но Мотеюс не верит, и все, что это бес, которого подцепила в реке пани Милда. Фатима цапнула барана за рога, с помощью девок затащила его в комнату больной и торжественно спросила: «Сударыня, вы узнаете это отродье?» – «Да! Он самый. Проклятущий, – прохрипела пани Милда. – Люди, бейте меня! Убейте и сожгите вместе с ним! Я... Ядвига, прости меня!» И замолкла, потому что баран уставился на нее как на близкую знакомую и как хрястнет рогами об изголовье кровати!.. Глаза у него, говорят, кровавые и пылают, будто уголья. Пани Милда опять блевать начала, а за ней и всем девкам худо стало.
– Иисусе, Иисусе! Вот и верь, пожалуйста.
– То-то, ага. Как в сказке.
Так было, или не так, но под вечер следующего дня Гужасова Пракседа будто сорока облетела городок с известием, что Мотеюс доставил из Пашвяндре в участок связанного барана, подозреваемого в бесовстве, потому что его боятся помещичьи овечки и вся скотина: лошади фыркают и ушами стригут, а коровы в обеденную дойку лишь половину молока отпустили.
Все до единого дети городка помчались к участку. Даже Пранукас Горбунка, и тот вырвался из рук матери, обнял отца и со слезами просил показать ему живого беса. Марцеле просто онемела от ужаса. Ведь ребенок был будто ангелочек. Набожный. «Отче наш» как по пальцам говорил, и нате. Откуда же на него эта охота нашла?
Зато каким весельем наполнилась грудь сапожника, когда его сын, сидя верхом на горбу, обеими ножками стучал по мехам гармоники и хихикал. Хихикал, желая побыстрее увидеть обитателя преисподней.
– Пранукас, бес – фу! фу! – голосила Марцеле, семеня за Горбунком, потеряв надежду оторвать ребенка от отца.
Бабы, живо,
Прочь с дороги!
Жмут мужчины
Нога в ногу, —
кричал Горбунок и ждал. Затаил, дыхание и ждал, ответит ли ему сын.
Змут музцины
Нога в ногу, —
закачался на горбу Пранукас и вдруг затрепетал всем телом и запел будто жаворонок в ясном небе:
И в станисках,
И без них,
У кого свой цорт
Не сник!
– Ирод!
– Мамаша, слышишь? Проснулись моя плоть и кровь! Новый песенник на радость людям растет. Не дождешься ксендза! Не дождешься!
– Пусти ребенка, сгинь, сатана!
– Пой, сыночек. Пой.
Кулешюс подзадоривал бы еще своего наследника, но, откуда ни возьмись, к участку примчалась госпожа Гужене и, увидев свою дочку среди босяков, за голову схватилась:
– Пракседа! Как тебе не стыдно? С оборванцами этими да матерщинниками! Домой! Живо.
Тут под забором поднял голову черный баран, обвел женщин кровавыми, вытекшими глазами и промолвил:
– Бэ-э-э!
Затихли все, от мала до велика. Первым пришел в себя Напалис. Бросившись к барану, обнял его как родного брата, называл ласковыми именами, целовал да спрашивал, куда он подевался, что ни слуху о нем, ни духу. Хотя Напалис целыми днями и целыми ночами его искал... Совсем забылся от счастья ребенок. Совсем.
Босая публика ничего не поняла, только брат Напалиса Зигмас и его сестра Вирга покраснели от стыда, что их младшенький так расклеился, увидев барана.
– Это еще что такое? – сорвалось у Гужаса. – Чей этот рогатый черт, не скажешь?
– Старосты Тринкунаса. Чернец, – ответила Виргуте.
– Сколько раз тебе говорить, курица ученая? Не Чернец, а Анастазас Премудрый, – возмущенно вскричал Напалис.
– Тогда, может, скажешь, лягушонок, как он в Пашвяндре забрался, как реку Вижинту переплыл? – спросил Гужас.
– Разве у него ног да глаз нету, а через Вижинту – мостов? – отрезал Напалис.
– Раз такой умница, может, знаешь, что ему там понадобилось?
– Пока что не знаю, но чувствую, что Тринкунене собиралась его зарезать на свадьбу Анастазаса, вот он и бежал спасаться на польскую сторону.
– Ирод!
– А по дороге заглянул на невесту полюбоваться и в ярости забодал ее за то, что из-за нее, старой карги, ему приходится родине изменить, – и Напалис полоснул ножиком по путам барана.
Чернец тут же вскочил на копытца.
– Что делаешь? – закричала Эмилия. – Вдруг он бешеный?
– Не бойся, сударыня. Без моего приказа он и рогом вас не коснется. Только не пробуй мне ухо крутить. Помни, он бабьи мысли читает как по писаному.
– Ах ты! Откуда ты с ним так хорошо знаком?
– Напалис научил его коров сосать, господин дядя, – ответила Виргуте. – Чернец-то ведь сирота! Его маму позапрошлой осенью волк в Рубикяй задрал. Другие овцы Чернеца и близко не подпускали. Он бы с голоду подох, если б не наш Напалис.
– Теперь-то мне ясно, какие домовые коров Тринкунасов выдаивают! – вскричала Эмилия.
– Зато коровам больше травы остается.
– Ах ты, лягушонок, лучше бы ты чему-нибудь путному эту бестию научил! – серьезно сказал Гужас, решив подмазаться к своей Эмилии.
– Научил и путному.
– Ну уж. Ну уж.
– Могу показать. Только умоляю не сердиться.
– Не связывайся с сопляками, – цыкнула Эмилия на своего мужа, но Напалис опередил ее, схватил с подоконника фуражку Гужаса, сунул барану под хвост и как запоет блаженным голоском викария:
Анастазас, брысь-брыс-брысь,
Быстро в шапку помолись!
Вздрогнул баран, мелко затрясся и сотворил молитву. Мелкой дробью.
– О, господи! Женщины!
– Чтоб его черт драл!
– Зовите сестер Розочек. Записывайте его в мирские монахи.
– Тьфу! – Эмилия, будто угорелая, помчалась в участок, к господину Мешкяле.
Тогда и Гужас захохотал. Против своей воли. Зато громче всех, пыхтя будто паровоз, едущий в горку:
– Уф, уф! Уф! Набожный у тебя ученик, Напалис. Ни добавить, ни отнять!
– А сам учитель? Не способный парень? – хохотал, даже приседая, Горбунок.
– Способный-то способный, но что из него выйдет, Йонас Кулешюс?
– Может, начальник уезда, раз баран самого старосты ему повинуется?
– Не угадал ты, крестный, – сказала Виргуте.
– Держи язык за зубами! – закричал Напалис, покраснев, как маков цвет.
– А ты знаешь, лягушонок, что тебе грозит за осквернение моей казенной фуражки? – спросил Гужас и, преисполнившись артистическим гневом, сам ответил: – Исправительная колония! Знаешь, что это такое?
– Краем уха слышал. Но дальше не пошло.
– Это такое место, где мальчиков твоего возраста березовой кашей потчуют. Хочешь туда угодить?
– Покамест нет. Настоящей тюрьмы подожду, где на каторгу гонят.
– Ах ты, лягушонок! Что ты смыслишь в тюрьмах?
– Смыслю, господин Гужас. Это такое местечко, куда сажают всех, которым на свободе свободы маловато.
– Кто тебе говорил?
– Не только мне, и Зигмасу тоже.
– Кто?
– Тетя Марцеле.
– Что они у нас натворили, госпожа Кулешене?
– Ах, лучше и не спрашивайте, господин Гужас.
– Признайтесь по-хорошему, гаденыши!
– Ничего особенного, господин дядя, – стала объяснять Виргуте. – Когда тетя Марцеле пасхальным утром в костел ушла, а наш крестный сосновую метлу делал, они оба Пранукаса нехорошо веселили.
– Как так нехорошо?
– Петуха вместе с наседкой под печь сунули.
– Ну и что случилось?
– Что, что? – отрезал Напалис. – Петух без перьев остался, наседка – без яиц, а тетя Марцеле – без цыплят.
– Иисусе! Вот ироды. Как это я не слыхала? Вот всыпала бы обоим, вот турнула бы из дому.
– Так ведь всыпала. Так ведь турнула. После пасхи мы отдельно живем. В своем доме. Только с крестным ладим по-прежнему. А с тетей Марцеле – уже нет.
– Иисусе! Вот ироды!
– Так на что вы с сестрой живете?
– Сестру ее крестная Розалия кормит.
– А вы что кушаете?
– Брюхо – не море бездонное... По капельке да наполнишь, – ответил Напалис.
– Рыбу ловим, – сказал Зигмас.
– Не хвастайте. Моя жена права. Вы коров Тринкунаса сосете! Признавайтесь по-хорошему. Да, или нет?
– Вот и не угадали, господин Гужас. Яйца господина Крауялиса пьем.
– Вина та же самая. Воруете.
– А вот и нет! – гордо ответил Напалис. – Крауялисова Ева мне сама дает. По пять штук в день. – И запел:
Мне лишь два, а брату – три...
Где тут правда, говори...
– Ироды!
– За что дают, не понимаю?
– Чтоб мы сами не воровали, господин Гужас.
– Значит, уж был пойман? Да, или нет?
Напалис опустил голову, а за него ответила Виргуте:
– Да, господин дядя, но он дало клятву больше никогда-никогда не воровать, а за это Ева пообещала по пять яиц каждый день...
– Видишь, что творится! – поморщился Гужас. – Значит, толкнули на преступление честную девочку?
– А вот и нет! Я с ведома мамы! – пискнула Крауялисова Ева, выскочив из-за спины Андрюса Валюнаса, красная, будто клюквина.
– О-хо-хо! Что же мне с вами делать, братья Кратулисы? Все окрестные хозяева на вас жалуются. Стыд и срам. Вы же дети добровольца. По-правде, надо бы вас обоих в приют отдать. – И Гужас хотел сказать большую, прочувствованную речь, но Розалия ему не позволила:
– Хватит, ирод. Все равно Эмилия голоса твоего не слышит. – И вдруг ласковая стала, хоть к ране прикладывай: – Думаешь, мы не чувствуем, что у тебя, господин Гужас, золотое сердце, что в нашем Кукучяй ни один босяк из-за тебя еще не пострадал, между нами говоря?
– О-хо-хо!
– Альфонсас, да какая из тебя полиция, раз ни бабы тебя не боятся, ни дети? – ухмыльнулся Горбунок, притащив на своем горбу сыночка к самому окну. – Послушай меня. Бросай свой мундир. Самое время. Покупай землю. Живи честным трудом. Не придется тогда вздыхать... А я уж на помощь вместе с сыном и всеми своими крестниками приду. На сенокос – чтоб песни попеть, а на рожь – к столу дожинок, чтобы покушать всласть да попить.
– Дело говорит Йонас, – подхватила Розалия. – Вкуснее бобы в нужде, чем пироги в достатке.
– Да что с того, если моя вторая половина и смотреть в сторону Барейшяй не желает. Говорит, покупай эту землю себе на здоровье, а я в глуши жить не стану, и все тут...
– И я мамочку поддерживаю, – живо вставила Пракседа.
– Вы слышите? Обе одну песенку поют. Обе против отца.
– Пракседа, кто отца не слушает, сухой хлеб кушает! – крикнул Напалис.
– Не твое дело!
Не твое дело,
Не мои беды,
Нету умишка
У бедной Пракседы!
– Напалис – глупыш! Напалис – глупыш! – Пракседа пулей метнулась в дверь, чтоб пожаловаться своей маме и крестному отцу.
– Видишь, чего творится, – помрачнел Гужас, глядя на честную публику запухшими глазками, ища не то помощи, не то сочувствия. – Вы уж простите, сегодня я малость принял. Мне ужасно грустно. Никто меня не понимает.
И слезы, огромные, будто горошины, покатились по его щекам.
Пожалели босяки господина Гужаса, а больше всего – Напалис.
– Дяденька, ты же для них пустое место, бросай баб своих, найдешь чужих! В Барейшяй этого добра, нетолченых отрубей. Пускай они с этим бугаем Балисом живут.
– Цыц, ирод! Цыц! – яростно вскричала Розалия и тылом ладони смазала мальчишке по губам. – Я те покажу смеяться над несчастным человеком, я те покажу, яйцо несуразное, курицу учить! Вот погоди, вернется отец с работы! Все ему расскажу.
Напалис прикусил окровавленную губу:
– Тетенька, за что? Я же не свои, я твои слова...
– Цыц!
Гужас громко высморкался через окно и вполголоса сказал:
– Пошутили, и будет. Лучше скажите, что мне с этой изнавоженной фуражкой делать? Куда теперь ее дену?
– Дядя, будь человеком, подари мне, – попросила Виргуте.
– Вот так-так. А на что она тебе?
– Напалис, можно, я дяде правду скажу?
– Говори. Только меру знай.
– Не бойся.
И объявила Виргуте всем собравшимся, что в день святого Иоанна, после обедни, у корчмы Напалис будет показывать цирк! Белая Юла исполнит большую программу вместе с котом Яцкуса Швецкуса Чернышом, который после ранения не вернулся домой и перешел в полную собственность ее брата.
Объявление и бумажные маски (ими будут увешаны ставни корчмы) нарисует сын Валюнене Андрюс. На гармонике и свирели играть будет Зигмас (он и куплеты сочинит). В перерывах, если мать позволит, Крауялисова Ева будет читать стихи, которым научила барышня Кернюте. А Виргуте после каждого циркового номера будет собирать деньги. Для этой цели и нужна не простая фуражка.
– Ах, чтоб тебя черти!.. А для чего этот сбор, не скажете, бездельники?
– Господин дядя, наш Напалис мечтает вот этого барана у Тринкунасов купить. Это очень умный баран. Подходящий для цирка. Мы на нем большие деньги заработаем. И купим лошадь с телегой. Сможем тогда путешествовать по белу свету.
– Болтушка! Предательница! – крикнул Напалис. – И не думай теперь попасть ко мне в цирк.
– Напалис, братец. Не сердись. Ты лучше попроси дядю Гужаса, чтобы он на время Чернеца купил. Анастазас на тебя зол. Тебе-то не продаст.
– Верно говорит твоя сестра. Раз ты шутки понимаешь, то не можешь не понять и умного совета, – сказал Йонас Кулешюс и, вдруг сложив как для молитвы обе ручонки Пранукаса, обратился к Гужасу, как к самому господу богу, умоляя выслушать Виргуте, потому что для баб и детей босого люда настали тяжкие дни: их отцы, мужья и братья ни весточки не шлют, ни денег. Все ломают голову, не знают, что делать, чтобы вконец не оттощать. Думаешь – большое счастье к вымени чужой коровы прикладываться или краденые яйца пить, – да и милостыню принимать, в конце концов? Разве не становится теплей на душе, когда эти малыши добровольца своими головенками придумали, как денег заработать? И не так, скажем, как ксендзы, которые людей в баранов превращают; они-то животного научат человеческим повадкам и умножат в мире смех, который так нам всем нужен. Поэтому, Альфонсас, если ты собираешься не завтра так послезавтра землю в Барейшяй покупать, то сегодня приобрети племенного барана. Запомни, он тебе счастье принесет, потому что ты добро сделаешь малым сим. Как знать? Вдруг опостылеет тебе не только полиция, но и собственная земля (человека – целая гора, а здоровья – с гулькин нос), вдруг тебя Эмилия бросит, а меня – Марцеле? Или дети от нас отрекутся. Из дому выгонят! Может, мы оба на колени бросимся перед Напалисом да станем умолять, чтоб принял в свой цирк, а он, вспомнив про Анастазаса Премудрого, смилостивится? Я горбат, ты брюхат – оба в шуты годимся. Ах, Альфонсас, не сердись. Все мы шуты в сей юдоли плачевной. Все мы из одной глины вылеплены. Неважно, что фуражки у нас разные, неважно, что одни ниже, а другие выше стоим. Все равно в одинаковой мере стремимся к здоровью, Вильнюсу и независимости, за которую ты когда-то сражался. Эка важность, что на полковой кухне. Эка важность. Какой солдат, если его не кормить досыта, пойдет в атаку да будет кричать ура?..
Вот так и еще сяк говорил Йонас Кулешюс, пока не тронул самые тонкие струны сердца Гужаса.
– А ну вас к лешему! Сдаюсь! Берите фуражку. Зовите сюда хозяина этого проклятого барана. Только не старика Тринкунаса. Сына! Анастазаса Первого.
– Дело говоришь, Альфонсас. Теперь посмотрим, сколько после сватовства умишка осталось у тезки этого барана, какую цену он заломит? Напалис, одна нога тут, другая там! Если не послушается, скажи, что господин Гужас срочно вызывает по служебному делу.
Напалис – казенную фуражку на голову. Фьють – и помчался по огородам. Баран тоже затрусил было за ним, но Зигмас поймал да к забору его прижал.
Не успел Гужас пот со лба смахнуть да сказать свое «о-хо-хо!..» – Анастазас уже тут как тут.
– Чего надо?
– Хочу знать, почему не сообщил в полицию, что у вас баран пропал.
– Чего вы от меня хотите, господин Гужас? Мы барана уже второй год как не держим.
– А этот чей?
– Этого не знаю.
– Отрекаешься, как святой Петр от Христа?
– Я на вас в суд подам за оскорбление, господин Гужас.
– Ах вот оно как! Может, ты хочешь, чтобы я вызвал из Утяны эксперта и выяснил, сам этот баран такой шалун, или ты его рогами отомстил пани Шмигельской за сватовство?
– Ничего не выйдет, господин Гужас. Второй раз меня в желтый дом не запрешь.
– Напалис! – взревел Гужас. – Что ты теперь мне скажешь?
Напалис, вконец растерявшись, обнял барана, а ответил за него крестный:
– Мой крестник мог и ошибиться, господин Гужас. Может, это и не оборотень, а, скажем, синебородый монах в баранью шкуру залез, раз баран такой умный да набожный? Может, он вернулся покарать грешников кукучяйского прихода? По-моему, Анастазаса Первого надо оправдать и отпустить на все четыре стороны, а этого Премудрого взять под стражу и отдать Напалису на воспитание!.. Пускай Напалис выпытает из него всю правду и в день святого Иоанна у корчмы всем огласит, кто его настоящий хозяин – бог, черт или Тринкунас?
– Отец, беги! – крикнула Марцеле, но было уже поздно. Кулешюс успел всего на два шага отбежать. Анастазас, набычившись, ударил его головой прямо в горб... повалил будто бобовый сноп... и давай молотить руками да ногами. Отца и сына. Без разбора.
– Пранукас, где ты?.. – просипел Кулешюс.
Пранукаса не было. Пранукаса Марцеле, вырвав из-под ног Анастазаса, уносила, будто кошка издыхающего котенка.
– Боже милостивый, спаси моего Йонаса!
Но бог был далеко, а черный дьявол тут как тут... в облике бараньем.
Однако, примчавшись на крыльях смрадного ветра, баран долбанул не сноп, а самого молотильщика. Анастазаса долбанул. Прямо под коленки. Свалил с ног. А когда тот попытался встать – хрясть прямо в висок! И еще... И еще... Напрасно шептал Анастазас:
– Чернец... дьявол, прочь!
Чернец не узнал своего хозяина. А если и узнал, то в недобрую для того годину. Один бог знает, что творилось в бараньей башке. Почему он слушался только Напалиса и метил Анастазасу прямо в голову, хотя тот, обессилев, полз на карачках и хватал ртом воздух, пытаясь просунуть голову через штакетины забора. Но забор возле полицейского участка густой и новый, а за штакетинами полз, будто уж, на брюхе Зигмас и дышал Анастазасу в лицо луковым запахом:
Анастазас, не плошай,
Черту душу отдавай!
В шаулиса мундире
Ляжешь ты в могиле!
подтягивал Напалис, прыгая в ногах Анастазаса.
Анастазас умер бы от страха и позора, а дети и бабы босяков – от хохота, но тут ударил гром с потемневшего неба да как прогремит суровый глас божий:
– Прочь! Я вам покажу балаган под моими окнами!..
И полыхнула молния огневая, и застыл Напалис в купине бурьянной, и низвергнулся баран на стезю.
Это был господин Мешкяле! Он стоял, высоко подняв револьвер до тех пор, пока Анастазас, пошатываясь, не добрался огородами до дома, и пока не испарилась вся босая публика. Затем Мешкяле строго отчитал Гужаса и, велев оседлать кобылу, ускакал, вздымая пыль... куда-то.
Долго стояла тишина. Когда Гужас увел плачущую Эмилию домой, зашелестел бурьян, и Напалис, с трудом подняв голову, обратился к барану. Не в шутку. С настоящей болью:
Анастазас, клепка нужна —
Наш Мешкяле лишился ума...