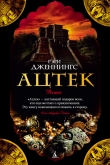Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
– За милую душу. Но покамест его нет дома, – отвечает Гужас, окончательно растерявшись.
– Ах, какая жалость!.. – вздыхает Фатима, отняв ребенка от груди, и торжественно просит господина Гужаса пересказать своему начальнику слова Мишки, а от нее лично передать вот этот золотой крестик, который она когда-то получила в подарок от господина Мешкяле и до сего дня носила на шее, но больше не может, поскольку Мишка стал осторожен, панически боится, чтобы его невесту полиция не обвинила в воровстве. Дело в том, что пашвяндрская пани Милда и кукучяйский настоятель Бакшис, имевшие случай на днях увидеть драгоценность Фатимы, в один голос твердят, что это – собственность покойной Ядвиги Карпинской, на которую имеет право лишь ее наследница графиня Мартина. И настоятель, и пани Милда предлагают большие деньги за этот крестик, но Фатима, по совету Мишки, склонна при свидетелях вернуть его господину Мешкяле. Пускай он делает, что хочет. Таков уж неписаный цыганский закон: кто хочет от бога помощи дождаться, тот должен с полицией ладить.
При этих словах Мишка спрыгнул с телеги и положил золотой крестик на подоконник участка:
– Дорогу! Дайте нам дорогу!
– Мишка, жених проклятый, куда теперь путь держишь? – кричит с забора Горбунок.
– В Цегельне. К Блажису.
– Зачем?
– Господина Бенедиктаса в сваты приглашать, барышню Микасе – в первые подружки и крестные матери.
– Хо-хо-хо! – разражается смехом толпа.
– А кто же будет свахой?
– Пани Милда.
– Вот компания, так компания честная!
– Как из твоего сна, Розалия!
– То-то, ага!
– Мишка, а нас, босяков, на бал пригласишь?
– Просим. Проше пана, всех. В лабанорском лесу места – сколько хочешь!
– Мишка, отвечай мне как ксендзу на исповеди, это правда, что литовские цыгане задумали тебя своим королем выбрать?
– Все может быть, пан Ян.
– Если бы не думали, то какого черта я, бросив начальника полиции, выходила бы за конокрада? – добавляет Фатима.
– Ах ты, гадюка полосатая.
– Вот язычок, так язычок.
– То-то, ага. Черт носил да ей подвесил.
– Вот икает теперь Мешкяле в Пашвяндре.
– Я бы на его месте со стыда помер.
– Глядите, Эмилюте-то как покраснела.
– Ура Фатиме – цыганской королеве!
– Перестань, ирод. Говори, Фатима, родная, как мы теперь, бабы босяков, без тебя жить будем, кто нам на счастье погадает?
– Не бойтесь. Не брошу я вас. Силой из королевского дворца вырвусь да в Кукучяй прибегу.
– Ты смотри, Фатима, смотри.
– Не оцыганься.
– То-то, ага. Нам чистая правда нужна. Не вранье.
– Ай да Мишка... Отвалил тебе господь счастья.
– Что и говорить. Такая баба! Слюнки текут. За что ни возьмешь – гладко, к чему ни приложишься – сладко.
– То-то, ага. У всех цыган Литвы глаза от зависти на лоб полезут.
– А приданое-то? Какое приданое от Фатимы получишь?
– Чистым золотом отвалит.
– Сколько?
– Сколько умещается в железном сундуке вашего настоятеля Бакшиса.
– Побойся бога, куда ты столько золота денешь?
– Корону цыганского короля отливать будем, музыкант, – ответила Фатима с застывшим лицом. – А что от короны останется – крестному отцу нашего рабенка. На золотые зубы! Передай, господин Гужас, своему начальнику. Пускай не теряет надежды – не живой, так мертвый в гробу разживется...
И такими словами принялась поносить господина Мешкяле... Такими словами! На языках всех народов... Даже у мужчин в глазах защипало.
Затихли люди. Э-ге-ге, брат, это тебе уже не комедия. Адской серой от Фатимы запахло. Черные глаза молнии мечут. Остается только грома ждать.
– Иисусе! Отец, ты слышишь? – подбежав к окну, вскричала Эмилия. – Эта кривасальская шлюха твоего непосредственного начальника поносит, могилой ему угрожает. Долго терпеть будешь? Прикажи арестовать!
Господин Гужас просто распух. В окне уже не умещался. Озирался крохотными глазками, словно зачарованный. На самом же деле. Такого чуда он не видел и не слышал, чтоб среди бела дня под окном полицейского участка матерый конокрад с этой шельмой девкой всему приходу спектакль устроили! Видишь, что творится, когда начальник полиции – потаскун. Стыдно. Страшно. А может, уже революция начинается? Может, сбывается слово Синей бороды, и этот проклятый баран – вовсе не баран, а пророк зла из книги царицы Савской? Господи, нужна ли будет полиция в день страшного суда? Что делать господину Гужасу – слушаться или не слушаться своей бабы? Ах, лучше уж заболеть. Ты посмотри, как кукучяйский люд, разинув рот, слушает проповедь Фатимы, как сучит от радости ногами Горбунок на заборе. Счастлив. Вот кто счастлив. Не сеет, и не жнет. Живет как птица небесная. Без портупеи и погон. Без страха перед будущим.
– О-хо-хо...
Повздыхал бы еще господин Гужас да поразмышлял малость, но его команды ждали Микас и Фрикас. Вот он и взревел, сурово, как только мог:
– Молчок! Еще слово – и протокол составлю! Я вам покажу властям угрожать!
– Прошу извинить, господин вахмистр. У моей невесты перед свадьбой нервишки пошаливают.
– Ничего не поделаешь, Мишка, – ответил Горбунок, – старая любовь не ржавеет. Ты уж потерпи, пока мерзлота страсти из Фатимы выйдет, пока своего счастья дождешься.
– Спасибо на добром слове! – и Мишка хлестнул кнутом Вихря по крупу, но жеребец – ни на шаг вперед, встал на дыбы и, развернув передние колеса телеги, пугливо засопел, одним глазом наблюдая за черным бараном. – Это еще что за черт?
– Он самый, Мишка... Он самый, которого Фатима из твоей свахи выгнала, а господин Мешкяле прихлопнул и, убегая из Кукучяй, поручил мне, королю безбожников, продать с молотка! Видишь, сколько покупателей сбежалось. Твоя кума Микасе уже успела в волосы жене нашего дорогого старосты вцепиться. Может, и ты, Мишка, желаешь этого черта купить? Чертятина и на свадьбу и на крестины сгодится. И дружкам, и кумовьям понравится. Помянешь мое слово. Будут все жрать, хвалить и еще сто лет вспоминать...
– Как высоко цену подняли?
– Двенадцать унций золотом.
– Добавляю тринадцатую.
– Тринадцать – один! Тринадцать – два! Тринадцать – три! – завопил Горбунок, будто судебный пристав, пиная ногой штакетины. – Забирайте. Только рогами не подавитесь, когда жрать будете.
– Не бойся, Кулешюс. Для цыган чертятина – не в диковинку, а наши гости и так с чертями дружбу водят, – ответила Фатима, а Мишка, схватив барана, швырнул на телегу.
– Фатима, плати из своего приданого!
– Верно говоришь, женишок. Пускай помолятся кукучяйские босяки за цыганских королей и королев! – не мог устоять на месте Горбунок.
– Черт бы вас драл! Пропади пропадом мое имущество! – гордо сказала Фатима и, достав из-за пазухи узелок, швырнула Кулешюсу.
Горбунок ловил да не поймал, Зигмас цапнул.
– Do widzenia![14]14
До свиданья! (Польск.)
[Закрыть] – крикнул Мишка, усевшись на черного барана и подняв кнут.
– Приятного аппетита! – ответил Горбунок.
Бросился Вихрь вперед, загромыхали цыганские повозки.
Когда рассеялась пыль, вся публика лишилась дара речи, потому что Зигмас Кратулис стоял возле забора и, остолбенев, глядел на клетчатый платок. В платке поблескивали золотые монетки.
– Иисусе! Царские десятирублевки!
Люди, что за кутерьма, —
Помешалась Фатима! —
затянул Горбунок и изо всей глотки взревел:
– Напалис! Напалис! Где ты, король циркачей? Цыгане пай в твой промысел внесли!
Напалис не отозвался. Тихо было в небе и на земле. Птицы и те щебетать перестали.
– О-хо-хо! – вздохнул Гужас. – Сущая чертовщина с этим бараном Анастазаса. Несите золото сюда, проверим. Может, фальшивое, может, обманули нас!
Принесли. Все окружили окно. Только двойняшки Розочки, тихие, будто куропатки, из-под ног толпы вынырнули и припустились по дороге. Не домой. Не к Напалису. Нет. Вслед за цыганами. Вслед за облаком пыли. К кресту Врунишки, под которым этой весной глубокой ночью после нападения Анастазаса они закопали оставшиеся золотые монеты. Господи, неужто эта кривасальская ведьма их нашла! Господи, на что они теперь купят церковный кубок для Напалиса?
Зря бегали двойняшки Розочки, зря твердую землю ногтями ковыряли. Золото оказалось нетронутым. Поэтому преклонили обе колена на каменном подножии креста и, глядя на распятие, принялись молиться. За Напалиса, конечно. Чтобы ангел хранитель прислал ему благословенный сон и осенил священным призванием.
А в курной избенке двойняшек, под белоснежной периной Розочек, метался Напалис, не в силах вырваться из дурного сна, который принес ему бесенок, опередив ангела-хранителя...
Будто бы отец Напалиса вернулся со строительства шоссе богачом и привез ему в подарок сверкающий велосипед, как пообещал однажды в пьяном виде.
Отец подался к Кулешюсу обмыть возвращение, а Напалис, усадив Черныша на одно плечо, а на другое – Юлу, да привязав к багажнику Анастазаса Премудрого, сел на велосипед и едет себе. По самой середине дороги. То дроздом свистит, то кукушкой кукует. Открываются окна и двери домов. Старики, потеряв дар речи, вздыхают, малыши чешут во все лопатки за ним да кричат:
– Напалис, куда ты?
Вслед за малышами – мыши, коты и собаки целой живой тучей несутся... Даже мороз по спине подирает. Бегите, чешите за цирком Напалиса. Хотя цирка в Кукучяй сегодня еще не будет. Цирк переложен на завтра. У Напалиса другая цель... Вот уперлись его босые ступни в теплый песок дороги. Велосипед остановился. Остановились все, кто бежал за ним. А Напалис смотрит на дверь кукучяйской школы и слышит только, как бьется его сердце. Ах, побыстрей зазвони, колокольчик!.. Ах, побыстрей выходи, Крауялисова Ева! Сегодня Напалис при всех детях, кошках и собаках городка не постесняется признаться в своем чувстве, которое каждый день заставляет биться сердце, когда он идет к Еве за пятью заслуженными яйцами. Но один черт знает, какими словами следует заговорить. В голове Напалиса сумятица, там тоже стучит сердце. В висках бьется. Стук-постук. И в затылке, и во лбу. Как будто пьяный Гарляускас, вечный ему упокой, пустил в дело все три колокола на престольном празднике святого Иоанна... Может, потому Напалис не может услышать пронзительный школьный колокольчик, а, увидев Еву со сверкающим в лучах солнца портфелем, впервые в жизни произносит святые слова:
– Господи, не завидуй моему счастью.
И вдруг его сердце замирает, пронзенное ревностью. Рядом с Евой – сын Валюнене Андрюс. Виргуте как-то говорила, что он опять начал рисовать для нее гренландские лилии, в цветках которых синицы кладут яйца. Из этих яиц вылупливаются пестрые пташки и порхают по небу под разноцветными облаками.
– Садись, если хочешь. Прокачу, – говорит Напалис Еве, почти не слыша своего голоса.
– Куда?
– Куда хочешь. Хоть на край света.
– Прокати до Буйтунай, – говорит Ева, глядя на него огромными счастливыми глазами и, повесив свой сверкающий портфель на рога барана, вскакивает на раму велосипеда. Запахло хорошим мылом, лицо пощекотала лента Евы. У Напалиса закружилась голова.
– Дорогу!
Странное дело. Голос от счастья пропал. Лишь эхо где-то вдалеке его голос повторило. А велосипед – ни с места, хотя Напалис крутит педали, стиснув зубы... Крутит, крутит, пока не осознает, что к багажнику привязан баран... Это он, упершись всеми четырьмя копытцами, не пускает Напалиса.
– Анастазас, будь мудр, – умоляет Напалис. – Анастазас, вперед!
Но мольбы не помогают. Сын Валюнене Андрюс улыбается, кукучяйские дети хохочут, в одно ухо мяукает Черныш, в другое – попискивает Юла... Только сестра Виргуте плачет. Ей одной жалко брата. Она тузит кулачком барана, но все напрасно... Напалис хочет соскочить с велосипеда, но свершилось чудо. Его руки прикованы к рулю, ноги – к педалям... Напалису остается лишь зажмуриться от стыда и отчаянно крутить педали.
– Напалис, сыночек, ты куда?
– Напалюкас...
– Крестник мой! – кричит Горбунок, Розалия, все бабы Кукучяй, весь городок над ним смеется. Гремит добрая сотня голосов, пока все не заглушает ржание жеребца. Содрогается земля, и Напалис, будто подброшенный пружиной, взлетает в воздух, в пьянящую высь. Продирает глаза. Ни велосипеда, ни Евы... Только ущербная луна плавает в голубом небе. Напалис протягивает руки и цепляется за краешек луны. Смотрит вниз и видит, что там все бабы и дети Кукучяй тычут в него пальцами, а Гужасова Пракседа скачет от радости и вопит:
На-на, на-на,
Ведьма у тебя жена!
Напалис оглядывается. И впрямь – тут же верхом на помеле летит гадалка Фатима. Как прильнет к нему своей крутой грудью, как начнет целовать Напалиса да ласкать... Залили Напалиса истома несказанная, бессилие сладостное...
– Напалис, Напалюкас, отзовись! – звенел где-то неподалеку голосок Евы.
Напалис напряг всю свою волю и, вырвавшись из объятий Фатимы, закричал:
Я не кум, ты не кума,
Твоя сласть чертям нужна!
И тут Напалис как полетит вниз, как полетит! Вниз головой. Убился бы насмерть, но ангел-хранитель на сей раз опередил бесенка – подушку подложил...
Вскочил Напалис с глиняного пола и до тех пор очухаться не мог, пока не увидел молоденького кота двойняшек Викария. Кот был перепуган не меньше Напалиса, скатившегося вместе с белой горой перин с кровати. Это Викарий, проклятущий, Напалиса лизал, оказывается! Бросился Напалис опрометью в дверь. А дверь-то заперта. Пронзила вчерашняя боль живот, но еще больше – нехорошая мысль его голову. Что будет, когда городок узнает, что Напалис целую ночь в кровати этих старых дев Розочек дрыхнул? Засмеют ведь. Пальцами затычут. Не только Пракседа. Сам крестный отец каждый день будет на нем свой знаменитый клык точить. А Ева? Хоть возьми и лопни со стыда... Вскарабкался Напалис по лесенке на чердак, по стропилинам – к дырявому коньку, высунул робко голову наружу и огляделся. Весь городок на ноги поднят. Изо всех окон его имя выкликают. Над всеми колодцами головы баб склонились. А от креста Врунишки двойняшки Розочки к городку чешут... Где же баран Анастазаса? Где сон, где явь? Что от бога и что от черта? Хорошо еще, что в штанах спал.
Протиснулся Напалис между латвинами и камешком скатился в рутовый садочек сестер Розочек...
Примчавшись в огород Розалии, упал в борозду цветущей картошки и долго валялся на спине, никак не понимая, что же случилось, откуда тошнота под ложечкой да слабость в поджилках. Когда в животе у него стали девять котов драться, подался в сад Крауялиса забрать свои пять яиц. Пролезая в брешь в заборе, собирался уже трижды свистнуть Еве, но до его уха донесся шепот. Даже вздрогнул Напалис от неожиданности. Тут же рядышком, под вишней, стояла на коленях Ева с книжкой в руках и, закрыв глаза, молилась. Дрогнуло сердце Напалиса, бросился он на землю и услышал нежданные-негаданные слова:
В садочке полынь плакала
Огнем закатной росы. —
Но, коровы мои, пеструхи!
У меня цветочек в косе.
Вот те на! Крауялисова Ева с хорошей жизни решила пастушку поиграть... Напалис чуть было не захихикал, но Ева глаза открыла. Глаза ее сверкали, будто звезды, а от шепота Евы деревья перестали шелестеть и птицы – свирестеть. Что с ней стало, почему она сегодня такая чудная? Таких прекрасных слов Напалис в жизни не слышал. Неужто эти стихи она у корчмы прочитает? В день святого Иоанна? Нет, нет. Не может быть.
Черноглазого люблю цыганенка!
Из красного клевера
Вчера сплетала для него венок,
А сегодня тоску плету.
Только теперь Напалис понял, что сон давно кончился. Никогда не было у него велосипеда, а Крауялисова Ева думала об одном лишь Андрюсе. Напалис сам не почувствовал, как вскочил на ноги и со злорадством завизжал:
Ева, Ева, пусти Андрюса на сено!
Напекут коровы лепешек,
Насыплют овцы горошку!
Мне, беззубому, – лепешки,
А горошек – твои четки!
Ага, как побледнела Ева, как вскочила из-под вишни, будто пойманная на воровстве.
– Напалис, ты знаешь, что тебя все ищут?
– Пускай ищут.
– Где ты пропадал?
– На луне.
– Дурак. Беги побыстрей домой.
– А ты... А ты беги к своему цыгану!
– К какому еще цыгану?
– А который для тебя невиданные лилии малюет.
– Не твое дело.
– Беги и скажи, что не нужны мне ни его афиши, ни маски, ни твои цыганские стишки. Мой цирк обойдется без вас. Без вас! Без глупых втюрившихся барышень!..
Напалис не кончил, потому что Ева подбежала и смазала ему по губам... Уж чего не ждал Напалис, так не ждал...
– Вдарь еще мне ногой в живот! Вдарь, как твой папаша, полицейский жеребец!
Побледнела Ева, как полотно. Ждал Напалис и дождаться не мог, чтоб она второй раз его по губам ударила... Ева убежала. Так и не раскрыв рта. Не догонишь ее теперь, своих слов не вернешь. Только белая книжица, брошенная в траве, манила взор. Напалис поднял книжицу и принялся складывать букву к букве. «Саломея Нерис. Следы на песке» – сложил кое-как. Приоткрыл большим пальцем странички. Там тоже всюду буковки. Только помельче. Целыми стадами будто овцы пасутся. Не Напалису их прочитать. Вот была бы здесь Виргуте...
Нехорошо получилось... Ах, как нехорошо. Не стоило Напалису эти последние слова, будто камни, в Еву швырять. Чистую правду говаривала тетушка Марцеле: «Язык, дитя мое, тебя погубит». Да что теперь поделаешь? Живьем в могилу не ляжешь. Так что положил Напалис книжицу обратно на траву и, прикинувшись веселым, запел:
Мне Евы не видать,
Яиц не получать!
Ах, почему ты, Фатима,
Меня свела с ума?
Вернулся Напалис домой грустный, будто тень. В избу не пошел. Под крыльцо амбара забрался. К своей Юле. Пожаловаться. К ее клетке. Увы, увы. Клетка была открыта. Юлы не было. Напалис ходил на коленках под крыльцом, на животе ползал, звал и попискивал, пока не обнаружил у углового камня своего Черныша. Черныш-то облизывался. Глаза злющие, остекленевшие. Даже не стал спрашивать Напалис Черныша, что же случилось. Без слов понял, что Черныш отомстил ему за барана, за вчерашнее оскорбление.
– Уходи с моих глаз долой! К своему Яцкусу Швецкусу! И больше сюда не возвращайся! Моему цирку убийцы не нужны! – сурово сказал Напалис, а когда кот улепетнул, горько заплакал...
Добрый час спустя обнаружила его здесь Виргуте и, страшно обрадовавшись, обняла:
– Почему хнычешь, дурачок?
– У дурной головы глаза на мокром месте, – ответил Напалис, поняв, что Виргуте не видит ничего в темноте, не знает еще, какое несчастье их постигло.
– Пошли быстрее, Напалюкас.
– Куда?
– К крестному Кулешюсу.
– Зачем?
– На поминки барана Анастазаса.
– Проснись.
– Ей-богу...
И выложила Виргуте подряд все, что случилось утром перед полицейским участком, да объяснила, что крестный отец Кулешюс две золотые денежки, вырученные за барана, отдал в заклад Альтману и притащил от него вина, лимонаду и конфет, а остальные тринадцать оставил Напалису. За это золотишко можно будет купить не только барана, собаку или дрессированного жеребца, но и льва или слона... Может, даже жирафа!
– Пойдем. Сейчас же пойдем. Там тебя все ждут. Без тебя крестный не позволяет Розалии начать бараньи поминки, раскрасневшись, – звала брата Виргуте.
Что делать Напалису-то? Встал и побрел за сестрой, все еще сомневаясь, не снится ли ему и это, или его сестру тоже укусила бацилла Анастазаса.
15
Поминки по барану Анастазаса первым испортил кукучяйский почтарь Канапецкас, известный любитель выпить за чужой счет. В самом разгаре пира перешагнул он порог Кулешюса и, отделив всех баб и стариков своей всегда влажной рукой, вручил Розалии письмо. У Розалии тут же нож из рук выпал. И вилка тоже. От дурного предчувствия екнуло сердце. А за Розалией всех баб босяков холодный пот прошиб.
– Не дай боже несчастья.
– То-то, ага. Смачный смех – к горьким слезам.
Канапецкас вызвался было прочитать письмо, но Розалия протянула конверт своей крестнице Виргуте. Горе или радость – лучше уж с уст почти родного ребенка. Все ж сердцу легче выдержать. Так что усадила она девочку в красный угол, локтями раздвинула в стороны кушанья да напитки и велела вслух читать грамоту Умника Йонаса, не пропуская ни единой буковки, потому что не только Розалия... Все бабы истосковались по мужскому слову.
Начал свое письмо Умник Йонас, как и положено, с приветов и поклонов всем бабам работяг в отдельности, да извинением от лица мужиков, что так долго не писали. А почему? Сами должны догадаться. Хорошего настроения не было. Рука карандаша боялась... По правде говоря, и теперь то же самое, но дело писать заставляет, бабоньки. Худо теперь кукучяйским работягам. Никогда еще так не бывало на жемайтийском шоссе. Поймите, в первую неделю, когда до места добрались, ни один из нас работы не получил. Подрядчик Урбонас сказал прямо: «А какой черт вас в такую даль пригнал?» Лишь на восьмой день доброволец Кратулис с пятью мужиками получил разрешение гравий из куч таскать, а Умник Йонас с другими пятью – канавы на обочинах копать. Заработок на треть меньше, чем в прошлом году. И то еще Урбонас сказал: «Радуйтесь и бога благодарите! Не будь вы моими земляками, послал бы я вас к чертям собачьим». Десять дней на радостях мужики вкалывали, не разгибая спины. Что заработают, то и проедят. И Урбонаса при этом хвалят... А на одиннадцатый день на всем участке шоссе началась стачка землекопов из-за скудных заработков. Кукучяйские мужики еще попробовали было работать (вроде и не с руки против старого знакомого да земляка идти), но на двенадцатый день пришел незнакомый мужчина, созвал стариков и выложил, какие барыши получает подрядчик Урбонас, обкрадывая землекопов на треть заработка. Вот те и земляк, вот те и благодетель родной... Не стали больше возражать кукучяйские мужики, а Пятрас Летулис добавил: «Раз все, то все. Нету другого пути для пролетария». Тогда и начались все беды, потому что подрядчик Урбонас, рассвирепев, на тринадцатый день из Тельшяй привез штрейкбрекеров. Драка началась что надо. Много зубов и те и другие оставили на шоссе, но победу одержали землекопы. Тогда Урбонас вызвал полицию и показал пальцем, которых из работяг арестовать. В их числе оказался и Пятрас Летулис, потому что ходил с другими мужиками посмелее к Урбонасу требовать прибавки и, говорят, прямо в лицо ему бросил: «Не человек ты, а глиста. Задавить тебя – не грех». Землекопы взъярились, не захотели полиции своих друзей отдавать, и опять драка... Но на сей раз работяги проиграли. Полиция начала стрелять. Рассеяла всех и забрала, кого хотела. Один только Пятрас Летулис, прихлопнув прихвостня Урбонаса, дал деру. Под Гаргждай дело было. И поэтому его теперь ищут. Стасе, жена его, с ума сходит, а прочие кукучяйские работяги тоже невеселы, но продолжают вкалывать и вместе с другими землекопами ждут весточки из Каунаса, куда стачечный комитет выслал своих представителей с жалобой к самому президенту. Вместе с ними – и наш Кратулис-доброволец. Посмотрим, что из этого выйдет. Так что ругайте нас, дорогие бабоньки, а нас сам черт не возьмет. Щавеля на обочинах навалом. Стасе похлебку сварит с вороньим крылом, слезами посолит – работяге свое пузо обмануть немудрено. Куда мудренее силу духа соблюсти при обманутом-то пузе и правды дождаться. Пока что общее мнение такое – Урбонасу не сдаваться. Если стачка провалится, попробуем искать работенку в Клайпедском порту. А может, у хозяев – сенокос-то на носу. А то и в Латвию отправимся, еще куда-нибудь подадимся. Короче, раз жить, раз умирать, – ваши работяги не пропадут. Главное, чтобы вы, гусыни наши, не унывали, чтоб снились вам про нас хорошие сны. В конце этого письма передаю тебе, Розалия, огромную просьбу Стасе и мой строгий наказ: сбегай на хутор Блажиса, к нашему Рокасу, и предупреди – если Пятрас там покажется, пускай он ему во всем помогает и скажет, что прихлопнутый им прихвостень Урбонаса Юкняле через сутки очухался и в Клайпедской больнице, где его проведали Стасе с Алексюсом, дал слово – если получит триста литов, дело против Пятраса возбуждать не станет. Так что дай боже нам выиграть эту стачку. На небе или на земле, у бога или у черта – мы эти деньги выдерем и легавой Урбонаса пасть заткнем. Беда Пятраса – наша общая беда. Конечно, спокою ради, эти проклятые сотни лучше сейчас иметь при себе, и потому стоит тебе, Розалия, про наши хлопоты обмолвиться Альтману. Может, догадается нам подсобить? Может, фельдшер Аукштуолис хоть часть наскребет? Ведь это он, как Стасе сказывает, учил Пятраса, что работягам надо ненавидеть буржуев да правду искать. Так что пускай теперь поделится с Пятрасом плодами своей науки. Этого, конечно, ты ему не передавай. Стасе, с горя голову потерявши, сама не знает, что говорит. Ох, бабоньки, чтоб вы знали, как мы теперь, все кукучяйские работяги, ненавидим своего благодетеля Урбонаса! Чтоб он подавился, чертяка, тем капиталом, что на нашем поту сложил! Верно говорил Аукштуолис, когда мы Урбонаса хвалили: «Подождите, подождите вы, мышки несчастные... Еще покажет вам кот свои когти да зубы». Так что передай ему, Розалия, что его слова сбылись. Мы исцарапаны, искусаны, один-другой даже без зубов, зато умнее, чем были. Но лучше бы, коли для счастья Стасе и нашего общего спокою мы вернулись бы домой вместе с Пятрасом. Покамест все. Теперь наш черед дождаться от вас весточки. Пускай Виргуте черным по белому черкнет, что творится в вашем бабьем мире, и письмо отправит, надписав на конверте: «Йонасу Чюжасу. Гаргждай. Почта. До востребования».
Воцарилась тишина.
– Когда письмо-то написано? – первой опомнилась Розалия.
– Двадцать шестого мая.
– Иисусе, дева Мария! Месяц назад! – охнула Мейронене.
– То-то, ага. Целый месяц наши мужики без хлеба и вестей.
– Бог ты мой. Может, с голоду перемерли, а мы тут пируем посреди бела дня!
Застонали, зарыдали бабы босяков. Одна только Розалия голову не потеряла, с трудом грудь со стола подняла и обратилась к хозяину дома:
– Йонас Кулешюс, ирод. Чего же ты ждешь? Почему нас истязаешь?
Йонас Кулешюс выпучил глаза, ничего не понимая. А Розалия, побагровев, трахнула кулаком по столу:
– Видишь, какой ты черт! Весь свой век из кармана наших мужиков пьешь, а когда сам разбогател, совесть потерял да любовь к ближнему!..
– Чего ты от меня хочешь, Розалия?
– Ах, чтоб тебя Анастазас на небеса загнал... где бы ты ни жрать, ни пить не достал! Где бы одной манной небесной питался!
– Что ты, Иисусе! Смилуйся. Позволь еще разик вздохнуть, позволь винчишко поровну всем бабам разлить и, оставив себе последний стаканчик, пожелать вам всем счастливой жизни!
– Не придуривайся. Валяй баранье золото на стол!
– Да этот бесовский капиталец не мой, Розалия.
– А чей?
– Братьев Кратулисов и их сестрички, твоей крестницы Виргуте.
– Дети, где вы? – возопила Розалия.
Из самого темного угла вылез Зигмас и, не говоря ни слова, шмякнул клетчатый платок Фатимы с золотом прямо под нос Розалии.
– Где наше не пропадало, – вздохнул Напалис. – Пускай слон с жирафом в Африке попасутся, пока Пятрас со Стасе в Кукучяй не вернутся да нам долг не возвратят, а вместо процентов – заберут для нас от Блажиса пашвяндрского быка Барнабаса и бывшую первотелку Тринкунаса Пеструху о трех сосцах.
– Что вы будете делать, сиротинки, с этими божьими тварями? – удивленно спросил Горбунок.
– От Барнабаса деньги будем доить, от Пеструхи – молочко. Вместо пяти яиц Крауялиса – каждому по сосочку: мне, брату и сестричке нашей.
– А кто мне говорил, не ты ли, что эта Пеструха сама себя выдаивает?
– Лиха беда, крестный. За деньги Барнабаса сможем пастухом для Пеструхи нанять господина Мешкяле, подпасками – Микаса да Фрикаса или Анастазаса да Дичюса. А может ты, дядя, со своей тетей Марцеле и Пранукасом подработать желаешь?
Горбунок только рот разинул. Ну, и захохотали же бабы, ну и завизжали же дети, когда крестник своему крестному рот заткнул.
– Пранукас, сыночек единоутробный, выручай своего отца! – вскричал, наконец, Кулешюс, но Марцеле тут же набросилась на него, как наседка на ястреба:
– Отвяжись, нечистая сила! Мало ему, что вчера ребенка с пути свел... Оставь его в покое хоть сегодня. Пускай он сперва свою головенку разбитую с подушки поднимет, пускай его расшибленная губа заживет.
– Не хоцу, цтоб губа зазила, – ответил едва живой, белый как бумага Пранукас с горки подушек.
– Почему, сыночек, радость моя? – застонала Марцеле в страшном испуге.
– Поцему, поцему? Не хоцу больсе молитву творить. Не хоцу ксендзом быть!
– О, господи... Так кем же ты хочешь быть, сыночек?
– Зайциской трегубым, – ответил Пранукас. – Хоцу в цирк Напалиса, мама. Вместе с папой и господином Гузасом.
– Иисусе, дева Мария, что ты бредишь? Неужто и у тебя от бациллы Анастазаса в головенке помутилось?
– Нет, мамоцка. Бацилла – не сило. Мне лобик не просила.
– А что же с тобой вчера случилось, сыночек, помнишь?
– Мне вцера церный церт оцень понравился, куда больсе, цем белый ангел у нас в костеле, – ответствовал Пранукас. – Когда умру, не хоцу больсе на небо. Хоцу в пекло. Куда музцины идут.
– Боже мой, а куда мне деваться после смерти?
– А куда ты денессья, мамоцка? Куда мы с отцом, туда и ты... И зивые, и мертвые – все вместе.
Марцеле изменилась в лице. Обняла ноги ребенка и застонала, словно чуя беду. Розалия, баба Умника Йонаса, громко вздохнула:
– Вот ирод! До чего умен. Того и гляди, моего Йонаса опередит.
А Горбунок, будто на седьмом небе оказавшись, поднял стаканчик с вином на вытянутых руках, словно сугинчяйский Бельскис кубок перед алтарем, и воскликнул:
– Выпейте, сестрицы, за мою плоть и кровь – за здоровье Пранукаса! И за обоих моих крестников – работодателей всех артистов Литвы и благодетелей всех кукучяйских босяков.
Сглотнул Горбунок вино, будто воробей комарика, зажмурился от блаженства, чмокнул в донышко стаканчик, наполнил его и пустил по кругу, чтоб ни один старик, ни одна баба не остались не отведав, чтоб в избенке сапожника радость и счастье сегодня лились рекой, чтобы каждый ребенок хрустел конфетами и лимонада получил вволю. Рай, да снизойдет на землю истинный рай...
Откуда он мог знать, что озорной дьявол уже закидывает петлю на шею бабам, старикам и детям босяков?
В самый разгар пира, когда Горбунок уже дал команду Розалии бежать к Альтману и поменять царское золото на сметоновское серебро, а господину Канапецкасу – к себе на почту и отправить телеграмму в Гаргждай, что кукучяйским работягам, проливающим пот да кровь, посланы перевод на триста литов, и душевный привет от поминальников по барану Анастазаса, и пожелание побыстрее всем кормильцам целыми и невредимыми вернуться домой, выиграв сражение против Урбонаса и достроив шоссе до самой Клайпеды, с полными карманами денег и с резвыми жемайтийскими бесенятами на поводке, чтобы всем шальным бабам, а особенно Розалии, всего хватило для полного счастья... И в эту-то минуту открылась дверь избы Кулешюса, а сапожник запнулся на полуслове. Из темноты сеней вошел дьявол в фуражке с красным околышем, в господина Мешкяле облике. За ним – Микас и Фрикас, а за теми – Анастазас и Дичюс.