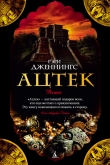Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Поскольку Виктория ответить не сумела, Тамошюс Пурошюс не выдержал на «одре немощи» и объяснил сыну, что люди завидуют такой хорошей службе его отца, а в нем самом – голоску, серебристому колокольчику, который ценнее самой высокой должности, потому что певец Кипрас Петраускас сто крат счастливее президента Сметоны. Его никто и никогда не свергнет с трона. Он был и всегда останется королем.
Заговорил Габрису зубы, задурил голову и отправил обоих с матерью в костел к святой мессе за независимость Литвы. Сам, как лев в клетке, метался из угла в угол и размышлял. Поначалу – кто мог устроить такую пакость, потом – какую выгоду можно получить от полиции, воспользовавшись этим случаем, когда Тамошюса Пурошюса сделали без вины виноватым и сравняли с подлецами высшей пробы. Страшное дело – общественное мнение, как выражается Умник Йонас. Не побежишь ведь в квартал босяков, не закричишь: «Мужики, я не виновен!» Остается одно – быть умным, гораздо умнее тех, с которыми прикован к одному позорному столбу, дабы в благоприятную минуту мог бы публично бросить обвинение всей босой публике: «Темнота, лошади ломовые, за что вы меня презрели? Тамошюс Пурошюс никогда не был таким, как вы считали! Продав полиции глаза и уши, он оставил себе чистую совесть, честное сердце и шустрый ум, благодаря которому обвел вокруг пальца самого Юлийонаса Заранку, не говоря уже о Болесловасе Мешкяле, представителе местной фауны, как выразился бы Умник Йонас. Так что на колени все перед Тамошюсом Пурошюсом, сотрите с его лица незаслуженные плевки! Он достоин стать у вас большим начальником. Волостным старшиной – не меньше... Да что поделаешь, если судьба к нему не милостива. Умоляйте настоятеля Бакшиса, слезно просите. Пускай он назначит Тамошюса Пурошюса хотя бы звонарем. И еще – взывайте к всевышнему, чтобы сын Пурошюса Габрис заделался Кипрасом Петраускасом. А если нет... Пускай будет он хоть кукучяйским органистом. Но запомните раз и навсегда – пусть никто не смеет напоминать ему о прошлом отца и прозывать сыном Иуды, потому что Тамошюс Пурошюс ради своего Габриса может черт-те что сделать – весь городок подпалить, себя и других отправить к Аврааму».
Тут в избу ввалился господин Гужас, еще не опохмелившийся после ночной пьянки. Поставил он на стол бутылочку водки и, обняв Пурошюса, как брата родного, попросил вернуть револьвер, потому что Эмилия, услышав о его бесповоротном решении порвать с полицией, стала с ума сходить, зеленой пеной блевать. И Пракседа разоралась: «Ты мне больше не отец!» Не остается ничего другого, как отложить исполнение своего плана до весны или осени, когда у Эмилии окрепнут нервы.
– Зря уступил, господин Гужас, – возразил Пурошюс. – Бей ты ее... Бей как гадюку полосатую, прищемив хвост расщепом.
– Сердце не позволяет.
– Ты не сердца слушай, а – голоса рассудка. Заруби на носу – если бабе уступать, далеко не уедешь.
Уселись они оба за стол и стали водочку сосать. Чем тише вздыхал Гужас, тем острее ныло сердце у Пурошюса. Ведь и он из-за барских прихотей Виктории не смеет плюнуть на собачью службу и честным трудом хлеб зарабатывать. Гужасова Эмилия еще хоть бзырит иногда, а Виктория и слушать не желает об умножении семейства.
– Не удалась у меня жизнь, господин Тамошюс.
– И у меня тот же черт, Альфонсас, – вздохнул Пурошюс. – Хорошо Умнику Йонасу. Гол, но сокол – для себя и для бабы своей.
5
Под конец февраля Розалия Чюжене стала уставать от внимания баб и слухов, которые они приносили. Мало, видите ли, беспокойства ей доставляла харя своего Умника, который с каждым днем все больше мрачнел, склонившись над своей проклятой «радией»? Последняя капля, переполнившая чашу ее терпения, случилась после заговенья, когда бабья стая запрудила с самого утра дом, принеся страшную весть, что викарий Жиндулис, залив вчера водкой глаза, с револьвером набросился на Гульбинаса из деревни Панатритис, который стучался ночью к нему в дом, умоляя соборовать его бабу, которая никак не могла разродиться. Викарий схватил парня, бросил на крыльцо и стал месить ногами. Хорошо, что органист Кряуняле выбежал на двор и спас. Все зубы вышиб бы, потому что викарию Гульбинас показался похожим на Пятраса Летулиса.
– Вот те и на!
– Иисусе, дева Мария!
– Что теперь будет-то?
– Как исповедоваться такому ксендзу? Как святое причастие из его рук принимать?
– Ты об этом подумала, Розалия? Подумала, какие руки твоего ребеночка крестить будут?
– Тьфу! И рожать расхотелось.
– Полицейский, не ксендз.
– То-то, ага. Не приведи господи! Спаси и сохрани детей наших, чтоб такой креститель не сглазил.
Сама не почувствовала Розалия, как заверещала:
– Вон! Вон все из моего дома! Чтоб ноги вашей тут не было! Пускай все ксендзы полицейскими станут! Пускай сам папа римский начальником уезда заделается! Мне один хрен! Чихала я! Хоть в великий пост оставьте в покое барабанщика моего живота! Слыхали, что я сказала? Или мне помело взять?
Разбежались бабы с криком, схватившись за голову. Господи, что тут творится? То ли не той ногой встала, то ли ее бацилла Анастазаса укусила?
– То-то, ага.
Несколько дней Розалия провела спокойно. Но опять плохо. Днем еще как днем, пока Йонас, обхватив «радию», Клайпеду от Гитлера охраняет, а ты, занявшись бабьими хлопотами по дому, за разными занятиями забываешься. А что делать вечером, когда Йонас, налопавшись мирового эфира вместе с картошкой да небеленым свекольником, уходит к Кратулису на сейм босяков? С ума спятить недолго. В ушах начинается звон, и скверные мысли из чертовой собственной «радии» лезут. Мысли – совсем не бабьи... Мысли – государственные, которые ни молитвой, и руганью не отгонишь. Господи, почему ты Литву нашу на всемирном перекрестке расположил, под ногами сильных мира сего? Почему она вечно всем мешает? Кто хочет, тот стрижет да кусает, будто овцу. В прошлом году поляк угрожал, в этом – немец... Много ли надо, чтобы война вспыхнула? Что ждет того, который теперь под сердцем Розалии ручками да ножками барабанит, в этот безумный мир просится? Ведь не удержишь же его, о, господи!
Побрела бы Розалия по сугробам душу отвести в баньку Швецкуса к Стасе и ее маленькому Пятрюкасу, но опять же... Глянешь в окно, и мороз по спине продирает. Темно. Жуткие тени за гумнами бродят. Может, там Пятрас Летулис с винтовкой? Или эти шесть крыс вокруг городка шныряют да его след вынюхивают? До чего же страшно, когда полон городок шпиков! Не дай боже перепугаться в такую чувствительную пору. Лучше уж дверь на засов запереть и помолиться за Пятраса Летулиса.
– Господи, не завидуй его счастью! – шепчет Розалия и, не зажигая лампы, идет спать.
А вот попробуй засни на малость, когда каждый шорох мучительно больно отдается в сердце твоем и ты то и дело поднимаешь голову, внимая всем телом – не идет ли кто, не зовет ли на помощь...
– Господи, что делать?
Выслушал господь Розалию. Пришла однажды вечером Кратулисова Виргуте, восхвалила с порога Христа и сказала:
– Тетенька, меня дядя Йонас к вам пригнал. Говорит, твоей крестной скучно одной. А у вас в избе, говорит, табачного дыму столько, что задохнуться можно. Ничему путному в таком дыму не научишься, говорит.
– Ах, чтоб бог тебе здровья дал, доченька! – взволнованно воскликнула Розалия. – Где мой разум был, где совесть моя была? – И, поцеловав ее, добавила: – Живи, Виргуте, у нас, и днюй и ночуй...
Так и получилось.
С того вечера у Розалии в глазах посветлело. В избе будто в костеле стало. Тихо, спокойно, уютно.
Возвращается Виргуте из школы, поест, пол подметет, углы подчистит и за стол садится. Скребет, будто мышка, перышком по тетрадке или книжки читает.
Наглядеться не может Розалия на свою крестницу, и добрые чувства сердце щекочут. Ведь и ее ребеночек когда-нибудь вот так скрести перышком будет. Йонас – как хочет, но Розалия своего поскребыша не отдаст чужих гусей пасти. Пускай учится. Пускай все братья и сестры помогают ему со своего батрацкого жалованья. Может, хоть один ребеночек Розалии поест белого хлебушка, пока школьную парту протирать будет. А что потом? Ах, господи, есть ли конец учению? Много ли ума прибавила человечеству вся эта наука, раз до сих пор мир без войны не обходится?
– Виргуте, что это ты напеваешь?
– Стихотворение учу наизусть.
– Учи, доченька, погромче, чтоб и я слышала.
– Тетенька, а у меня еще так не получается, как Кернюте учит и Крауялисова Ева может.
– Попробуй.
– Стесняюсь.
– Кого же? Неужто меня?
– Сама не знаю.
– А ты закрой глазки, доченька, и попробуй.
Что делать Виргуте? Зажмуривается она и начинает:
– «Юрате и Каститис».
Поначалу Розалия слышит только дрожащий голосок Виргуте, точно далекий колокольчик. Уловив первые слова, сразу понимает, что мать стоит на берегу моря, ждет не дождется своего сына рыбака, который уплыл далеко выбирать сети и его заманила девка морская... Опьянев от гула ветра да грохота прибоя, Розалия, сама того не чувствуя, начинает думать о старшем сыне Вацисе. Почему так долго нет от него вестей? Добрался ли он до этой распроклятой Америки? Если жив, то неужели не чувствует зова своей матери... Такой был чувствительный мальчик и, расставаясь, повторял, целуя Розалию: «Ты не бойся, мама, я напишу...» Господи, не завидуй его счастью... Господи, надоело матери ждать. Слышишь ли ты, восседая в раю, как бьется неспокойно под сердцем Розалии младший брат Вациса? А может, сестра?.. Если тебе не жалко мать семерых детей, то пожалей хоть будущего младенца.
– Тетенька, все.
Глянь, Виргуте уже глаза открыла. Глаза у нее синие-пресиние и огромные, блестят в лучах солнца, как далекие воды. И в слезинке, повисшей на реснице, сверкает радуга. Так и чуяло сердце Розалии, что с этим белоснежным Каститисом стрясется беда. Девки, они все такие – и простые босячки, и богини. На шею тебе повесятся, на дно затянут и заарканят. Ни один настоящий мужчина перед этой силой не устоял и, видно, не устоит. Погиб парень...
– Ах, боже ты мой, и кто во всем этом виноват? Ведь любовь-то была, была? – спрашивает Розалия у Виргуте и сама отвечает: – Бедность. Бедность треклятая, которая в море его выгнала. Бедность – это злое божество, которое жизнь всех наших босяков разбивает вдрызг. Не плачь, Виргуте. Всякое на свете бывает... Лучше еще раз повтори. Бог ты мой, какая красота! На сердце сладко.
Одного только Розалия не понимает, почему после бабьей болтовни так бывало тяжко, а теперь – так легко.
– Что это за чудо? Чье стихотворение-то?
– Майрониса.
– А кто он такой?
– Ксендз.
– Жив еще?
– Кернюте говорила, помер уже...
– Бог ты мой. Повтори еще разочек.
На этот раз голос Виргуте уже не дрожит. И слез нету. Будто волны льются стихи. Одна волна за другой. Зато Розалия уже сопит и слезы текут в три ручья. Не может удержаться Розалия, хотя и шепчет «Отче наш» да «Вечный упокой» за душу того, который написал стихи. Ее сердце полнится добротой. Она удивлена, что был такой ксендз, который понимал любовь босяка парня и жалел, что он погиб. А может, бог даст, и ее живота барабанщик такие стихи писать будет? Пускай он тогда будет ксендзом, господи. Пускай будет. А учительница Кернюте пускай будет его крестной матерью, раз такую красоту сеет в душах детворы. Вот это идея, как сказал бы Умник Йонас! Алексюс Тарулис пускай будет крестным. Все матери городка просто не нарадуются, как он своего крестника Пятрюкаса опекает с одинокой матерью. Каждый день с корзиной в баньку бегает, каждый день сам каменку топит. Видишь, что может настоящая старая любовь! Видишь, каким серьезным мужчиной стал Алексюкас после того, как воскрес из мертвых и одно лето провел с работягами. Чтоб только не испортился на хлебах звонаря от ничегонеделания. Вот, значит, и все. Остается только ребеночка Розалии окрестить Каститисом, как в этом стихотворении ксендза. Господи, будь милостив к нему, не наделяй его судьбой того морского рыбака. Пускай он да сынок Стасе Кишките Пятрюкас будут счастливы, и поэтому Розалия готова на последние гроши устроить им обоим крестины на пасху, когда ты, всевышний, вознесешься на небо, отринув землю и смерть. Для вящей славы кукучяйских босяков и твоей, господи, пускай оба они, когда вырастут, пишут стихотворения и будут ксендзами.
– Господи, не завидуй нашему счастью, – забывшись, прошептала Розалия, и ее крестница Виргуте не могла понять, почему тетушка проливает слезы. Ведь она уже давно кончила стихотворение про несчастную любовь Юрате и Каститиса.
Вечером того памятного дня Умник Йонас не пошел на сейм босяков, потому что политический климат в Клайпедском крае окончательно ухудшился. Розалия строго-настрого приказала ему дежурить дома, окунувшись в радиоволны, а сама бабью думу думала и молилась доброму богу, чтобы он не покинул Литву в беде. Скоро прибежала Виргуте готовить уроки, вся такая счастливая, потому что сегодня учительница Кернюте ей за стихотворение ксендза пятерку поставила и похвалила перед всем пятым классом, сравнив ее с Крауялисовой Евой... На радостях обвила она ручонками шею своей крестной и целовала, целовала без конца...
Ах ты, господи, думала Розалия, совсем неплохо, если б родилась и девочка, похожая на Виргуте. Ласковая, шустренькая, с глазками цвета льна. Выросла бы и стала учительницей, как Кернюте, которая сироте босяка пятерки не пожалела и доброго слова, сравняла с господским ребенком. Боже мой, как эта куропаточка по маминой ласке стосковалась! Милюте, ах, Милюте, почему ты в могиле, почему твои уши не слышат, как радуется доченька?..
– Да будет тебе! Заклюешь меня, дитя мое, – млела от счастья Розалия. – Я тебе не говорила, что стихи надо громко читать и чувства не стесняться? Скажи, ты зажмурилась, когда начинала?
– Учительница не разрешила, велела смотреть классу в глаза, когда читаю. Сказала, Майронис свое стихотворение для людей писал, а не для потолка.
– Правда. Великая правда. Когда я училась, этот ирод Анастазас говорил стихи, глядя в потолок... Сама видишь, ничего путного из него не получилось. Вшивый шаулис да и только.
– Ах, тетенька, но ты не знаешь, как мне поначалу трудно было.
– Почему?
– Пракседа мне язык показывала.
– Ирод!
– А Крауялисова Ева нарочно сморкалась.
– Обе одинаковы, кровь одного отца! Так что же ты сделала, доченька?
– Я на Андрюса смотрела.
– Почему? Разве, кроме него, больше хороших детей нету?
– Второго такого нету. Он лучше всех.
Не дала больше Виргуте Розалии рта раскрыть. Такие псалмы про сына Валюнене запела! Как о царе Давиде. Он-де и самый красивый, и самый серьезный, и за косы девочек не дергает. Только сидит на задней парте, в самом темном углу, и рисует. Все рисует да рисует. На уроках и переменах.
– Что же он рисует?
– А что ему в голову взбредет. Чаще всего нас всех. И все мы на зверей и птиц похожие получаемся.
– Вот те и на!
– Нет, ты не знаешь. Со смеху можно лопнуть. Пракседа – вылитая сова. Сын старосты Даубы Гедиминас – как индюк.
– А ты?
– Меня он еще не рисовал. Подумать страшно, что из меня получится. Я ведь такая уродина.
– Ты самая красивая.
– Нет, тетенька... Не ври. Самая красивая в пятом классе Крауялисова Ева. Андрюс в нее влюблен.
– Не может быть.
– Христом богом!.. Чего она ни попросит, то он ей и рисует. Поэтому Ева и пятерки получает по рисованию.
– Не может быть. Неужто Кернюте слепая? Неужто не видит?
– Ах, тетенька. Кернюте их обоих обожает. Крауялисовой Еве она книжки стихов дает почитать. А Андрюсу... Могла бы – сердце отдала. Скажешь, нет? Сегодня Андрюс получил от Кернюте толстенную книгу, в которой все птицы и звери лесные. И все разноцветные. И бумаги огромный лист дала. Попросила Андрюса за пасхальные каникулы на этом листе всех птиц и зверей нарисовать, раскрасить и школе отдать, а книгу себе оставить. И еще написала на первой чистой странице: «Моему любимому ученику Андрюсу Валюнасу. На добрую память о светлых днях детства. Учительница Алдона Кернюте». Вот!
И прильнула Виргуте горящими щеками к набухшим грудям Розалии и слово в слово пересказала историю, которую учительница Кернюте сегодня под конец урока поведала о широкорогом лосе Бивайнского леса Тадасе Блинде... Как он когда-то в пасхальную ночь, не боясь смерти, к любимой жене Еве пошел, чтоб новорожденного сына увидеть; как жандармы из засады ему в спину тринадцать пуль пустили, но Тадас Блинда даже не оглянулся. Шел, как шел, пока Ева с сыночком в объятиях на порог не выбежала. Только тогда Тадас Блинда остановился, заглянул в глаза любимым и прошептал: «Не бойтесь, я буду жив». После этого упал ничком и... Жандармы решили, что Тадас Блинда убит и даже подходить к нему не стали. Вернулись в свой участок и от радости всю ночь водку пили. Ранним утром все вместе ворвались в избушку Евы, чтоб на мертвого разбойника полюбоваться. Глядят и глазам своим не верят. Тадаса Блинды – ни слуху, ни духу, а Ева баюкает своего рабеночка и напевает:
Баю-баю, мой сыночек,
Баю-баю, перстенечек.
Баю-баю, сын мой милый,
Баю-баю, мой красивый.
«Где же твой дохлый лось?» – спрашивает начальник жандармов. «В лес убежал, – отвечает Ева. – Смотрите, какой подарок он мне оставил...» Глядят жандармы, и волосы у них дыбом встают. На груди у Евы – тринадцать окровавленных пуль. «Это бусы от моего любимого!» – обезумев, хохочет Ева, а жандармы уже бегут, вдруг протрезвев, как волки или легавые псы в Бивайнский лес искать раненого Блинду. Нюхают его окровавленный след...
– Иисусе. Деточка, неужто могло быть такое?
– Могло, тетенька. Настоящая любовь делает чудеса, говорит барышня учительница. Настоящая любовь сильнее смерти.
– Боже мой, боже, какое счастье, что у нас такая жалостливая, такая хорошая учительница...
– Ах, тетенька, она такая несчастная.
– Почему ж, доченька?
– Ты думаешь, легко ей, когда ее викарий теперь флиртует с Чернене, а Чернюс каждый день ее пилит, зачем она пошла в крестные ребеночка Стасе. Из-за этого вчера ее даже в полицию вызывали. Сам Заранка. Говорит, по столу кулаком стучал и грозил из школы выгнать. Как ты, говорит, член Отряда шаулисов, и не понимаешь, что ловить убийц да большевиков – наш святой долг.
У Розалии вдруг захолонуло сердце. Йонасов «ум» дернулся и затрепыхался-затрепыхался... Бог ты мой, что тут творится? Неужто началось?
– Рассказывай дальше, Виргуте. Скажи, кто тебе говорил?..
– Не мне. Всем.
– Кто?
– Пракседа. Ей мама сказала.
– Йонас, ты слышишь?
– Потише вы там.
– Мамонька, что с тобой сталось? Ты же вся бледная и мокро под тобой?
– Йонас, Йонялис?
– Тише.
– Виргуте, беги к Валюнене. Фельдшера зови. Скажи, с Розалией худо. Последняя, скажи.
– Бегу. Мамонька, держись. Не умирай.
Виргуте, пыхтя – в дверь. Розалия обеими руками за изголовье кровати ухватилась. Помилуй, господи. Помоги разрешиться, пока фельдшер с железяками не прибежал.
– Йонулис, худо мне!
– Погоди! С Клайпедой хуже.
– О, Иисусе!
Неужто этот последний, поскребыш, в Йонаса удастся? Такой непослушный и упрямый, одно слово пробка дубовая?
– Ну, погоди!
– Черт не возьмет.
Погас белый потолок. В небе серебряные звезды зажигались, гасли, падали... Нет, нет!
– Иисусе, дева Мария!
Уши оглохли. Голос удалился.
– Ирод, где ты?
– Я тут, Розалия милая, – ответил веселый мужской голос, и тут же лязгнули щипцы.
– Не надо!.. Дай лучше руку.
– На, Розалия. Соберись с силами.
Рука была не Йонасова. Деликатная, но мужская, крепкая.
– Теперь держись, фельдшерок.
И поднатужилась Розалия, из последних сил поднатужилась, пока от сердца что-то отделилось и легко-легко стало, как в раю. Где-то вдалеке пискнул ангелочек...
– Слава тебе господи. Победила, – прошептала Розалия, повалившись на спину, и почувствовала, что рука... чья-то добрая, прохладная рука обмакивает со лба капельки пота.
– Ты, Виргуте?
– Я.
Темный туман рассеялся. Только уши еще были заложены. Кто-то скрипнул дверью, кто-то вбежал в избу.
– Йонас! Ирод, кого мы дождались-то?
– Сына ирода, – ответил голос, но не мужа, не Йонаса... Никак Пранаса Аукштуолиса?
– А где же мой?
– Тут я, – ответил Йонас не своим голосом.
– Чего ж не весел? Может, сын хроменький родился?
– Здоровый, как бык.
– Тогда что? Почему нос повесил?
– Клайпеды больше нету. Гитлер сожрал, – всхлипнул Йонас.
– А чтоб подавиться ему!.. – Розалия поймала руку Йонаса и, приложив к горящей щеке, прошептала: – Не плачь, Йонукас... А ну ее к черту, эту Клайпеду... Хорошо, что сыночек здоровым родился.
Сейм босяков той ночью заседал до первых петухов. Кому-кому, а кукучяйским работягам было страшно грустно, что Литва лишилась окна в широкий мир. Давно ли они всей стаей шагали в Клайпеду осмотреться, своими ногами ступали по молу, уходящему в море, где косматая ширь вод сливается с небом, где белая чайка сражается с ветром, где сердце заливает нессказанная тоска, а умом овладевает вера, что есть на свете счастье?.. Хотя портовые рабочие и говорили, что босякам всюду один хрен, тут или там, плохо всюду, где господа при власти, но все же был собственный порт, к которому столько лет они прокладывали шоссе, будто паломники шли на коленях до самого Гаргждай... А сейчас что будет? Что ждет наших детей? Ведь аппетит у Гитлера растет не по дням, а по часам.
– А ну его к черту!
– А ну его в болото! Цап-царап – и Клайпеды нету.
– Что же Сметона себе думает?
– А ему думать нечем.
– Ему кресло президента дороже нации.
– Долго не удержится. Гитлер скинет.
– Сметону черт не возьмет. У Сметоны золотишко за границей. Ты, доброволец, скажи, что с нами будет, когда окажемся у Гитлера в пасти?
Кратулис ничего не ответил на вопрос Винцаса Петренаса. Сидел, схватившись руками за голову и, постанывая, сосал цигарку из самосада. А когда мужчины, устав от дурных мыслей и дурной тишины, разошлись по домам, Кратулис снял с чердака трехцветный флаг и, перевязав черным девичьим чулком своей Милюте, вечный ей упокой, вывесил на крыльце...
Утром первым увидел его Анастазас. Решив, что так надо, сам вывесил флаг с траурной повязкой. Пурошюс, заразившись от Анастазаса – перед волостной управой, школой и полицейским участком, Адольфас – у настоятелева дома. А тогда уж пошли вешать траурные флаги все богомолки...
Прискакал верхом из Пашвяндре Мешкяле и не узнал городок. Решил, что президент скончался. Узнав от Микаса и Фрикаса истинную причину, тотчас же позвонил в Утяну, чтоб узнать от господина Заранки, как ему поступить в такой ответственный момент, и получил следующий ответ:
– Дурак! Клюнул на коммунистическую провокацию. Тюрьмой для тебя пахнет. Благодари бога, что я здесь, твой ангел-хранитель. Чтоб через три минуты не было ни единого флага! Nehmen Sie das in Acht![25]25
Имейте это в виду (нем.).
[Закрыть] Аминь!
И, злобно хмыкнув, швырнул трубку.
Мешкяле тотчас Микаса и Фрикаса – за глотку. Те подняли на ноги всех шаулисов, которые под руководством Анастазаса бежали по дворам и срывали государственные флаги. Народ решил, что Литве, родине нашей, капут, что немец идет. Бабы босяков, выбежав на двор, зарыдали, а крестьяне, вспомнив о кайзеровском владычестве, стали прятать скотину да припасы. Яцкус Швецкус со своим пасынком Йокубасом троих лошадей в Рубикяйский лес угнал, полный воз сена нагрузил и в темном ельнике спрятал. Йокубас на страже остался, а Яцкус, возвращаясь пешком домой, заглянул к своему свояку, хворому Блажису, и поведал, какие новости в Кукучяй и что в Литве творится. Едва Швецкус – в дверь, Блажие – из кровати и при помощи Рокаса Чюжаса живо заколол двух поросят. Когда мужчины и обе бабы принялись опаливать туши, вся деревня Буйтунай сбежалась к ним с ведрами. Решили люди, что на хуторе Блажиса пожар. При виде заколотых поросят только рты разинули. Поскольку старик Блажис опять юркнул в постель изображать болезнь, зеваки окружили оставшихся и принялись отпускать шуточки. Что случилось, мол, неужто Микасе примака нашла и собирается для всего прихода свадьбу сыграть на пасху? Не слишком ли рано свеженина? Не провоняет ли мясо псиной?.. Микасе, обидевшись, зарыдала, мать Блажене – стала честить непрошеных гостей почем зря да носиться с пучком горящей соломы, будто сбесившаяся старая ведьма. А буйтунайцам такое только подавай. Еще больше распустили языки. А уж шуток-то, шуток было... без числа. Хорошо еще, что Рокас Чюжас – парень с головой. Перестав тушу опаливать, вытер тылом ладони пот и, чумазый как черт, крикнул:
– Хватит вам, ради бога! Наш хозяин Бенедиктас помирает! Через день-другой на поминки позовем! Тогда уж насмеетесь вволю, когда мяса нажретесь да великий пост нарушите!
Буйтунайцы, конечно, поверили, потому что Микасе рыдала, не переставая, а мать ее унимала. Устыдившись, побрели домой.
Двое суток Блажис ждал и дождаться не мог немецких танков. На третий день послал Рокаса Чюжаса в Кукучяй разузнать, что к чему, да оглядеться. Рокас удачно сходил и вернувшись доложил, что в городке тишь да гладь. «Радия» его отца сообщила, что немец дальше Шилуте не пойдет, потому что большевики ему кулаком погрозили... Словом, все туда-сюда, если бы в доме Рокаса Чюжаса веселое несчастье не приключилось.
– Какое еще несчастье?
– Мать мне брата еще одного родила. Босяки к крестинам готовятся.
– А ты, сынок, про мое несчастье своим не проговорился?
– Какое еще несчастье?
– Что у меня два поросенка покойниками лежат?
– На крестинах расскажу. Вот посмеются босяки.
– Смеяться хорошо, сынок, когда брюхо набито... А как там будет на крестинах твоего братца, не знаешь?
– А может, ты, дяденька, нам мясца одолжишь или продашь за полцены, чтобы смех был погромче?
– Не только продал бы. Дал бы. Но великий пост сейчас. Честные люди есть не будут... Столько мяса. Столько мясца весной! Хоть возьми да собакам выбрось. Хорошо бы милость твоим родителям оказать, да нельзя.
– А ты не переживай, дяденька. Крестины мы на пасху устраиваем.
– Э-э-э... почему же? В пост дешевле бы вышло... Родители-то твои, кажется, не богатеи...
– Не богатеи, дяденька, но покушать любят.
– Хорошо, сынок, ты прокопти мясцо, а я между тем подумаю, как вам в вашем несчастье помочь. Слава богу, до пасхи еще море времени.
Перед страстной неделей, когда до пасхи оставалось всего девять дней, созвал Блажис всех к своей кровати и ослабевшим голосом сказал:
– Глас Рокасов в тот вечер дошел до слуха господа нашего. Господь желает меня у себя видеть. Приснилось мне, что ем сырую свинину на свадьбе Микасе.
Блажене зарыдала, Микасе побледнела, а Рокас расхохотался:
– Не бойся, дяденька. Ты еще нас всех переживешь. Не приведи господи, чтобы кровать не сломалась да чтобы ты не убился, когда падать будешь...
Но Блажис притворился, что не слышит. Покраснел, зажмурился, и продолжал:
– Спасибо тебе, Рокас, что ты имущество мое защищал летом от полиции, а мою дочь недавно от буйтунайских сквернословов. Перед лицом близкой кончины скажу тебе прямо – полюбился ты мне за этот год, как сын родной. Был бы ты постарше, сказал бы, бери мою Микасе и будь моим зятем.
– Спасибо, дяденька... Но добрыми желаниями, говорят, дорога к пеклу вымощена. Лучше бы ты сказал прямо – дашь или продашь свининки на крестины моего братишки? А может, ты, дяденька, вместе с тетей в крестные к нему пошел бы? Вот бы меня обрадовал да моим родителям милость оказал!
Покраснел еще гуще Блажис и еще тише ответил:
– Спасибо тебе, Рокас, за веселый нрав. Добрый смех, говорят, лечит. Жалко, что я ни смеяться не могу, ни в крестные идти. Здоровье не позволяет. Могу, Рокас, перед смертью своей лишь одно-единственное доброе дело сделать – усыновить тебя. – И, взяв руку Рокаса, поцеловал. – Соглашайся, сынок, не отказывайся... Прижимал тебя к работе, по головке не гладил, не ласкал, отгонял эту мысль о благодеянии, но теперь, когда немощь прижала, сдаюсь, послушавшись голоса сердца, и говорю при своей дочери-вековухе и своей бабе-старухе: Рокас Чюжас, будь моим сыном. Я, Бенедиктас Блажис, желаю этого... Прости меня за все, что было не так, и осчастливь меня.
И залился Блажис обильными слезами, обнимая Рокаса за шею. Рокас не на шутку растерялся, а Блажене, посинев, завопила:
– Отец, никак ты с ума сходишь?
– Вон с глаз моих, ведьма старая! – крикнул Блажис. – Здесь мой дом, моя земля и моя воля. Как я сказал, так и будет! Видит господь!
– Видит господь, да бородой трясет, папаша, – вскинулась Микасе. – Не слушай, Рокас, этого старого мошенника и враля.
– Вон и ты с глаз долой, жаба жирная! – взбеленился Блажис и швырнул в дочку подушкой...
Микасе юбку задрала и – в дверь. Вслед за ней – мамаша. Остались в комнате только Рокас с Блажисом. Не знал парень, ни куда руки девать, ни глаза. Поэтому поднял подушку с пола и, подав хозяину, сказал:
– Пошутили мы, дядя, вволю. Ты теперь вздремни, а я пойду скотину кормить.
– Стой, поросенок! – крикнул Блажис. – Не скотину кормить пойдешь, а потопаешь в Кукучяй спросить у своих родителей, согласны они или нет мне тебя уступить. На всю жизнь. По дороге к моему свояку Яцкусу Швецкусу заглянешь и скажешь, что сегодня вечером желаю его видеть. По смертельно важному делу. Ему много объяснять не надо. Он знает. Скажи, что дядя Блажис хочет завещание составить при свидетелях... Поторопись, сынок! Надеюсь, сумеешь родителей своих склонить на мою сторону. Скажи, такие крестины мальцу устроим, каких Кукучяй еще не видел. А когда Блажис умрет, скажи, все найдете в его завещании, в твою пользу составленном. Все! С одним маленьким условием, чтобы ты моих дур баб до гроба кормил и с сумой не выгонял. Не повезло мне с ними, да что, братец мой, поделаешь – на смертном одре ничего уже не исправишь. Пускай и они кончают жизнь свою на руках твоих. Иди, Рокас, иди... И переночевать можешь дома. Пусть сегодня родители твоипорадуются тебе в последний раз.
Глаза старика были полны слез, и Рокас не стал больше спорить, ушел в Кукучяй. Голова гудела от мыслей. Боже, неужели ему суждено стать богатым? Нет, нет, тут что-то не так. Но какой же смысл очки втирать собственному батраку, который круглый год вкалывал на него, как ломовая лошадь? Но бывают же чудеса на свете? Бывают! И не такие еще! У самых отъявленных мошенников под конец жизни вдруг просыпается совесть, и они стараются благородными делами искупить свои прегрешения. Сколько таких историй слышал Рокас на проповедях в костеле! Почему же не свершиться чуду и на хуторе Блажиса? Разве бог в этих местах другой? Или ксендзам близкие примеры не нужны? Вот пожил бы, так пожил Рокас Чюжас в свое удовольствие, когда все Блажисы отдали бы богу душу! Хватило бы и костелу на пожертвования, и Рокасу на всякие радости. Посадил бы своих родителей на землю Блажиса. Пускай трудятся старики на здоровье, Микасе пускай их поскребыша баюкает, а Рокас – над всеми хозяин, с полными карманами денег мог бы в Каунас съездить, поискать тот дом, где, сказывают, красивых барышень на одну ночь сдают... А то какая у него жизнь? День изо дня одно и то же: лошади, коровы, свиньи да овцы, знай корми их, знай крутись, будто пестик в ступе. А что будет, когда сенокос придет, потом уборка ржи, молотьба?.. Хоть разорвись. Хозяева старые, вялые, только командовать умеют. Микасе – соня ленивая. От нее только-то пользы, что с прошлого лета, с этого обыска, когда родители не видят, частенько сала ему сунет с горбушкой хлеба да скажет вполголоса: «Будешь паинькой, еще получишь». А когда Рокас, облизываясь, уминает принесенное, ластится возле него, будто кошка, волосы ему тормошит, шею щекочет и все вздыхает: «Ох, какой ты еще дурачок, ох, какой ты...» А Рокас с полным ртом ей отвечает: «Не вводи меня в соблазн, Микасе. Не вводи! Вот как схвачу тебя, как цапну! Лежачую или стоячую!.. Без соли слопаю... Уходи с глаз моих долой, пока мамаша да папаша не увидели!» Микасе хихикает и убегает, вихляя пудовыми окороками, как отъевшаяся на овсе кобыла, учуявшая слепня...