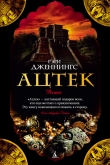Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
И заплакал Пурошюс, потеряв нить рассказа, пуская сопли и сгорбившись.
– Хватит тебе, Тамошюс, себя и меня истязать, – сказал, преисполнившись жалости, Гужас. – Ни ты, ни я мир не переделаем. Каким его нашли, таким и оставим. А что уж говорить о господе боге. Человеку для того и дано собачье терпение, чтоб он мог вынести все предназначенные ему страдания.
– Говоришь как ксендз, – захихикал Пурошюс. – Не старайся, Альфонсас. Мне очки не вотрешь. Лучше прямо говори – присоединяешься к моему доносу против своего начальника или останешься в стороне?
– Да пошел ты к черту!
– Не бойся, Альфонсас. Ни именем, ни фамилией подписываться не станем. Только девять крестиков: за меня, за тебя и за твою Эмилию. Хи-хи-хи... Ведь, кажется, Балис ей больше не нужен. Пускай теперь его юная графиня пользует или пьянчужка Милда.
– Замолчи!
– Ты не сердись, господин Гужас. Лучше трезво прикинь – что будет, если наш донос благодаря высочайшему провидению выслушают? Скажи, разве Тамошюс Пурошюс, став старшиной, не годился бы вместе со своей Викторией в крестные для младенца, который родится от коварства твоей Эмилии да мягкости твоего характера?
– Перестань, ради бога.
– Эх, господин Гужас... Я или другой настоящий мужчина давно бы на твоем месте прихлопнул Эмилию с любовником и пустил себе пулю в лоб... И каждый честный католик, перешагивая твою могилу, снял бы шапку да сотворил за тебя молитву. А теперь что? Ты же объект насмешек, как сказал бы Умник Йонас.
– Отец не тот, кто...
– Знаю. Знаю. Все твою мудрость знают и твою доброту. Тьфу! Блевать хочется, как тебя послушаешь. Смотри, чтоб ты в рай живьем не угодил с таким огромным пузом и такой редкостной совестью, а то, говорят, и там – не пироги для таких толстых дуралеев.
– Перестань меня учить жизни, господин Пурошюс, – сдерживая ярость, прошипел Гужас. – Пошел бы лучше к своей кутузке и нужник бы починил.
– Да он уже вконец сгнил, господин Гужас. Гвозди не держатся. Боюсь трогать. Пускай подержатся еще год-другой на честном слове нашего старшины Даубы.
– Как вам не стыдно, господин Пурошюс? Сука и та в таком нужнике не присядет, а тут женщина с грудным младенцем.
– А вам, господин Гужас, не приходилось слышать, что наша арестантка – гадалка или даже колдунья?
– И что с того? Что ты мне предлагаешь?
– Не тебе, а ей.
– А именно?
– Пускай она дым из своей пасти пустит и срам прикроет.
– Ты дьявол, Пурошюс. Ты по-хорошему не кончишь. Запомни, я не уступлю. Я пойду к господину Даубе. Он заставит тебя новый нужник сколотить.
– Ничего не выйдет, господин Гужас. По указанию Даубы все наши волостные доски я на сцену пустил. На городище, где завтра вечером его и мой сыновья будут веселить кукучяйскую публику.
– Звери вы, не люди, – простонал Гужас и вдруг сник, съежился, помрачнел, а из его глаз дождем брызнули слезы...
– Альфонсас! Ради бога, что с тобой? – разинул рот Пурошюс. – Может, эта кривасальская ведьма тебе голову задурила? Чего ты от меня хочешь, говори? Почему мои нервы из-за нее все утро треплешь?
– Сам не знаю, что со мной творится, Тамошюс, – простонал Гужас, ухватившись за голову.
Оказывается, со вчерашнего дня, когда он увидел сосущего грудь ребенка Фатимы на этой распроклятой распродаже барана, он места себе не находит. Дурные предчувствия грызут. А ночью – такие сны, каких в жизни не видал. Как будто голубоглазый младенец Фатимы вцепился в его помочи и кричит – папа, спаси, а черные руки из темноты тянутся его задушить... И что ты себе думаешь, Пурошюс? Ты видел глаза этой шальной девки, когда она вчера начальника полиции проклинала? С такой сумасбродкой шутки плохи... Тем более, что сон Гужаса начинает сбываться. Сидит одна с ребенком в кутузке, бог знает, что может придумать. Так что на всякий пожарный случай держись поближе к своим арестантам, следи в глазок за их действиями, добрым словом подбадривай мать да весели ее прибаутками... Ведь господин Пурошюс – мастер хорошего настроения. А если, дай боже, завяжется серьезный разговор с арестанткой, то тебе не так уж сложно выпытать, что она собирается делать с сыночком, если Мешкяле за воровство упрячет ее надолго в тюрьму? Может, Пурошюс своим красноречием убедит Фатиму отдать свой приплод в приют или еще лучше – серьезному человеку на усыновление? Откровенно говоря, господин Гужас готов совершить этот подвиг во имя человечности, одновременно письменно пообещав матери щедро вознаградить ее после тюрьмы...
Пурошюс внимательно выслушал господина Гужаса и сказал, покачав головой:
– Обидел тебя, Альфонсас, господь бог, сотворив в мужском обличье, но вложив бабье сердце.
– Ты меня не жалей. Ты лучше скажи, сможешь ли оказать эту услугу? Я в долгу не останусь.
– Сколько?
– Для начала – пол-литра. А там видно будет.
– Так какого черта еще тянешь? Деньги на стол! – сказал Пурошюс и, приоткрыв дверь, крикнул в сторону огорода: – Виктория, домой, изба горит!
16
Когда солнце стояло высоко и в огородах картофельная ботва вяла от духоты, а в доме Розалии бабы босяков – от множества головоломок, которые задало письмо Умника Йонаса, прибежала Гужасова Пракседа и, подскакивая от волнения, огласила, что Фатима-гадалка арестована и уже успела разбить миску с беленой крупяной похлебкой о харю пьяного вдрызг Тамошюса Пурошюса и по этому же случаю объявила голодовку. Пурошюс пожаловался папе Пракседы. Папа пошел в кутузку и попробовал убедить Фатиму, что заключенным драться не положено, что все люди должны кушать – и в счастье, и в горе, дабы тело не покинули силы, так необходимые для души, без которой и человек не человек. А Фатима ответила папе так: «Отвяжись, пузан, нищий духом старикан! Лучше мы с сыночком с голоду умрем, чем примем хоть кусок из чужих рук, оказавшись незаслуженно в заточении». И плюнула в моего папу через глазок. Папа бегом примчался домой и за сердце схватился. Когда мамочка побежала к фельдшеру за лекарствами, он подозвал Пракседу, коротко рассказал, что случилось, и велел чесать к госпоже Розалии. Может, она попробует со стороны своего огорода через окошко кутузки эту шальную ведьму образумить? Папа боится, как бы она руки на себя не наложила или на ребеночка своего.
– Иисусе, дева Мария!
– То-то, ага!
Ни о чем больше не стала Розалия спрашивать. Бросилась со двора, вслед за ней – все бабы босяков с детьми, будто стая вспугнутых ворон и воробышков.
– Фатима, ты жива? – вскричала Розалия, добежав до конца своего огорода и присев в борозду среди цветущей картошки.
– Скоро живьем сгнию, – ответила Фатима и расцвела розовым пионом за решеткой окна кутузки.
– Помилуй, разве правда, что Гужас говорит?
– А что говорит?
– Что ты голодом собираешься морить себя и ребеночка своего?
– Чистая правда.
– Фатима, не дури. Здоровье себе испортите.
– Не лезьте не в свои дела. Я знаю, что делаю.
– Ради бога... Объясни все толком нам, дурехам. Мы-то ведь не знаем, что стряслось.
– Не хочу зря рот разевать. Все равно вы ничем мне не поможете.
– А почему бы нет? Разве у нас сердца нету, ума да языка?..
– Госпожа Розалия, ради бога... Оставьте в покое мою бедную голову.
– И не думай, колдунья Фатима... Лучше перекрестись и честно признайся, что ты натворила? Почему этот ирод тебя в кутузку упрятал?
– Ты его спроси, Розалия. Мне он и полслова не сказал. Он даже побоялся нам на глаза показаться.
– Да неужели?
– Во имя отца и сына... Почему я бешусь, по-вашему, почему ни есть, ни пить не желаю?
– Наберись терпения. В Пашвяндре ромашка цветет. Время теперь на цену золота. Господин Мешкяле ускакал цветочки срывать. Затемно, пока роса не выпала. Управится с ромашкой и вернется вечером... И еще руку тебе поцелует за такого сына, вот увидишь. Ведь до сих пор у него только дочки рождались, между нами, бабами, говоря... Было из-за чего голодом себя да ребеночка мучать! Разве он тебе пара? Или ты у него первая? Получила, чего хотела, и бога хвали.
– За что хвалить-то? Что должна выходить замуж за нелюбимого? Что отец моего ребеночка смерти мне желает? – и Фатима опять разразилась бранью – как вчера...
– Перестань думать дурное! – вспылила Розалия.
– Это не мысли у меня дурные. Карта дурная, – ответила Фатима, устремив черные глаза вдаль.
– А ты хорошую карту кидай, как нам в беде гадаешь.
– Себе врать не могу. Не получается.
– А нам можешь?
– Врать бабам – мое занятие.
– Ах, ты, ведьма очумевшая, возьми тогда и соври теперь нам всем, за чье золото ты вчера баранью падаль покупала?
– За свое собственное.
– Откуда получила?
– От духовного человека.
– За что?
– За изгнание беса из блудной вдовы.
– Хватит врать. Мы все знаем. Ты с цыганами обокрала Пашвяндрское поместье.
– Кто вам говорил?
– Не только говорил, но и отобрал уже.
– Кто отобрал? Что отобрал?
– Господин Мешкяле с полицией и шаулисами. Золото отобрал, что же еще.
– Да провались я сквозь землю... Разрази меня гром!.. Почему ты им веришь, Розалия, а мне – нет?..
– Хочешь верь, хочешь, не верь, Фатима, а золота больше нету, да и ты – в тюрьме. Ему теперь хвост не наваришь, ироду. Черт тебя принес вчера с Мишкой – прилетела да золото пустила на ветер от гордыни дьявольской. Только беду на себя накликала и нашу жизнь взбаламутила.
– Не ругайте меня, Розалия. У меня рассудок помутился из-за него проклятущего. Лучше в настоятелев дом беги. К Антосе. И меня, страдалицу, вызволи из заточения. Послезавтра день святого Иоанна. Моя свадьба. Все гости приглашены... Антосе засвидетельствует, что я не врунья. Вы можете в суд на него подать за разбой, а я – за клевету.
Затянув потуже углы платочка, помчалась Розалия со стаей баб к настоятелеву дому, и Антосе, внимательно выслушав новости да посоветовавшись с настоятелем Бакшисом, вынесла бабам такой ответ: кривасальская Фатима действительно получила из рук приходского пастыря воспомоществование золотом. Только не за изгнание нечистой силы из блудной вдовы, а за твердое обещание, что до конца дней своих не будет ведьмовать, перестанет бабам на картах гадать да по руке ворожить... А выйдя замуж за Мишку и воцарившись в таборе, будет распространять среди цыган католическую веру, обучая детей катехизису, а взрослых заставляя исповедоваться хотя бы раз в год... Короче говоря, ни больше, ни меньше – Фатима при жизни станет миссионеркой, а после смерти – цыганской святой.
– Женщины, вы слышите? Она, блаженная, вчера нам золото из своего приданого отдала, а мы сегодня в ее словах усомнились, допрашивали ее да подозревали... Поверили этому ироду Тринкунасу! Где наши головы были, где совесть? Стоит ли удивляться, что господин Гужас из-за нее захворал?
И пустилась Розалия бегом по городку, еще толком не зная, что делать, но твердо решив искупить свою вину: и Фатиме свободу вернуть, и босякам – золото... Перед домом старосты Тринкунаса остановилась и потребовала, чтобы Анастазас сию же минуту вышел на очную ставку со всеми участницами вчерашних бараньих поминок и еще раз повторил лживую угрозу или публично отрекся от нее. Иначе не избежать ему тюрьмы или, в лучшем случае, шишек, когда мужчины вернутся со стачки...
Вместо Анастазаса выбежала мамаша Тринкунене с сосновым помелом своего сыночка защищать. Но драка не состоялась, потому что бабам жалко было время терять. Фатима с ребеночком умирали с голоду в кутузке. Так что, обругав Тринкунене последними словами да обозвав «выползнем старой гадюки», Розалия распущенные волосы сложила в толстый пучок на макушке, скрепила двузубой заколкой и отважно зашагала дальше, впереди всех – баб и детей босяков. Подойдя к избе Пурошюса, крикнула:
– Тамошюс! Палач! Выходи!
Тамошюс послушался. Вышел. Пьяный, опухший, со свежим синяком на носу.
– Чего?
– Ключи от кутузки давай.
– Кто ты такая, раз мне приказывать вздумала?
– Ужак! Не узнаешь?! – побагровела Розалия, прижав Пурошюса, будто индюшка цыпленка, крутой грудью к стенке. – Живо ключи!
– Подожди. В доме.
Откуда могла знать Розалия, что Пурошюс ключи от кутузки всегда в кармане носит? В одну дверь вбежал, в другую – выбежал.
– Лови его!
– В полицию удирает!
– Куси Пурошюса, куси Тамошюса!
– Никуда ты от меня не укроешься, ирод!..
Вот и верь такому. Одно думает, другое – говорит, одно говорит, другое – делает. Спаси и сохрани от голода, чумы и таких людей, господи. Подожди, ирод. Вернется Йонас с шоссе да свою «радию» оживит. И не пробуй тогда ногой ступить через порог Чюжасов. Помелом по голове получишь, а не послушать, что в мире творится...
Всю дорогу Розалия бегом бежала, однако перед калиткой участка остановилась будто вкопанная: полиция она есть полиция, хоть и своя...
– Пракседа, позови отца!
– Я же говорила – папенька болен.
– Ладно. Давай сюда Микаса и Фрикаса.
Микас и Фрикас без зова вышли во двор и, даже не успев рта раскрыть, были вынуждены выслушать бабий ультиматум, который Розалия, под стать Горбунку, огласила примерно такими словами:
– Или вы, полицейские поросята, по-хорошему выдадите нам Пурошюса с ключами, или мы все бабы скопом накинемся, штаны с вас снимем и в кутузку вас бросим, как вы этой ночью бросили непорочную деву с младенцем. А если не хотите осрамиться перед нами да ребятишками, живо садитесь на велосипеды и жмите в Пашвяндре. Доложите своему начальнику, потаскуну и разбойнику, что в Кукучяй назревает бабье восстание. Чтоб через час он был тут как тут! И объяснил – за какое такое преступление арестовал мать своего ребенка и куда девал похищенное золото?.. Если не явится – мы за свои действия не отвечаем. Для начала пустим с дымом полицейский участок, а потом созовем всеобщий сейм баб нашего прихода и решим, за какое место его самого повесить. И пускай бога на помощь не призывает. Скидок ему не будет. Ксендз-каноник Казимерас Бакшис поддерживает нас и его бывшую невесту, а сейчас – будущую цыганскую королеву, миссионерку католической церкви и святую заступницу всех ублюдков Фатиму Пабиржите. Господину Болесловасу гореть в пламени адовом во веки веков, аминь.
Смех смехом, но что делать Микасу и Фрикасу? Немного чести второй день подряд с бабами драться. Тем более, что на сей раз сила на их стороне. Исцарапают, уши надерут, и прощай весь твой авторитет... Тоже мне полицейский, бабами общипанный. Пускай господин начальник сам выкручивается. Не наш конь, не наш и воз.
Так что сели оба на велосипеды и покатили с горки, не сказав ни слова. Фу, как сосало под ложечкой, как жарко стало под фуражками... Ведь сам черт попутал их, отслужив в армии, соблазниться полицией. Сто раз лучше служить сверхсрочными старшинами – на-ле-во, на-пра-во, кру-угом! – и вся недолга. А тут молчи, стиснув зубы, да неприятностей жди.
Влетели Микас и Фрикас в сосновый бор, и тут славные запахи защекотали им носы, а величественная тишина – уши. Сразу на душе легче стало. А может, в лесничество Павижинтис лесниками устроиться? Хоть бы нервы не пришлось трепать. Отдохнули бы от вечной беготни, не пришлось бы налоги выколачивать да спускать хозяйства с молотка... Ходи себе, руки в брюки, да лесной молодняк пересчитывай, будто новобранцев. Как раз на столбе и объявление висит!..
Оба, будто сговорившись, спрыгнули с велосипедов. В глазах зарябило от мелких букв, взгляд только за крупные зацепился. Оторопели Микас и Фрикас, прочитав одновременно:
«Долой власть Сметоны-Миронаса! Долой полицию и ксендзов!»
– Вот те и на.
– На.
– Нету больше спокойствия в Литве.
– Нету.
– Чешем к начальнику.
– Чешем.
– Пускай сам почитает.
– Сам.
И полетели оба, перетрухнув страшно, не слыша больше ни умиротворяющих запахов, ни лесной тишины.
А в Кукучяй в эту самую минуту войско баб и детей босяков, отступив от полицейского участка, опять взяло в осаду кутузку со стороны огорода Чюжасов, и отважная Розалия заявила узникам, что голодовку можно прекратить, поскольку все идет как по маслу. Колдунья Фатима вскоре будет вызволена из заточения, – по дороге в Пашвяндре уже мчатся два ходока доставить сюда ее спасителя и мучителя.
По знаку Розалии к кутузке подбежала Виргуте и принялась доставать из белого узелка желтые яйца да, привстав на цыпочки, класть их на подоконник.
– Это что еще вы придумали? Я только что поела, и мой малыш сытый спит...
– Слава богу, Фатима. Будь так добра и погадай нам за это куриное золото. Хотя бы пока сыночек проснется. Нашим бабам хочется свое счастье узнать.
– Да боюсь столько баб в соблазн вводить.
– Тоже мне беда. Отца нашего Бакшиса, пока он в постели, мы не боимся. А ухо Жиндулиса любую скверну принимает. И покаяние небольшое – всего три раза «Ангел господен» сотворить.
– Нет, нет. Не хочу беду на свою голову навлечь, – отказывалась Фатима.
Позавчера она с Мишкой ходила на исповедь к ксендзу в Лабанорасе. И мысленно дала обет перед чудотворным образом – до свадьбы свои карты за пазухой держать, а свой вещий язык – за зубами.
– Врунья ты, блаженная! – крикнула Петренене с конца огорода. – Только что говорила, что себе дурную карту бросила.
– Себе – дело другое. Меня беда постигла, Агота милая. В беде всегда голову теряешь. Утопающий и за соломинку хватается.
– Тогда потеряй голову, Фатима, из-за нас тоже, потому что мы не в меньшей беде, чем ты... – простонала жена Мейронаса, а вслед за ней и все бабы землекопов наперебой стали рассказывать, какое нехорошее письмо прислал Умник Йонас своей Розалии и какая драка из-за этого проклятого золота была у Кулешюса, умоляя Фатиму сжалиться и спокойствия ради в последний раз согрешить перед богом и церковью.
Долго слушала Фатима стоны и жалобы баб босяков, долго на их лица глядела. Наконец сказала, тасуя карты:
– А ну вас в болото! Так или сяк, гореть мне в пекле, как и моей бабушке... Кто первая желает истинную правду узнать о себе, о доме, о детях и муже, о том, что было, что будет, чего не знаете, что на сердце лежит и с чем останетесь да чем сердце свое ненасытное утешите? Подойди ближе и карту сними...
– Розалия, ты... Твои яйца – ты и начинай.
– То-то, ага.
– Нет! Я лучше последняя. Мне хватит того счастья, которое от вас останется. Петренене, ты иди.
– Во имя отца и сына... Фатима, доченьки, которой рукой карту снимать? Запамятовала.
– Левой.
– Господи, не завидуй моему счастью.
– Лучше к дьяволу взывай!
– Раз боитесь или не верите, можете помолиться.
– Боишься не боишься... Веришь не веришь... Леший знает. А сердце ворожба успокаивает.
– То-то, ага. А мне – нервы.
И бабы идут одна за другой. Подходят к окну кутузки, на цыпочки привстают, карту снимают... И дивятся все, а больше других Розалия, что Фатима, сама такая молоденькая, читает в их жизни, как в открытой книге...
И мрачнеют лица, и заволакивают тучи глаза, потому что мужья вздыхают далеко-далеко под этим Гаргждай, что у них еще много дел с казенным домом, что ждут от них весточки, а больше всего денег... И снова улыбается Розалия, показывая белые, как творог, зубы, когда после всех бед Фатима щедро раздает бабам счастье: одним – детей, другим – хороших снох и зятьев, третьим – поместья и дальнюю дорогу сулит, большие богатства... Ни плакать, ни болеть, ни умирать вроде и не придется. Только слушай, проклятую, и своей очереди с дрожью дожидайся... Ах, господи, господи... Так пахнет счастье картофельной ботвой, бабьим потом и свежим сеном... И крапивой, что буйно разрослась возле стен кутузки. И в этой блаженной тишине летнего дня лишь Фатима курлычет, как одинокая и печальная журавлиха, подавшаяся в теплые края да отбившаяся от родной стаи.
Розалия, сама того не чувствуя, убегает мыслями к своим детям. Где Вацис – самый старший и самый любимый, подавшийся в Америку?.. За синим морем-океаном. Ни весточки, ни голосочка от него. Может, в шахте глубокой сидит? Может, света божьего не видит и некогда ему о доме да о матери подумать?.. Или Казис – самый красивый парень Кукучяй, в Латвию сразу же после армии уехал... Вроде бы недалеко: и море переплывать не надо, и грамоту знает. А будто в воду канул. Может, с лютеранкой спутался? Господи, чтоб только ему было хорошо, чтоб только был счастлив... Старшая Кастуте в Каунасе, тоже сгинула, барским детям попки подтирает. Салюте в Сувалкии батрачит. Дочка Она – в Шедуве, Стасе где-то под Кретингой, не то в монастыре, не то в поместье... Будто и не было детей-то... Единственный Рокас – в трех километрах от городка у этого жука Блажиса батрачит. Даже он второй месяц как в костел не приходит. От работы умаялся или в лапы Микасе угодил? Молод еще. Зелен. Неопытен. Что велят, то делает, куда зовут – туда идет... Нет, нет... Не приведи господи. Вот тебе и счастье от детей. Хорошо сказано: «Дети – пока в подоле держишь... Маленькие дети колени матери топчут, взрослые – сердце...» Пока что из всех баб босяков Кулешюсова Марцеле самая счастливая. Ее Пранукас дальше кота от избы не убегает... Глянь – и она сюда прибежала. Наверное, за здоровье сына беспокоится. Тоже мне! Сын Розалии Рокас в возрасте ее Пранукаса из аистова гнезда выпал, и то черт его не взял. Только еще быстрее расти стал, сильнее и умнее сделался. А тут – с горба своего отца... Не бойся, Марцеле... Не бойся. Будет он, когда вырастет, ксендзом, как ты мечтаешь. Голос отца ведь до бога не дойдет... Вот видишь, и Фатима тебе точь-в-точь это обещает. Духовный дом для сыночка, а для тебя – от него опеку на старости лет... «Ах это проклятое бабье племя, – верно говорит Кулешюс. – Все обманщики вам друзья – цыганки, гадалки да ксендзы... Мужская трезвая голова – для вас что с гуся вода...» Без ножа зарежет горбатый дьявол свою бабу, когда узнает, зачем она сломя голову бежала к кутузке, оставив его сиделкой при ребенке...
Погоди. А кто же там к бабьей стае присоседился? Не Крауялисова ли Ева часом? Глазенки на окно кутузки вылупила, будто молодая кошка, охотящаяся на воробьев. Даже руками Розалия развела. Бог ты мой, неужели ее детское сердечко уже девичьи думы терзают? Что ты думаешь! На хороших хлебах кровь раньше пробуждается. Вдобавок, Ева – пригульная, плод запретной любви... Как знать, вернулся ли бы Мешкяле к ее мамаше, помри сейчас старик Крауялис? Графиню-то ведь растить выгодней, чем родную дочь. Ах, потаскун. Скотина. Бедняжечка ты, Ева, не познавшая любви родного отца.
– Фатима, хватит тебе старых баб тешить. Погадай-ка лучше нашей молодой поросли. Ева, хочешь про свое счастье узнать? – Вспыхнули щеки Евы ярким пламенем – шмыгнула она за спину Андрюса Валюнаса и спряталась, как вспугнутая белка за дубок.
– Почему молчишь, Ева? Неужто ты счастья не хочешь?
– Да у Крауялисовой Евы всего навалом, – ответил Напалис. – Ей только птичьего молока не хватает.
– Счастье не в богатстве, господин Напалис.
– А в чем же еще, госпожа Розалия, королева Умника Йонаса?
– В любви, – ответила Виргуте своему брату, зардевшись не меньше Евы.
– Получай, ирод! А ты разве еще не знал?
– И этого добра у Евы вдоволь! – крикнул Напалис своей сестренке. – Сама ведь говорила, что Андрюс в нее по уши втрескался и рисует для нее одной лилии, каких на свете нет, не было и не будет!..
Напалис кричал бы еще, но Андрюс Валюнас схватил его за шиворот и ткнул носом в картошку. Ткнул и ускакал по огороду, будто жеребенок. Уж чего не ждали, того не ждали ни бабы, ни Розалия. Ведь такой тихоня, ну просто божья коровка...
– Это еще что творится?
– Вот ирод.
– Вылитый папаша его Миколас.
– То-то, ага – вечный упокой ему. Господи, не завидуй его счастью... Хоть там-то...
– Ага! Теперь сами видите, что сын головореза любит Крауялисову Еву! – торжествующе крикнул Напалис, сплевывая черную землю.
– Перестань, ирод. Ты еще мал, чтоб в разговор взрослых встревать.
– А ты стара, чтоб меня поучать.
– Ах ты, пащенок! Как смеешь на меня голос повышать?! Живо домой! Чтоб духу твоего тут не было!
– Розалия, Розалия!.. Дура-дуралия!
– Ева! Виргуте! Держите его!
Но Напалис не собирался убегать. Стоял на месте и сквозь зубы шептал все те же страшные слова. Хотя Розалия и выкручивала ему ухо, посинев от злости.
Неизвестно, что случилось бы с ухом Напалиса, если бы вдруг не загремел с высот суровый голос:
– Это что за бабий базар?
Все глаза обратились на господина Мешкяле. Верхом на полицейской кобыле, точь-в-точь падший ангел, изгнанный из рая.
– Как видишь, господин начальник. После вчерашней драки еще не остыли, после бесовских поминок похмелье не кончилось. Может, имеешь желание за грудки схватиться? Слезай с кобылы!
– Разойдись! Какого черта здесь собрались? Делать вам нечего?
– Пускай под нашими заборами собачья ромашка еще поцветет, господин начальник. Лень руки пачкать.
– Другого места для вас нету?
– Тут моя земля, господин начальник, и моя воля.
– Я те!.. Значится...
– Я те... Ты – мне... Неужто по бабьей доброте стосковался?..
– Молчок!
– Да разве это удивительно! Одна возлюбленная – пьяна, другая – молода да глупа, третья – в кутузке сидит.
– Хм.
– Может, имеешь желание со мной завтра папоротников цвет поискать, пока мой Йонас не вернулся? Как по-твоему, кавалерист? Общей бедой да общей радостью поделились бы. Мы же католики, между нами бабами говоря. Ведь любовь к ближнему – самое прекрасное из всех чувств, как говорит викарий Жиндулис.
– Тпру, гадина! – рявкнул Мешкяле, никак не справляясь со взмыленной кобылой, хоть возьми да вместе с ней сквозь землю провались.
Вот тогда и зацепился он взглядом за окошко кутузки, в котором пышным пионом цвела Фатима в алом платке.
– Глупых баб вздумала доить?
Фатима ничего не ответила. Только смотрела на него. Огромными черными глазищами. Даже дрожь баб проняла.
– Погади! Вытрясу я из тебя колдовство, лесная ведьма проклятая!
Фатима – ни слова.
– Ублюдок конокрада! Таборная шлюха!
– Раз своих баб не стесняешься – постеснялся бы своих детей, господин начальник! – рассвирепела Розалия.
Вот когда вздрогнул господин Болесловас. Рядышком, где падали с кобылы хлопья пены, – Гужасова Пракседа и Крауялисова Ева – ни живые, ни мертвые.
– А вам тут чего надо?
– Счастья, господин начальник, как и всем смертным, – ответила Розалия.
– Марш домой. Как вам не стыдно с глупыми бабами связываться?..
Пракседа низко опустила глаза и тут же убежала. Только Ева – ни с места.
– Тебе или стенке сказал?
– Чего тут раскричался, господин начальник? – спросила Ева, белая, как полотно. – Может, ты мне – отец? Может, я тебе – дочь?
– Боже мой!..
Зашушукались бабы, прикрывая глаза передниками. Хоть возьми и лопни от злого смеха. Одна беда, что ни смешинки не осталось.
Крауялисова Ева уже летела по огородам домой, будто вечерняя птица, оставив после себя зловещую тишину.
– Уродилась ли ромашка в Пашвяндре, Балис? – заговорила Фатима и вдруг, словно уколотый иголкой, заверещал ее младенец. – Как твоя подопечная держится? Дочка настоятеля-то? Женишься ты на ней или удочеришь?
– Хватит зубы скалить, ведьма! – едва слышно процедил Мешкяле и ускакал, пришпорив кобылу.
Один только Напалис услышал голос начальника, – очень уж тосковал он со вчерашнего дня по своим передним зубам... Хорошо колдунье Фатиме зубы скалить-то, когда они у нее такие белые. Без передних зубов Напалис совсем погиб: ни с соском чужой коровы совладать, ни с собственным языком... Эх.
Ни на шаг не отступали от кутузки бабы босяков. Ждали и дождались, пока Фатима, успокоив грудью своего малыша да сама выпив три яйца, снова повеселела и ясным голосом журавлихи спросила:
– Госпожа Розалия, не твой ли черед?
– Мой.
– Тогда подойди поближе и карту сними.
– Может, не стоит, Фатима. Чует мое сердце, полицейский жеребец не даст тебе хорошую карту бросить. Чтоб было быстрей, попробуй лучше по моей руке сказать, что меня ждет, с чем останусь да чем сердце утешу... – И, не дожидаясь ответа, высоко подняла обе ладони. Землистые, задубелые, в коричневых, зеленых и желтых пятнах.
– Да ничего не видать!
– Читай. Глаза для чего господь дал?
– А чего бы ты хотела, Розалия?
– Угадай.
– Сколько детей у тебя?
– Семеро.
– Вижу, что не врешь. Тогда и я тебе скажу чистую правду. Еще двух ребят дождешься, дорогая...
– О, Иисусе!.. Мать пресвятая.
Петронене первой захлебнулась от смеха, а вслед за ней – все бабы и дети босяков... Но недолго длился этот добрый смех. В самом его разгаре притащился Пурошюс с доской. За Пурошюсом – Микас и Фрикас, вооружившись резиновыми дубинками.
– Что ж, бабоньки, неужто и спать собрались в бороздах картошки, будто куры Альтмана? – крикнул Пурошюс, прикрыл нижнюю часть окошка кутузки доской, достал молоток и стал заколачивать гвозди.
– Ирод! Что делаешь?
– Что видишь, Розалия.
– А, чтоб тебе черти после смерти кипящую смолу с того конца вливали!
– Чую, чую, что по своему Йонасу стосковалась. Хе-хе-хе.
– Вернутся наши мужики, ждут тебя тумаки! – закричал изо всех сил Напалис.
– А за что, братец Напалис? За то, что берегу кривасальскую воровку, как зеницу своего нездорового ока? Может, забыл девятую заповедь божью – не желай у своего ближнего ни женщины, ни вола, ни барана, ни коровьего сосца?
– Заткни, Иуда Пурошюс, этой девятой заповедью свое днище! Меньше воздух будешь портить! – задыхаясь от ярости, кричал Напалис, и Розалия Умника Йонаса ничего ему больше не говорила, только гладила его непослушный вихор и шептала:
– Скоты, скоты...
Странным был этот день для Розалии. Куда бы ни шла, за что ни бралась – все не могла отвязаться от пророчества Фатимы, все глядела, прищурясь, на свои ладони и видела огромные поля, ржища, пастбища, стада овец и коров, и ее трясла дрожь, словно невесту перед первой ночью. А что вечером творилось, когда от кутузки долетела колыбельная Фатимы – то грустная, то веселая, то тоскливая... Прямо по сердцу резал ее голос. До поздней ночи слушала колыбельную Розалия, присев на порожек. От слез весь подол промок. А когда Фатима затихла, то и заснуть не могла. Не только дурные мысли одолевали. Не только. Ведь самая середина лета. Цветение лугов. Нос щекотали райские запахи, льющиеся в открытое окно. Уши – страстные беседы птиц. После полуночи прилетел соловей в сад Валюнене и залился трелью будто сумасшедший (пронюхал, проклятый, в которой избе Кукучяй баба одной любовью сыта). Даже комар с комарихой хоровод водил над вспотевшим носом. А ты? Ты-то что, Розалия? Задыхайся! Ворочайся с боку на бок. То кровать слишком широка, то слишком узка. То мороз по спине подирает, то прохлады хочется – пот прошиб. Едва глаза под утро сомкнула – петухи запели, будто бесы хором пьяных парней... В самую сладость сна, когда мужская рука скользнула по спине и робкий голос спросил:
– Розалия, может, соскучилась?..
Ах, боже милосердный, когда же это было? Когда? Ведь после этого проклятого шоссе месяц или два Йонас оправиться не может, валится с копыт, как извозчичья кляча. Одним только его умом живешь, между нами бабами говоря... Но все-таки хоть кое-какая надежда остается. Тут же, под боком, рукой потянуться. Хоть повздыхать можно, обняв его мудрую голову, хоть пожаловаться, притворившись нездоровой, или сон дурной рассказать. Господь милосердный, который в красном углу Чюжасов пребываешь, под самым потолком... Улыбаешься со святого, засиженного мухами образа да тычешь пальцем в свое окровавленное скорбящее сердце, побудь еще хоть раз человеком, спустись на землю и дай совет Розалии – как ей дотерпеть до осени, когда ее властелин Йонас, перешагнув порог, швырнет в угол выцветшую котомку, поздоровается с тобой по старому дедовскому обычаю и, вешая на крюк свою шапку да гладя ласковым взором свою «радию», подставит Розалии отвисшую губу, а та, хмелея от счастья и стаскивая сермягу с его плеч, прошепчет: «Ох, муженек без задних ног, куда я тебя дену?»