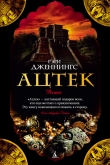Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Когда похоронная процессия исчезла из виду, Рокас вынул из кармана штанов кусок уха поросенка и швырнул Саргису, чтобы тот больше не скулил и не завывал, а сам, отперев гвоздем дверь амбара, выудил из закромов копченую колбасу, умял стоя (ах, одним грехом больше или меньше), напился в избе березовицы и повалился на кровать хозяина малость вздремнуть... Едва смежил глаза – будто в пропасть полетел.
Проснулся Рокас уже в сумерках – от ударов плетки... И тут же услышал визг старухи Блажене:
– Ах ты, нехристь... Лакомка проклятый! Где твоя совесть, где страх божий? В страстную неделю! Как свинья!
– Что случилось, маменька?
– Еще спрашивает! Сам провонял, как сума нищего. Во всей избе колбасой разит. Чтоб ты подавился!
– Извини, маменька... Я-то запаха не чую, а может, и не я виноват? Может, твой насморк?
– Не отпирайся!
– Я не отпираюсь, маменька. Сам папа римский во сне, говорят, воздух портит. А я даже клириком не был. Господь простит меня. Послезавтра к пасхальной исповеди пойду, если жив буду.
– Вон! С глаз моих долой, скот!
– Тетенька! – взвизгнул Рокас, схлопотав плеткой по щеке, и выскочил из кровати. – Я тебе покамест не сын. Ты мне не мамаша! Отдай, что мною заработано, и мы чужие. Я дорогу домой найду!
– Твое жалованье буйтунайцы сожрут. Не я, а ты их на пасху зазвал.
– Ну и кушайте на здоровье! Черт его не видел, это жалованье. С дырявыми карманами пришел, с дырявыми уйду.
– Ты меня не стращай. Уходи подобру-поздорову. Никто тебя за полу не держит. Таких батраков – пруд пруди.
– С богом, тетенька. Разреши последний раз березовицы напиться. Березовица – моя.
– Хватит мне нервы трепать в такой день.
– А у меня вместо нервов, может, веревочки?
– С жиру бесишься?
– Бешусь, как видите. Будьте здоровы. Живите и подыхайте без меня.
– Рокас, ты шуток не шути! – заговорила Микасе, встав на пороге.
– Да какие тут шутки? Пускай извинится эта старая лисица, пока мои уши слышат. Иначе в суд подам за то, что вором обозвала.
– Пошел в конуру, щенок! К Саргису. Голову остуди! Ты не бойся, Микасе. На коленках приползет – никуда не денется.
– Не на коленках! На животе приползу! Чтоб хутор подпалить! – сказал Рокас, нахлобучив шапку. – А как быть со свеженинкой, что дяденька Бенедиктас на крестины моего братика обещал? Не дай боже, чтоб столько мяса сгорело. Весь приход в страстную неделю свининой разить будет.
– Сейчас уже собрался домой уходить?
– Разве не видишь, что шапку надел?
– Микасе, полезай на чердак. Отрежь ломоть от прошлогоднего сала.
– Одна боюсь.
– Тогда оба полезайте.
Зажгли лучину. Забрались оба на чердак. Рокас, длинный, будто жердь, светил. Микасе, маленькая и толстая, что кубышка, руки поднимала, тянулась с ножом к салу. Не дотянулась. Попросила Рокаса, чтоб ее приподнял. Рокас послушался. Приподнять-то приподнял, но попробуй удержи такую гирю шестипудовую, которая больше кряхтит, чем сало режет.
– Ты поживей там!
– Терпи.
– О, господи!
Зашатался Рокас, ноги подкосились, и повалился он вместе с грузом. Лучина погасла.
– Кострику не подпали...
И обвилась обеими руками Микасе вокруг шеи Рокаса. Попробуй встань теперь, когда тело к телу прилипло.
– Рокюкас, не уходи от нас... Ты ж не дурак...
– Микасе, пусти.
– Ты ж не маленький.
– Чего ты от меня хочешь? Черт возьми.
– Поцелуй, Рокюкас. Осчастливь... Полсвиньи отдам. Тут все мое, – прошептала Микасе. – И мамаша долго не протянет. Все будет наше. Ты только меня не отпускай. И не ерепенься. Вот увидишь, как хорошо будет... Рокюкас.
– А меня эта ведьма домой на всю страстную неделю отпустит?.. Денег на крестины даст?
– Отпустит. Даст. Только не будь сычом. Прижмись.
Микасе отыскала губы Рокаса... И было ему ни то ни се. Солено, сладко и жарко, как в бане. Прильнул Рокас к груди в сладостном хмелю, потому что вдруг голой ее увидел... в клубах пара... как минувшей осенью, когда дяденька Бенедиктас застал его у окошка баньки и кнутовищем по хребту съездил.
– Беды наделаем.
– Не бойся. Мне отвечать, не тебе.
Слава богу, мамаша внизу заверещала:
– Куда вы подевались?
– Рокас нож потерял, маменька, – еще крепче вцепившись руками в шею Рокаса, ответила Микасе. – Оба теперь ищем.
– Вот те и на!
– Пропали, – прошептал Рокас.
– Не бойся. Сюда она не вскарабкается... Иди в избу, маменька! Не мешай.
– Микасе, может, не надо?..
– Рокас, будь добрым... Не завидуй моему счастью. Пожалей меня, сиротинку, – заплакала Микасе.
Рокас перестал защищаться. Перестал рассуждать, полсвиньи получит или только шматок, лит или целых сто... Сердце Рокаса преисполнилось жалости. Почувствовал он всем своим телом, духом и умом, что надо утешить Микасе (ах, одним грехом больше или меньше).
– Ах, Рокюкас... Я-то знала. Чувствовала, что ты добрый и умный мужчина.
– Разве я не сын своего отца, черт возьми? – ответил Рокас, горя адским пламенем и наверху блаженства, что его наконец-то не считают ребенком... что Микасе уже не гиря шестипудовая... что ему не придется в потемках топать домой, что спать будет сегодня как барин в кровати дяденьки Бенедиктаса, чтоб бабы Блажиса не боялись своего покойника да чужого разбойника.
В страстной четверг, когда Рокас, вернувшись домой, швырнул на стол окорок от одного из двух заколотых поросят, – стол покосился, когда сыпанул на стол горсть серебряных монет – у обоих родителей ноги отнялись. Первой обрела дар речи Розалия:
– Ирод! Никак эта вековуха Микасе тебя за хвост поймала!..
– Хвост – не голова, маменька. И я – не ящерица. Мой-то не оторвется... Как видишь, весь я перед тобой, слава богу, – ответил Рокас красный, будто свекла, щеря белые, как творог, зубы.
– Смотри у меня. Чтоб не испортился, пахарь ты Блажисов!
– Не бойся, маменька. Я – не плуг. Сам испорчусь да сам себя починю.
– Ты слышишь, отец, какой Соломон к нам вернулся?
– Не Соломон, а дурак Блажисов!
– Хорошо тебе, папа, умничать, когда маменька детей рожает по божьей милости, а сынок Рокас покрывает расходы крестин из своего кармана.
– Цыц, сопляк!
– Может, не стоит, сыночек?.. Может, не будем праздновать крестины-то?..
– Стоит, маменька. Наплакался я на похоронах хозяина, хочу вволю посмеяться на крестинах брата.
– Люди дивиться будут.
– Пускай дивятся... Мои деньги – моя воля. Пускай погуляют хоть раз в жизни голодные да босые, черт возьми!
И стало слово Рокаса плотью.
Таких славных крестин городок Кукучяй не помнит. Из-за множества приглашенных гостей Рокасу пришлось поклониться в ноги Веруте Валюнене и вымолить у нее половину избы, чтобы можно было столы поставить и осталась не только свободная середина для танцев, но и отгороженное занавесочкой место у стены для Розалии и Стасе Кишките с их младенцами.
Все было продумано Рокасом. Все. Даже место для курильщиков. С этой целью в красном углу на стене пришпилен белый лист бумаги. На листе по указке Рокаса Напалис сочинил, а Виргуте написала:
Вам – услада, нам – отрава,
На дворе дымите, право...
Над надписью – разноцветная картина Андрюса Валюнаса: Умник Йонас со своей Розалией, как кот с кошкой, ластятся спиной друг к другу – один, обняв «радию», пыхтит трубочкой, пуская к небу розовое облако, другая – голубой ворох пеленок к груди прижимает. Поскребыш, раздвинув ножками пеленки, голубую струйку вверх нацелил. Струйка, долетев до облаков, золотым венчиком головы родителей украсила, будто у святых угодников. Такая картина!.. Такая картина, что и описать нельзя... В сто раз краше, как говорит Виргуте, той, что в костеле... где святое семейство изображено. Ну той, где святой Иосиф с рубанком, а пресвятая дева с голым Христосиком.
Стоит ли удивляться, что когда гости рассаживались за уставленные кушаньями и напитками столы, богобоязненная близорукая Петренене, низко склонив голову перед картиной Андрюса, перекрестилась и, глотая слюнки, трижды в грудь себя ударила. Грянул хохот, а крестная Каститиса барышня Кернюте, заразившись добрым настроением, захлопала в белые ладошки и потребовала, чтоб показался сам художник.
– Наберитесь терпения, барышня учительница, – воскликнула Виргуте, зардевшись от счастья. Андрюсу теперь некогда. Он в покоях фельдшера другую картину кончает. Ту, что вы задали. Про зверей и птиц литовских лесов. Когда эту картину увидите, умрете от красоты...
– Прошу всех кушать и пить без особых моих указаний! – громко крикнул Рокас, для храбрости еще в сенях дернувший из горлышка, а теперь устроившись справа от крестной, но досадуя, что та не обращает на него внимания. И не только она. Все босяки. Можно подумать, никто не знает, что угощение ставит он, а не отец Йонас, черт возьми! Тоже мне, сидит рядом с мамашей будто голый король и не знает, куда глаза со стыда девать. – Пожалуйста, папа, сами кушайте, пейте и других угощайте. Пожалуйста, мама. Веселитесь, не скучайте. У каждого рюмка перед носом стоит. По интеллигентному будем. По новейшей моде. Спасибо господину Альтману, из своей лавки одолжил.
– Иисусе. Ирод! Ты уже назюзился?
– Снится тебе, маменька! – и Рокас залпом осушил рюмочку.
– Смотри у меня, поросенок. После поста надо знать меру в еде и питье!
– Не бойся, маменька. Я уже не ребенок! – скрывая злость, восклицает Рокас и, снова наполнив рюмочку, осушает до дна. – Кумовья и гости дорогие, выпьем за здоровье моих родителей! Чтоб мой брат Каститис не последним был!
Засмеялись бы босяки, но как-то не с руки...
– С чего это ты, Рокутис, такой веселый стал? – заговаривает Розалия в неловкой тишине. – Никак тебя Блажисова сиротинка косоглазая по шерстке погладила?
Тут как захохочут все босяки! Теперь-то уж можно вволю посмеяться, потому что Рокас не нашелся, чем мать отбрить, и заикал. Стыдно ему стало перед учительницей Кернюте, которая единственная из всех не смеется. Только с улыбкой ставит рюмочку Рокаса вверх дном и вполголоса говорит:
– С мамой спорить нельзя, Рокутис. Других угощайте, но сами больше не пейте.
Проглотив эту пилюлю, Рокас низко склоняет голову и тихонько отвечает:
– Вы не волнуйтесь, барышня. Я пить умею. Голова у меня крепкая.
– Верю, Рокутис.
– И об этой Блажисовой Микасе мамаша чепуху порет. Между нами ничего такого не было.
– Верю, Рокутис.
– Хотите, расскажу, как мой хозяин помер в день врунов?
– Расскажи, Рокутис.
И начинает Рокас сказку рассказывать, вранье переплетая с былью, серые будни смешивая с мечтой, да себя восхваляя. Ах, если б вы знали, барышня, какой ваш бывший ученик работяга! Без него бабы Блажиса как без рук и без головы. Трагедия будет, если Рокас бросит их на произвол судьбы. Конечно, не ему трагедия, а бабам. Где же они другого такого честного, такого сноровистого батрака найдут? Но сколько можно жертвовать ради чужих? Надо раз в жизни и о себе подумать, о своем будущем, о старых родителях да брате новорожденном. Ведь мамаша хочет Каститиса в учение отдать. А на какие шиши? Отец ничего не зарабатывает. Братья и сестры по всему свету разбросаны. Ни один даже на крестины брата родного не приехал! Подумать только! Все на плечах Рокаса. Все. А какие перспективы? Отец этой весной в Жемайтию не уйдет. Немец Клайпеду сожрал, шоссе проложено, заработков не предвидится. Пойдет отец в этом году со всеми босяками топь Крауялиса осушать со стороны Рубикяй. Слышите, барышня, как радуются бабы босяков? А чему? Что за выемку кубического метра земли мужчины получат по пол-лита! Было чему радоваться! При таком заработке едва концы с концами сведешь, а о том, чтоб детей учить, и думать нечего. Так что хочешь не хочешь, а Рокасу, когда он после крестин на хутор вернется, придется своим хозяйкам сказать: «Или вы, ведьмы, мне платите жалованье двойное, или катитесь к черту, а я ухожу в Каунас счастья искать».
И хорошо Рокасу. Смерть как хорошо, что барышня Кернюте внимательно его слушает, добрыми глазами на него смотрит и верит... Рассказывал бы он сказку свою днем и ночью, без конца, но босые мужики, бабы и дети, заморив червячка, уже возжаждали духовных радостей. Верно сказал когда-то Умник Йонас: «Человек – не свинья, не одной жратвой жив...» Так что встал Кулешюс с обоими своими крестниками из-за стола и, наяривая на гармонике, печально и торжественно запел:
Мы от порта морского отреклись,
Рыбака Каститиса дождались!
Аллилуйя!
Рыбака Каститиса, хоть моря нет, —
Мужика веселого, как солнца свет, —
подхватил Напалис. Дальше уже пели втроем, то дружно, то поочередно, восхваляя Каститиса и его приятеля Пятрюкаса Летулиса, родителей обоих новорожденных да их крестных... А о Рокасе – ни словечка! Скис Рокас, нос повесил. А вот учительнице Кернюте куплеты очень понравились. Слушала она их, разинув рот, и плакала от смеха, и хлопала в белые ладоши. Не станешь же теперь мешать ей разговором... А что творилось после торжественной части, когда Напалис, притащив из сеней петуха, галку и трех воробьев своего воспитания, начал цирк показывать, играя на свирели... В довершение Виргуте забралась под мышку к куме и стала взахлеб ей рассказывать про мечту Напалиса – этим летом непременно поймать самую умную из птиц – черного ворона и научить его танцевать с галкой фокстрот на улице под чириканье трех воробьев и пение петуха...
Терпел, терпел Рокас и не выдержал:
– Напалис, птичник несчастный, хватит комедию ломать! Зигмас, давай польку кумы!
И поклонился низко Рокас барышне Кернюте и взял ее за белую ручку.
– Ирод! Алексюсу положено первый танец танцевать!
– Пускай Алексюс своих крестников баюкает!
Захохотали босяки, а Зигмас заиграл, вскочив на лавку. Притопнул Рокас, присел и давай носить барышню Кернюте по избе, будто ястреб голубку, все выше поднимая к потолку в такт бешеной польки...
– Боже, вот мужчина! Не заметили, как вырос!
– То-то, ага. Хорошо молодому.
– Наш Рокас не хуже викария!
– То-то... Не приведи господь.
– Хороша девка. А гляди – псу под хвост пойдет.
– Говорят, Чернюс теперь из-за нее с ума сходит – свою-то викарию одолжил.
– А ну их к лешему – и Чернюса, и викария.
– А что я говорю? Нет хуже войны, голода, чумы да в старых девах сидеть.
Захватило дух у Кернюте, не выдержала она такой бешеной польки. Стала ее головка на плечо клониться, из волос шпильки посыпались, блузочка задралась, золотой крестик на спине замелькал.
– Рокутис, хватит!
– Ирод, пусти ее!
– Да будет воля ваша как на небе, так и на земле!
После этого стали танцевать все босяки, а Рокас ничего больше не видел, кроме Кернюте, ее огромных голубых глаз, раскрасневшегося лица да холмиков грудей, не умещавшихся под блузочкой... Господи милосердный, почему он до сих пор этой ангелицы не замечал! Змея, змея ты, Микасе! Ужалила в потемках и думаешь, что у Рокаса голова закружилась!
– Почему вы так смотрите на меня, Рокутис?
– Вот не думал, что вы так легко танцуете.
– Помолодела я с тобой, Рокутис.
– А вы молоды и без меня были, барышня.
– Была, Рокутис. Была и забыла, когда это было, – вздохнула Кернюте, и черт ее дернул своим душистым платком смахнуть Рокасу испарину со лба.
Рокас схватил руку кумы и стиснул покрепче:
– Барышня, когда я в армии отслужу, я вас найду.
– А сколько тебе годков до армии осталось? – улыбнулась во весь рот Кернюте.
– Один...
– Ах, Рокутис... Какой ты врунишка!
– Лучше говорите, что у вас есть другой... Я для вас прост...
– Виргуте, где картина моего Андрюса?
– Уже несем! Уже несем!
И снова все пошло к черту. Затихла музыка, остановились танцоры, прекратились речи. В дверь вошли Аукштуолис с примусной лампой, и Виргуте с картиной Андрюса чуть ли не в две сажени величиной, будто карта Литвы, прикрепленная на тонкой жердочке. Когда картину повесили на стене в красном углу, вся изба так и ахнула. Боже мой, какая красотища! Пожалуй, даже красивее, чем настоящий лес в самый разгар весны. Не то просека, не то перелесок, посреди которого лежит огромный лось с высоченной короной рогов. Не просто лежит. Подстрелен и кровоточит. А вокруг раненого какие только звери да зверюшки не сбежались, какие только птицы да пичужки не слетелись. Полно их на земле, ветки деревьев под их тяжестью склонились. И все звери и птицы плачут. И слезы у всех голубые. От этих слез даже лес поголубел, лужи голубые блестят, и ручеек бежит, смешав воду с кровью лося, и фиалка проклевывается из-под снега, словно глаз небес. А сквозь этот туман на лесной прогалине просвечивает радуга, осененная крылом синей птицы.
Такая тоска охватила Рокаса. Хоть возьми да заплачь вместе с лесными птицами и зверюшками. Тихо стало в избе. Как в костеле во время освящения даров. Видно, не у одного Рокаса сердце заныло. Но Рокас никак в толк не возьмет – почему? Почему такая тоска берет при виде этого подстреленного лося... Словно лежит здесь родной брат, которому хочешь помочь и не можешь. Почему у него глаза такие знакомые. Где он их видел? Во сне или наяву?
– Крестная, ты уже угадала, чего тут нарисовано?
– Чего, Виргуте?
– Я же тебе рассказывала. Еще перед рождением Каститиса. Неужто не помнишь?
– Из головы вылетело, доченька.
– Так это же сказка барышни учительницы о Тадасе Блинде... Ты только посмотри на эту косулю, которая лижет раны лося. У нее на шее бусы из тринадцати пуль!
– Иисусе! Вспомнила! А как же! – охнула Розалия. – Веруте, дорогая, завидую я тебе. Вот бы мой рыбак такой затейник был, такой талант бы имел! Ирод!
– А откуда талант у человека берется, Розалия, от бога или от черта?
– То-то, ага.
– Цыц!
– Ладно... тогда объясните мне, дуре, кто же этот Блинда был на самом деле – мужик или зверь лесной? – заговорила близорукая Петренене, совсем растерявшись и уткнувшись носом в картину.
– Мужик, тетенька. Только очень красивый... будто лось Бивайнского леса широкорогий, – стала с пылом рассказывать Виргуте, но не кончила, потому что братец ее Напалис, долго молчавший, вдруг разинул рот:
– Помолчи, Вирга! Ничего ты не смыслишь. Я разгадал, в чем соль картины Андрюса! Я! Тут совсем не Тадас Блинда. Тут наш работяга Пятрас. А все другие птицы и звери – это мы, босые люди, которые ждем Пятраса не дождемся.
Хорошо, что кум Алексюс под конец танцев Стасе с ребенком домой проводил, а то было бы слез море целое, потому что Напалис, ткнув пальцем в косулю с бусами, ликующе закричал:
– Может, скажете, это не Стасе? А этот длинноногий аист – не наш Алексюс?
– Иисусе! Что правда, то правда! И ноги, и фигура... Ирод ты, Андрюс... Ирод!
Больше не пришлось Напалису пальцем тыкать. Все умные стали. Каждый принялся искать своих близких да знакомых, тайком надеясь и себя найти. Даже Рокас на время забылся. Поддался азарту поиска не меньше других, потому что, подняв глаза на сосну, увидел своего отца Умника Йонаса, превратившегося в сову и пророчащего войну. Рядом присела на ветку сорока – мамаша Розалия, как вылитая, первая сплетница городка... Над ней облезлый дрозд – как две капли воды Горбунок. Над дроздом – дятел Кратулис, перекосивший шею и глядящий с тоской в небо, потому что там не радуга сквозь туман проглядывает, а его трехцветный флаг, перевязанный черным чулком. «Нет больше Клайпеды. Нету, Юозанелис!..» – каркает с сосны старая, подслеповатая ворона – Петренене. А вот и настоятель Бакшис – большой черный ворон в сторонке от остальных птиц, неуклюже обхватил сук, точно поручни амвона... Не плачет и не каркает, только смотрит суровыми, умными глазами вниз, где из темных кустов крадется огромный голодный волк. Разве это не Мешкяле белозубый с жадными налитыми кровью глазами? Далеко не все звери оплакивают беду лося широкорогого. Иные откровенно радуются, даже слюнки у них текут. Вот лисичка хвост между ног зажала (копия Чернене), хотела бы притвориться печальной, но не может. Глаза веселые выдают. Вот облезлый дикий пес Анастазас с пеной у рта... Единственный в этой компании обомшелый кабан господин Гужас крови не жаждет. Все дети босяков помирают со смеху при виде его... А вот и тот, с которым Рокас не хотел бы никогда больше столкнуться лицом к лицу. Это ужак Заранка, свившись в клубок в зарослях прошлогоднего пожелтевшего папоротника и подняв очкастую голову, с любопытством наблюдает за тем, что творится в мире птиц и зверей. Ах, разрази тебя гром с ясного неба! Погоди, Рокас Чюжас! Кто же, по-твоему, эта коварная рысь, что на одной ветке присела, а другой будто зонтиком прикрылась? Узнает ли барышня Кернюте своего соблазнителя викария. Не придется ли ей пальцем на него показывать?
– Бог ты мой... А гусыня-то какая красивая! – охает Петренене.
– Это не гусыня, тетенька. Это лебедь, – объясняет Виргуте.
– Знаю. Сама знаю. Ты меня не учи. Это птица из теплых краев. Не для мяса ее держат. Для красоты. В поместьях. Чего только не выдумают господа от хорошей жизни. Чего только... Когда я, молодая да зеленая, в Каралинаве служила...
– Тогда вас помещичий сынок и подловил, когда вы на лебедя загляделись, а? Ха-ха, – гогочет Альбинас Кибис.
– Заткнись, дурак!
– Не спорь, не спорь. Если бы не твой Винцентас, до сих пор бы в богомолках ходила.
Хохочут, галдят захмелевшие босяки.
Хоть встань и двинь в морду этому черту Альбинасу. Глаза залил, не видит, что лебедь – никакой не лебедь, а кума Алексюса. И длина шеи, и гордость лица, словно на голове у нее невидимая корона... Бедняжка ты моя белоснежная... Принесло тебя бурей в лесную чащобу. Ни тебе с зверями водиться, ни с птицами дружить. Даже большие свои крыЛья не расправишь в тесноте. Остается плавать по луже собственных слез и вместе со всеми добрыми обитателями леса жалеть умирающего короля лесов. А кто тебя пожалеет? Разве что одна белочка, бросившая с дерева в лужу орех?
– Крестная, я себя нашла! – взвизгивает Виргуте. – Вот! Белочка. Хвост у нее, как моя юбочка. И курносенькая!
– Вот видишь, а ты боялась, что выйдешь некрасивая.
– О, господи... Умру, какая красота!
– Не умирай, сестричка. Повремени! Крауялисова Ева в сто раз тебя краше. Видишь кукушку рябую? – сердито кричит Напалис. – Вон, на самой верхушке.
– А ты посмотри на себя. Скворец! Скворец! Хилый скворец с червяком.
Сестричка, ах сестричка,
Завидуешь кукушке...
Была б и ты красотка,
Да ушки на макушке!
– Перестань ты, воробьиный циркач! – злится Рокас. – В гостях ты, а не в лесу!.. Андрюс, а почему на твоей картине меня нету?
Андрюс молчит и улыбается. За него отвечает Напалис:
– Потому, господин Рокас, что ты птица не лесная.
– А какая?
– Блажисова! Домашняя! Племенной петух старой девы Микасе!
Взревывает от хохота Альбинас Кибис. Вслед за ним – все мужики и бабы. А тут еще Зигмас извлекает из своей гармоники чисто свинячье хрюканье. Даже крестная вздрагивает, оторвав взгляд от картины и вконец растерявшись. Рокас не знает, куда глаза девать. Но ведь сквозь землю не провалишься. Поэтому наливает рюмочку водки, выпивает за здоровье крестной и вполголоса говорит:
– Темная наша публика, барышня учительница. Вы уж простите. Сами не знают, над чем смеются.
– Чепуха, Рокутис. Смех – вещь хорошая. Не стоит переживать.
Говори не говори, а у самой лицо тоже переменилось. Настроение увяло. Вся бойкость исчезла. Глаза еще больше потемнели. Приобрели какую-то наводящую страх суровость или тоску, словно в эти глаза сбежались все звери и птицы Андрюса Валюнаса. Какая она теперь манящая и суровая... близкая и далекая! Ах, господи, будь человеком, пусти ты ее в руки Рокаса! Этой ночью. Хоть на минутку... Чтобы Рокас мог, уткнувшись в ее душистые ладони, совершить пасхальную исповедь и в виде покаяния попросить... Что? Ведь нет такого дела, которое Рокас не совершил бы из-за белой лебеди, прояви она хоть малейший знак милости... Не окорока или пятидесяти литов, как от Блажисовой Микасе, он от нее хочет... Ну, положим, чтоб позволила себя поцеловать, как Ева в той драме, что она сама сочинила, позволила своему Тадасу Блинде, сказав при этом удивительные слова: «Иди и возвращайся. Я буду тебя ждать...» Господи, за такую минуту Рокас Чюжас дал бы тебе честное слово – завтра с самого утра все похищенные у Блажиса деньги ссыпать в сундук для пожертвований в костеле, как в прошлом году двойняшки Розочки поступили и, по их словам, вымолили Литве независимость от Польши – ценой отречения от Вильнюса. Господи, если ты и впрямь выслушал молитвы этих дурочек, то выслушай и сына Умника Йонаса, еще раз докажи свое существование на небе и земле, дабы блудный сын Чюжаса Рокас был спасен от смертного греха, а кума Алексюса – от горя стародевичества. Пускай плюнет она в бороду своему соблазнителю! Господи, чем Рокас Чюжас хуже этой провонявшей парфюмерией церковной рыси? Разве тем, что Рокас на несколько годков моложе, что готов на ней жениться, едва достигнет совершеннолетия... Единственный недостаток, что малограмотен. Но разве это неисправимо? Ведь когда-то заведующий школой Чернюс утверждал, что голова Рокаса для науки подходящая. Рокаса из школы вытурили не из-за отсутствия способностей, а потому, что в четвертом классе он славную шутку выкинул в день врунов с бабой того же Чернюса. Благодаря ему, она уселась на поставленную торчком иголку и, откровенно говоря, с того часа совсем ошалела... А Рокас после этого происшествия три года проработал батраком у Чипкуса в Кашейкяй и сейчас, пробатрачив целый год у Блажиса, не только в тело вошел, но и поумнел... Значит, мог бы учиться еще лучше... Пускай только барышня Кернюте не пожалеет своего времени... Каждый вечер Рокас прибегал бы к ней из неволи Блажисова хутора. Каждый божий вечерок. Глянь, год-другой, и гимназию Рокас закончил бы экстерном, перепрыгивая по два класса сразу... А за это время изгладилась бы из памяти барышни Кернюте старая несчастная любовь... Ведь Рокас – мужчина что надо. У него никогда бы не прошло желание ее на руках носить и...
И пронзило Рокаса Чюжаса воспоминание, как славно ему было с Блажисовой Микасе на чердаке... И прошептал он в сторону святого образа: «Господи, не завидуй моему счастью». И услышал, зажмурясь, негромкий и кроткий голос всевышнего: «Старайся, Рокас Чюжас... Я тебе помогу».
– Барышня учительница, выпьем по рюмочке, чтоб веселее стало, – заговорил Рокас, очнувшись от своих пьяных грез.
– Мне весело, Рокутис. Мне очень весело.
– Не врите, барышня. Вам не к лицу.
– Хорошо, Рокутис. Выпьем.
Чокнулись оба и выпили. Но веселье не возвращалось в глаза барышни Кернюте. А тут еще Альбинас с конца стола как нарочно закричал, что кум с крестин сбежал и теперь брату новорожденного Рокасу положено исполнять его обязанности и, прижав несчастную куму к сердцу, в губы поцеловать, чтобы Каститис не был редкозуб... Сидящие рядом женщины тут же вспомнили Стасе Кишките, заохали, что Пятрас Летулис будто в воду канул и молодая мать сохнет от тоски. Неважно, что Алексюс смотрит за ней, как за родной сестрой. Любовью нелюбимого сыта не будешь. Разве не видели, как она пригорюнилась? Боже мой, такой пир! И кушать, и пить... Чего только сердце пожелает. А она сбежала в свою баньку с полными слез глазами. Не хочет Алексюс ее одну оставлять с черными мыслями, утешает... Потому и не возвращается, бедняга. Утешай не утешай, а она все равно только о своем Пятрасе думает...
Ах, парень ты жестокий,
Зачем мне изменил,
Зачем ты мне песочком
Глаза запорошил! —
вдруг затягивает Петронене, подрагивая толстой шеей, и все бабы начинают тоскливо подтягивать, как старые гусыни, настраивая печальные голоса да вспоминая молодые деньки.
– Зигмас, музыку! Польку! – вскрикивает Рокас посреди песни и вместе с первым тактом вскакивает... Но теряет равновесие, обеими руками хватается за тугую грудь барышни Кернюте.
– Ирод!
– Прости, Рокутис. Мне пора домой.
– Этот один последний танец, барышня.
– Без конца не будет конца, Рокутис.
Замолкает музыка, обступают куму родители новорожденного, все босяки, пробуют удержать ее, доказывая, что только теперь-то и начинается настоящее гулянье. Но Кернюте не сдается. И что ты с ней поделаешь? Не поспоришь ведь. Каждому господь волю дал поступать по закону своего сердца и ума. Поэтому целует Розалия крестную своего Каститиса в обе щеки, благодарит за честь, оказанную всему роду Чюжасов, и приказывает Рокасу проводить ее до дома, потому что Алексюса все нет как нет. Ему простительно. Пускай убаюкает своего крестника Пятрюкаса. Стасе ведь совсем с ног сбилась. Ей помощь нужна. А ты, Рокутис, веди себя вежливо. Не насвинячь, попросту говоря.
– Отстань, маменька, со своими поучениями. Я уже не маленький.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, барышня. Приходите завтра на остатки.
– Спасибо.
Всю дорогу Рокас провожал барышню Кернюте под руку молча, боясь, как бы не пошатнуться, потому что чистый, душистый весенний воздух вскружил голову, еще больше укрепив безумную мысль – рассказать о своем грехе и, упав на колени, завоевать сердце белой лебеди. Однако на дворе совершить такой подвиг не было возможности. Поэтому, проводив барышню до крыльца школы, Рокас Чюжас еще больше посерьезнел и попросил пустить его в дом.
– Рокутис, не забывай, что ты своей маме обещал.
– Мама ничего не знает, что со мной. Я должен вам свою тайну выложить. Вы сами несчастны. Вы меня поймете.
– Рокутис, ради бога...
– Вы, барышня, не хотите даже выслушать меня?
– Завтра, Рокутис. Завтра.
– Завтра, барышня, меня может уже не быть...
– Не дури, Рокас. Я рассержусь.
– Вы мне не верите?! – воскликнул Рокас и, охваченный артистическим вдохновением, вынул из кармана револьвер да сунул его под нос барышне Кернюте. – Я застрелю эту черную рысь... ей-богу! Сегодня же ночью... А потом сам себе пулю в лоб пущу... Я не могу жить без вас, барышня... Я не могу видеть ваших несчастных глаз. Все вас жалеют в Кукучяй. Все. Я отомщу за всех босяков.
И понесла бы тут Рокаса Чюжаса пьяная фантазия, и сказал бы он много, много прекрасных слов, как Тадас Блинда в конце драмы учительницы Кернюте, но Кернюте вырвала у него из рук револьвер и вежливо попросила разбойника идти домой выспаться, чтобы завтра, с самого утра явившись к ней смог бы открыть свое сердце на трезвую голову и не заплетающимся языком. А чтобы Рокас Чюжас ей поверил, Кернюте поцеловала его в лоб и ласково сказала:
– Спокойной ночи, Рокутис. Сладких снов...
– Вы меня не выдадите... Я знаю, барышня. Знаю, что оружие мне вернете.
– Завтра, Рокутис. Завтра сможешь забрать. Я его не съем.
– Спасибо вам, барышня учительница.
– Не за что, Рокутис.
– Как это не за что? Вы спасли мне жизнь на одну ночь.
– Иди, Рокутис, домой. И не пей больше.
– Не буду, даю слово. Только вы, барышня, будьте со мной ласковее.
– Я люблю тебя, Рокутис. Очень люблю. Ты хороший. Послушай меня – иди домой.
– Иду, барышня. До завтра.
– До завтра, Рокутис.
– Подождите. Еще одну минутку.
Но дверь захлопнулась. Долго стоял Рокас Чюжас, прислонившись лбом к косяку двери школы. Долго шептал прекрасные слова барышне Кернюте, пока не забыл данное ей обещание и вместо того, чтобы вернуться домой, отправился в избу Валюнене к братству гулящих босяков, по дороге разбудив Альтмана и выклянчив в долг два пол-литра... Пил и пел вместе со всеми, как равный с равными. И хвастал перед мужиками, что крестная его на завтрак к себе пригласила и бил себя в грудь кулаком, клянясь, что ни за какие деньги на хутор Блажиса не вернется, потому что косоглазая Микасе – уточка дурной породы по сравнению с белоснежной лебедушкой из кукучяйской школы.