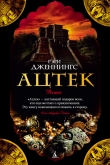Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Нет, нет. Такого еще не бывало в жизни Розалии. Ах, Фатима-колдунья, зачем нарушила покой? Зачем разбудила угасшие было надежды? А может, ты просто посмеялась, ведьма, над Розалией при всем бабьем народе? Ведь все как одна подружки думают, что пора цветения у Розалии давным-давно кончилась. Поэтому-то они так громко смеялись.
Поднявшись с постели будто разбитая, Розалия целый день бродила сама не своя, не находила занятия ни для рук, ни для головы, потому что глаза ее то и дело устремлялись в сторону кутузки, к полузаколоченному оконцу, под которым все время околачивается Пурошюс и, весьма довольный собою, громко спрашивает Фатиму, не собирается ли она сегодня ночью, нажравшись яиц Розалии да сев верхом на казенное помело, прилететь на кукучяйское городище поиграть в прятки с бесами ночи святого Иоанна и, кстати, полюбоваться талантами его сына Габриса. Гадала ли она уже своему ублюдку? Пурошюсу-де любопытно, кем же он вырастет – конокрадом или высоким полицейским чином. (Господин Мешкяле спозаранку снова ускакал в Пашвяндре, и поэтому Тамошюс Пурошюс чувствовал себя весьма храбро.)
Так что не было смысла бежать к кутузке и просить совета у Фатимы. Не приведи господи, еще услышат посторонние уши. Она хотела поговорить с колдуньей с глазу на глаз. Так что весь день унимала сердцебиение молитвой, а под вечер сказалась больной и объявила бабам, что не желает подниматься на городище. Обойдется на этот раз гулянье без Розалии. Дай боже завтра силушки отмахать весь престольный праздник: выслушать от трех до пяти месс да пройти на коленях пути Христовы, молясь о бастующих мужчинах.
Бабы босяков попытались, конечно, вылечить свою подругу, Шерменене притащила отвар волчьего зуба, Кибене – змеиный яд, Ятаутене – горбушку хлеба святой Агафьи, моченную в молоке суягной козы, яловая Майронене – нюхательного табаку, толстая Гиргантене – касторки. Каждая – свое собственное снадобье, которое мгновенно возвращает силы и доброе настроение. Но болезнь Розалии на сей раз не поддалась, хотя больная все предложенные лекарства честно глотала и нюхала.
Кое-как отбившись от посетительниц, Розалия тремя глотками водочки смыла чужие снадобья и, минутку понежившись в кровати, сама не почувствовала, как заснула. Снились ей восход солнца, просторный луг, исполосованный прокосами. В конце луга – две башни костела, будто окровавленные бычьи рога. Бежит Розалия с корзиночкой и смотрит, где же косари, где ее Йонас. Бежит, бежит, и конца нет этому лугу. И сердце уже сжимается от страха. Останавливается Розалия. Прислушивается. Будто бы песня слышна. Нет, это траурный псалом, долетевший из костела. И снова бежит Розалия. Бежит опять. Пока не вырастает холм, облепленный домами. Под холмом косы, воткнутые в одну кочку. Вокруг кос ходит бородатый ксендз в красном облачении и кропит мужские шапки, которые висят на рукоятях кос. О, Иисусе! Синяя борода! «Какой это городок, святой отец?» – спрашивает Розалия, собравшись с духом. «Гаргждай», – отвечает Синяя борода, перестав кропить и уставившись на нее налитыми кровью глазами. Не может быть. Неужели так быстро Розалия всю Литву обежала? «Будет врать, брехун!» – хочет она крикнуть, но Синяя борода снова поднимает кропило и разражается хохотом: «Дошли кукучяйские босяки до ручки!» Мало того, хватает одну шапку с косы и швыряет Розалии под ноги. Это шапка ее Йонаса, изрешеченная пулями, с запекшейся кровью... Завопила Розалия не своим голосом и проснулась. В чем была выскочила на двор. Темно. На вершине городища – столб огненный. Павасарининки Кряуняле «Литву дорогую» поют. И бегут черные тени через городок. Бегут... Будто разбойники или воры. Тихо в городке. Ни души. Голову можно дать на отсечение, что и Пурошюс вместе со всеми убежал, оставив арестантов на волю провидения, он-то ведь только своим Габрисом жив. Смахнула Розалия холодную испарину со лба, перекрестилась – сейчас или никогда надо всерьез выяснить свое бабье будущее и смысл этого страшного сна.
Когда до кутузки остался десяток шагов, до уха Розалии донесся шепот. Опустившись в борозду, она тут же поняла, что у окошка уже кто-то исповедуется. Вот те на! И кроме нее есть еще в Кукучяй несчастные бабы, которым на праздничный костер наплевать. Обратившись в слух, она все-таки не могла уловить ни единого слова просительницы, даже не могла угадать, кто она такая. В голове прояснилось лишь, когда Фатима дала из окошка ответ:
– Если избранник твой любит тебя, барышня ясная, если сердце твое при виде его птицей в груди трепещет, а во сне от земли тебя приподымает, иди за ним с закрытыми глазами, лети хоть на край света, потому что, запомни, – лишь одна жизнь тебе дана и одна жаркая любовь. И за родителей своих не переживай. Никуда не денутся – простят тебя. Моя бабушка, вечная ей память, рассказывала, что твои родители в молодости что-то похожее сделали. А живут, как видишь, в счастье и согласии. И еще жить будут, дай бог им здоровья.
И снова шепот... И снова ответ:
– Не нужны мне твои деньги. За совет не беру. Беру только за карты и ворожбу по руке. Но теперь темно. В другой раз. Дай боже нам обоим на воле встретиться. Когда своего Гирша увидишь, передай от меня привет. Может, еще не знаешь, Рива, что мы с ним добрые друзья, хотя он моего колдовства не признает, а я – его листовок, которые всех босяков поднимают на войну против богатеев. Зряшная это работа. Прав твой папаша, господин Альтман: «Нету, не было и не будет правды на этом свете. И равенства не будет. Так зачем дуть против ветра? Фор-вос-мы-страдаем?» Не разумнее ли со всеми жить по-хорошему, как ваш папаша, и заниматься торговлей, открыв свою лавчонку?.. Да хоть и в Кривасалисе. Ты его переубеди, Рива, посоветуй – ради его и твоего счастья и ради будущего ребеночка. Если не послушается тебя, то хоть предупреди, чтоб через Шилай больше не ездил по Пашвяндрской дороге. Староста деревни Пашекщяй Индрашюс зуб на него точит. Обещает тележку Гирша перетряхнуть и, обнаружив «большевистские рецепты», мокрыми веревками его лечить, а после этого, привязав голышом на всю ночь к сосне, устроить пир для слепней... Ты слушай, Рива. Слушай. Я тебя не пугаю. Я только слово в слово пересказываю, что мне дочка Индрашюса Кристина говорила. Он ее любимому парню прошлым летом такое учинил. Тартилюсу из Напрюнай. Теперь тот Пашекщяй чурается как черт креста, а бедная Кристина моей помощи просит и, чтоб отомстить отцу, все его секреты мне выдает. Я-то теперь не успею Гирша предупредить. Сам господь добра ему желает, раз тебя ко мне поздней ночью прислал.
И снова шепот. Снова ответ:
– Да не за что. Не благодари. Такая моя обязанность. Еще моя бабушка говорила: «Как можешь, как умеешь, так и помогай своему ближнему. Еврей он, католик или православный. Все они люди, все в равной мере истинной любви желают. Все в равной мере – истинного счастья. Только никто на всем свете не знает, где это счастье. Потому и ищем его, заклятое, как умеем». Так что беги, лети, Рива, сломя голову к своему Гиршу. В Таурагнай. Напрямик. Может, когда через Медвежью топь будешь бежать, папоротников цвет найдешь... А теперь ты угадай, что со мной творится, почему сердце так неровно бьется? Перед счастьем – или бедой?
– Может, перед свадьбой так бывает?
– Да не будет никакой свадьбы. Это чистая моя выдумка.
– А Мишка?
– Мишка из-за меня с ума сходит. Вот это правда. Но сердцу ведь не прикажешь... Или ты можешь научить меня, Рива?
Ничего не ответила Рива. Молчала.
– Спокойной ночи. Да поможет тебе бог.
– Спокойной ночи, Фатима. Спасибо тебе за все.
– Будь счастлива. Помолись за меня, когда выпадет свободная минута. Ты честная, хорошая. Тебя господь выслушает.
– Не умею я ваших молитв.
– Помолись по-еврейски. Своему богу. Может, он лучше нашего.
– Не знаю, позволит ли Гирш.
– А ты плюнь в бороду этому своему большевику. Не слушай его. Хорошо против бога роптать, пока опасности нету... Как мой Мишка. А как цапнет его когда-нибудь полиция за шкирку, первым к богу воззовет. Хуже последней бабы. Все мужики безбожники таковы. Все. Тычут кукиш в небо, лишь когда гроза минует.
– Мой Гирш – другой.
– Дай боже.
– Поживем – увидим.
– Счастливого пути.
Но недалеко ушла Рива. Только до угла кутузки, потому что рядом заржала лошадь и загрохотала телега. Неожиданно, как гром с ясного неба.
– О, майн гот! – охнула Рива.
– Что случилось? – крикнула Фатима, прильнув к окну. – Это твой Гирш скачет?
– Нет, нет. Кляча моего Гирша ржать не умеет. Это твой Мишка, наверно. Слышишь? Бубенцы!
– Дай боже. Дай. Если только посмеет. До смерти заласкала бы нелюбимого, а любимого прокляла бы навеки.
– Он, он, Фатима. Чует мое сердце твое счастье!
Прислушались. Замолчали обе. И Розалия не выдержала. Подняла голову из картофельной борозды. Когда загрохотала земля, почудилось ей, что черный-пречерный конь пролетел мимо и две черные фигуры на черной телеге. Больше она ничего не видела, что творилось за кутузкой. Только явственно расслышала, как с грохотом взломали дверь, как охнул женский голос и заверещал младенец... Потом задуднили шаги, громко сопя, удалились люди... И снова послышалось громыханье телеги да ржание коня... Все унеслось в сторону Таурагнай. От угла кутузки отделилась Альтманова Рива, со вздохом оглянулась на свой дом и побежала по той же дороге.
– Господи, не завидуй их счастью.
Закружилась голова у Розалии, отчаянно заколотилось сердце. Так захотелось побежать за ними! Жаль только, что Гаргждай – в обратной стороне. На запад. К морю. Боже, как там темно, как черно... Только кровавые тени, взявшись за руки, пляшут. Смотреть страшно. Встала Розалия из борозды и, шатаясь, побрела к дому, сама не зная, откуда слабость в поджилках, откуда немощь, вдруг охватившая все ее тело. Может, болезнь нехорошая? Или это еще сон продолжается? В хлевке хрюкнул сквозь сон поросенок, из-под хлева окликнул мужской голос:
– Это ты, Розалия?
– Я... – сама не своя, ответила Розалия, потому что голос был – Йонаса... Побежала бы к нему, но ноги не повиновались. Остановилась Розалия, обхватив ногами две борозды картошки, и ни с места. Ни вперед, ни назад. Хорошо, что Йонас близко подошел, лицом к лицу. Не то понюхал, не то послушал... Хотела Розалия на шею ему броситься, но руки тоже забастовали... Будто паралич их хватил.
– Йонас, уж не снится ли мне?
– Нет. Чем воняешь?
– Водочкой.
Хотела Розалия объяснить все по порядку, но не успела. Йонас поднял кулак да двинул ее в челюсть.
– Потаскуха!
Шлепнулась Розалия на спину и, не шелохнувшись, лежала в борозде – ждала, что будет дальше. Господи, как хорошо, что хоть во сне Умник Йонас ее приревновал. Но почему... почему челюсть так болит и голова кружится?..
– С кем была?
– С Мешкяле, – ответила Розалия и снова принялась ждать... Ждала, преисполнившись счастья, что Йонас врежет ей еще. Не дождавшись, заплакала. Йонас же голову низко свесил, потом сам упал. Тут же, рядом, под правой грудью Розалии. Будто поросенок голодный стал носом картошку рыть. Все выше, выше, прижимаясь всем телом, пока Розалия не обрела силу рук, не схватила его голову да не почувствовала соленость губ и колючесть усов... как в старое доброе время. В тот первый разочек. В ночь на святого Иоанна. На лугу Дригайлы. На кустиках тмина. Когда Йонаса никто еще Умником не называл, когда Розалия тоненькая была, будто тростиночка...
Ох, и узнала же своего работягу Розалия. Узнала. Ох, и вспомнил же Умник Йонас, каким он был молодым да глупым.
Приходи девица, вскоре,
Поплывем с тобой за море! —
тянули хористы Кряуняле с высот городища, содрогая облака.
– Ах, чтоб тебя черти... как славно, что ты вернулся, Йонулис, родной мой, – шептала Розалия, мечась в борозде картошки и не зная уже, кого за свое счастье благодарить: небеса, пекло или эту ведьму Фатиму, которая вчера ей по руке ворожила.
17
Когда Умник Йонас, потеряв голову, ласкал свою Розалию, остальные одиннадцать землекопов и двенадцатая Стасе все еще сидели за гумном Рилишкиса. В пустые дома идти не хотелось, а забираться на городище к своим бабам и песни шаулисов да павасарининков слушать гордость не позволяла. Нет уж. Чтоб каждый дурак над тобой издевался... Ведь никогда еще кукучяйские работяги такого сраму не знали. Вернись ты мне с работ в самый разгар лета без гроша в кармане. Пешком, голодные, будто волки. Избитые, искалеченные. Угрюмые, без зубов и без одного из своих. Без Пятраса Летулиса. Много ли надо, чтоб Йонас Кулешюс при виде их заиграл бы похоронный марш, а бабы начали плач и скрежет зубом?.. Сто крат лучше вместе перевести дух после дороги и подождать, пока догорит костер, пока павасарининки с шаулисами перебесятся, пока бабы, домой вернувшись, детей спать уложат и сами хоть часок соснут... Вот тогда самое время будет дверь избы приоткрыть и, прильнув к ногам своей супруги, тихонько сказать «Не бойся. Не вор. Свой. Дай сперва перекусить, а потом – будь что будет... Я – твой, ты – моя, или – давай спать да сны смотреть. Может, во сне папоротников цветик найдем?» Так рассуждал глава землекопов Альбинас Кибис, никогда сам не падавший духом и умевший другим настроение поднять. Увы, на сей раз ему что-то не везло. Умник Йонас первым попросился, чтобы его отпустили домой. По своему «радию», дескать, соскучился, по московской волне... Что с ним поделаешь? Ведь всех работяг возрастом старше. Для него баба – была не была. Он – человек разума. С ним не поспоришь. Пришлось отпустить.
Пробежал час, другой. Теперь нервы Стасе стали пошаливать. Когда на городище хор Кряуняле затянул «Покачайся, уточка, на волнах озерных», не выдержало ее сердце, зарыдала девка, уткнувшись носом в плечо Алексюса. Что с ней поделаешь? Какими словами уймешь? Кому-кому, а ей-то ведь тяжелее всех. Ни крыши над головой, ни работенки... И прижаться не к кому. И так всю дорогу ни разу слез не показывала. А, чтоб вы комариками подавились, лаумы Кряуняле. Нашли место и время такую жалобную песню затянуть. Хоть полезай на городище да глотки всем этим хористкам заткни. По очереди.
Хорошо еще, что Алексюс Тарулис убедил Стасе идти переночевать к его мамаше – в баньку Швецкуса.
Когда они исчезли в темноте, настроение мужиков окончательно испортилось, и поэтому Кибис приказал бездетному Мейронасу отправиться к Альтману за бутылочкой.
– Хочешь не хочешь! Ты из нас самый богатый. Твои дети не будут из-за куска хлеба реветь. Возьми в долг, если не найдешь, где твоя баба деньги прячет.
Ни слова не сказал Мейронас. Спустился с пригорка и через минуту вернулся – не с одной, а с целыми двумя бутылками.
Выпили работяги чертово зелье из тоненького горлышка, встряхнулись, будто лошади после долгой дороги... Усталости как не бывало. В глазах светлей и даже в голове.
– А почему нам на городище не взобраться? Мы что, прокаженные или воры? Или мы чужим по́том кормимся?
– Верно говоришь. Айда! Пускай только попробует кто нас задеть. Зубов не соберет.
– Пошли!
И пустились работяги гуськом по полю. Первым – Кибис. Последним – Кратулис. И поскольку последнему никто на пятки не наступал, то доброволец отставать начал. Не с дурным умыслом. Нет. Сил не оставалось в ногах. Гибкости в суставах. Ведь в этой компании он по возрасту второй после Умника Йонаса. Лишь на год того моложе. Вдобавок – вдовец. Умник Йонас с Розалией лишь семерых детей в мир батраками пустили (и все, слова богу, сами себя кормят), а вот они с Милюте – тринадцать!.. И трое все еще дома у него на шее сидят. Ложишься, встаешь, и все про них думаешь. Что делать теперь, когда с пустыми руками вернулся? Как в их голубые глазенки посмотреть? Чувствуешь ли, Милюте, лежа под песчаной периной на высокой кукучяйской горке, как переживает твой Юозапас?
Когда мужики двинулись мимо кладбища, сердце у Кратулиса не выдержало. Впервые за девять лет нестерпимо захотелось обнять могилу Милюте и выплакаться... Мужики топали дальше, а Кратулис через брешь в ограде юркнул на кладбище. Долго искал могилу. И во весь рост, и на четвереньках. Вспотел, но отыскать никак не мог. Потому обнял первую попавшуюся, побольше заросшую травой. Та или не та – разве это важно? Всюду ведь здесь покоились родичи босяков Кратулисов. Целыми поколениями. Вовремя и некстати ушедшие из мира сего. Любимые и нелюбимые, далекие и близкие, но все в равной мере оплаканные... Увы. На сей раз слезы не текли. Наверное, все соленым по́том вышли, и потому так болели глаза у добровольца.
Кратулис положил голову на лужайку, трижды сказал: «Милюте» и закрыл глаза. Проспал бы до утра, но Милюте... Ласковой травинкой к щеке прильнула и защелестела:
– Вставай, пьянчужка! За детьми присмотри. Успеешь намиловаться...
Вскочил Кратулис с земли будто ошпаренный и побежал домой. Перетрухнув, ожидая дурных вестей. Дом оказался пустым, полным сквозняков и чужих кошек. Ни одного ребенка из троих. Побежал бы сломя голову к городищу, но возле корчмы из открытого окна окликнул его господин Альтман:
– О, господин Юозас! Присаживайся, гостем будешь.
– А моих ужаков ты не видал?
– Ой, нет, господин Юозас. И мои, и твои – все там... Альтман махнул на городище, с которого доносились уже не песни, а женский визг и мужское перехрюкиванье. – Найдутся, никуда не денутся. Пускай еще папоротников цвет поищут.
– Да отцвел уже. Светает.
– Ничего, господин Юозас, пока молоды, пока глупы – пускай ищут. Наберись терпения. Присаживайся.
Альтман сунул ему под нос распечатанную коробочку папирос. Кратулис выковырял папиросочку, поколотил о ноготь большого пальца, присел на лавочку под окном и, дождавшись огня, затянулся дымом. Затянулся, проглотил, зажмурился. Альтман ждал, пока Кратулис дым выпустит. Не дождавшись, сам выдохнул:
– Значит, вернулись, господин Юозас?
– Вернулись, господин Альтман.
– Так давай рассказывай, господин Юозас, как там было.
– Да нечего рассказывать, господин Альтман. Бастовали. Дрались. И с длинным носом домой вернулись. Хотели Урбонаса за глотку взять... Но за его правду конная полиция выступила, а за нашу – только жемайтийские жаворонки. Долго не побастуешь с пустыми кишками и пустыми руками. Только Пятраса Летулиса пробастовали...
– Худо, господин Юозас.
– Хуже и быть не может, господин Альтман.
– Что делать будем?
– А что посоветуешь?
– Ой, господин Юозас... будь я такой умный, давно бы сидел по правую руку от президента Сметоны.
– Пускай он на сухом суку повесится, холуй подрядчиков.
– Ой, чего от него желать, Юозас? Какое наше государство, такой и наш президент.
– Какое такое государство?
– Маленькое, господин Юозас.
– Кто тебе говорил?
– Я говорю.
– А ты попробуй, Альтман, его вдоль и поперек перейти. Пешком и не жрамши. Увидишь, какая маленькая наша Литва. Пропади она пропадом, какая большая. А ну ее к черту!
Кратулис проглотил последний дымок, растер между ладонями окурок и хотел было встать, но в эту самую минуту из-за угла появились Виргуте и Напалис.
– Папа?
– Где вас черт носит, сосунки?! – хотел рассердиться Кратулис, но сил не было, да еще Виргуте кинулась к нему на шею. – Зигмас где?
– Зигмаса там не было.
– Так где же он?
– А кто его знает, – ответил Напалис. – Он нас не спрашивается. Может, в Америку уехал, а может, в разбойники записался.
– Как ты с отцом разговариваешь? Может, в зубы захотел?
– Ладно уж, папа. Могу свои передние и по-хорошему отдать. Слыхал, тебе не хватает. – Напалис пошарил в глубоком кармане своих штанов и протянул ладонь с двумя зубами.
– Кыш, поросенок! – простонал Кратулис и смазал Напалиса по руке.
Зубы взлетели и больше на землю не вернулись. Кратулис уткнулся в плечико Виргуте, но слез опять не было.
– Господин Альтман, надо отцу настроение поднять, а то и он начнет меня лупить, как Кибис Дичюса... Ни за что, ни про что...
– О, майн гот! Когда это было?
– Только что, – объяснила Виргуте.
Оказывается, когда Кибис с работягами взобрался на вершину городища, Дичюс его и спросил: «А вы откуда взялись, ребята? С луны свалились?» Вот Кибис сходу и врезал ему по морде. Славная драка началась бы на городище, но шаулисы спрятались под юбками хористок, а бабы босяков к своим мужьям бросились.
– А дальше что? – в тревоге спросил Альтман.
– Дальше не знаю. Мы с Напалисом убежали папу искать. Папы среди мужиков не было.
– Не бойся, господин Альтман, – сказал Напалис. – Когда баба мужика обнимает, войну не начинают!
– А как там мои Рива и Пинхус? Домой еще не идут? Чего они там засиделись?
– Пинхуса не спрашивал, а Ривы не видал.
– Вашей Ривы у костра не было, – подтвердила и Виргуте.
– Как это не было? Она с братом ушла. Сказала – к праздничному костру.
– Ей-богу – не было!
– О, майн гот!
– Господин Альтман, хватит охать, – крикнул Напалис и, поплевав, хлопнул на подоконник денежку. – Мое золото. Твои селедка и водка. Разве не видишь, что у моего отца кишки марш играют?
Альтман даже не посмотрел на золотую монетку. Охая, исчез в корчме. Зато Кратулис уставился на капитал Напалиса и, будто не веря глазам своим, спросил:
– Откуда получил?
– Заработал.
– От кого заработал?
– От Анастазаса.
– За что?
– За свои зубы.
– Ты будешь мне отвечать, ужак, как человек, или нет? – посинел Кратулис, но Виргуте снова выручила брата – коротко и ясно рассказала историю этой маленькой монетки, а Альтман, вернувшись с заказом Напалиса, подтвердил верность ее слов и – неслыханное дело – предложил даровую выпивку. Не только предложил, но и сам рюмочку опрокинул, будто ягодку проглотил. И даже не поморщился. Вот так-так. Испокон веков никто не видал такого Альтмана.
– Что же с тобой случилось, господин Альтман? – разинул рот Кратулис. – В нашу веру перешел, или другая чертовщина?
– Ой, господин Юозас, разве я не отец, разве детей не имею, разве они меня не терзают?
– Не жалуйся, Альтман. Твои дети – ангелы по сравнению с моими.
– Я не жалуюсь, Юозас. Я только говорю – у всех родителей одна доля: вечно за детей боимся, а для них этот наш страх вроде пут на ногах.
– Что правда, то не ложь, – согласился Напалис.
– Кыш, поросенок! – крикнул Кратулис и, опрокинув полную рюмочку, зажмурился.
Альтман ждал, ждал, пока он проглотит. Не дождавшись, наполнил рюмочку и снова выпил первым.
– Никак хлопоты с твоими, Альтман? – спросил Кратулис, не на шутку удивившись. – Может, пока нас тут не было, стряслось чего?
– Лучше не спрашивай, господин Юозас. Лучше выпей на вторую ногу.
– Нет, Альтман. Говори, что у тебя на сердце лежит. Иначе глоток через горло не пройдет.
– Камень у меня на сердце, господин Юозас. Большой камень, но тебе его не скатить.
– Тоже мне беда, – встрял Напалис. – Дал бог курицу, даст и петуха. Чего еще надо, Альтман?
Кратулис хотел смазать сыну тылом ладони по губам, но Альтман поймал его за локоть:
– Погоди, господин Юозас. Почему ты, Напалис, мне худа желаешь?
– Почему худа, почему – не добра, Альтман? – ответил Напалис и запел:
Сидя за твоим столом
Мед и пиво дружно пьем!
– Штиль!
– Цыц, лягушонок!
– А ты, папа, не кричи, если ничего не знаешь. Ты лучше выпей за счастье Альтмановой Ривки с Гиршем из Таурагнай.
Кратулис повернулся к Альтману. Альтман был бледен и мелко дрожал. Придвинул рюмку Кратулису и совсем тихо сказал:
– Ой, не слушай, Юозас, своего сорванца. Выпей лучше за то, чтоб мою Риву бог просветил.
– А что, Гирш, насколько мне известно, парень неплохой.
– Ой, лучше бы он исчез, чем к ней лез, – простонал Альтман и, сжав кулаки, погрозил молодой луне, которая вот-вот должна была исчезнуть в стороне Шилай. – Я ему кудряшки вырву, как только он мне попадется!
– А толку-то? Твоей Ривке он будет хорош и лысый, как колено.
– Ой, Напалис, не говори так. – Альтман достал из кармана горсть мятных конфет и высыпал на подоконник. – Лучше конфетку пососи. И помолчи.
– Да что с моего молчания? Ривка – не курица. За ногу ее в комнате не привяжешь. Все равно за Гиршем побежит.
– Откуда ты знаешь, Напалис?
– Будто глаз у меня нету или сердца?
– О, Егова! – вздохнул Альтман. – Неужто стены моего дома продырявились? Или ты, Напалис, по-еврейски понимаешь?
– Фор-вос-мы-страдаем, дядя Альтман.
– Напалис, я больше не могу, – простонала Виргуте. – Я расскажу господину Альтману всю правду.
– Говори, раз так хочешь.
– Пинхус сказал нам, что ваша Рива сегодня ночью будет искать папоротников цвет с Гиршем.
– О, майн тот! Где он, этот мой Пинхус? Шкуру с него сдеру. Почему он мне ничего не сказал?
– Наберись терпения, господин Альтман. Вернется. Никуда не денется, – успокаивал Кратулис. – Давай лучше выпьем, чтоб хуже не было.
– Хуже и быть не может, господин Юозас.
– А ты попробуй, господин Альтман, в шкуре землекопа посидеть. Тогда поймешь, что такое настоящая беда.
Кратулис выпил без приглашения и стал уминать селедку, будто старый кот. Напалис смахнул в карман мятные конфеты и золотую денежку. Виргуте робко щипала ломоть хлеба и ела с наслаждением. И тут разорался, как черт, петух Чюжасов и разбудил все птичье царство. Весь мир животных. Даже бык Блажиса взревел в Рубикяй. Овцы разом заблеяли во всей округе. Коровы замычали. Какая-то розовость залила небо, и почему-то стало тревожно.
– Чуяло мое сердце беду, господин Юозас.
– Не бойся. Не пропадет твоя Рива.
– Спасибо на добром слове, – сказал Альтман и, вылив последние капли водки в рюмку Кратулиса, предложил выпить.
На сей раз выпили оба. Одновременно. И одновременно уставились на предрассветное небо. Куда же подевалась молодая луна? И откуда на юге появилась купа розовых облаков? А может, от водки у них в глазах рябит?
– Нету счастья на белом свете, Альтман, – вздохнул Кратулис. – Нету, не было и не будет. Потому наши мудрые деды и сказку выдумали про папоротников цвет. Чтоб хоть надежду на счастье оставить человечеству, чтоб не прошло проклятое желание жить, когда на нас большие и маленькие беды наваливаются, когда, кажется, пошел бы и удавился или прямо головой в омут Вижинты... Чтоб ничего не видеть, не слышать и не чувствовать больше. Пускай лучше рыбы или черви жиреют на твоем теле и крови, чем господин Урбонас или другой трутень.
– Папа, тебе пора баиньки, – прильнула Виргуте к отцу. – Ты уже пьян.
Вот когда умилился Кратулис. Сперва это умиление ножом полоснуло по сердцу, потом залило влагой глаза... Его дочка правду сказала. Чистую. А почему Кратулис пьян? Почему три рюмочки свалили его с копыт? Как старого боровика первые капли дождя, упавшие с неба?
О, Литва, отчизна наша,
Ты – не наша, ...
– Папа, пойдем домой.
– Да отстаньте вы от меня. Нету у вашего отца ни родины, ни дома. Альтман, дай мне в долг бутылочку. Дай, ради бога. Мне пора к Кулешюсу идти, с днем ангела поздравить. Пускай хоть он меня утешит. Пускай хоть раз сложит серьезную песню о пьяном добровольце, безработном и вдовом, отце целой сотни детей... Юозапасе Кратулисе.
– Папа!
– Кыш!
Хорошо, что появилась Розалия, скрестив руки под грудью, розовая и ясная, как утреннее солнышко, которое собиралось уже брызнуть лучами над Рубикяйским лесом, где все еще ревел Барнабас Блажиса.
– Иисусе, дева Мария! Ирод, болван!.. Умыться с дороги не успел, а уже пьян!
– Не твоя беда, Розалия. Ты за своим Йонасом смотри.
– Мой-то уже давным-давно под белой периной валяется.
– Вот и жмись к нему. Какого дьявола носишься, как угорелая?
– Да мой именинник малость ослаб, Юозапас. Я к Альтману прибежала, чтоб взять в долг силы дьявольской! – воскликнула Розалия и, вытащив из-под левой груди пустую бутылочку, поставила на подоконник. – Не поменяешь ли, Альтман дорогой, на полную?
Кратулис выпучил пьяные глаза. Насколько помнит, не было такого случая, чтоб Розалия по случаю именин своему Йонасу водку покупала.
– Ничего, ничего, Юозас. Пускай мой Умник, оказавшись в дураках, выпьет за здоровье своей бабы, за счастье всех наших босяков. Может, побыстрей заснет. Может, забудет все стачки и прочие напасти... Альтман, ты меня слышишь? Ты тоже слишком не переживай. Лучше выпей капельку. Сердце и мозги успокой. Твоя беда – это не беда. Дай господи, чтоб побыстрей Рива родила. Моя матушка, вечная ей память, говаривала – нет лучшего лекарства для дедов, чем внучата... Альтман дорогой, будь человеком, дай полную вместо пустой. Внеси моего Умника в свою черную книгу. После святого Иоанна долг вернем. Завтра же выгоню своего безработного к Крауялису или в Пашвяндре ромашку собирать. Альтман, ирод!..
Но Альтман даже головы не повернул в сторону Розалии. Альтман как зачарованный глядел на рассветное небо и даже не моргал, потому что красное облако уже карабкалось прямо вверх. Не оставалось ни малейшего сомнения, что это не обман зрения.
– Иисусе! Пожар?! – охнула Розалия, вместе с Альтманом уставившись на небо.
– Все может быть, – ответил Кратулис.
– Не казенный лес горит часом?
– Пускай его горит.
– У тебя в голове помешалось?
– Пускай горит! – рассвирепел Кратулис. – Пускай к черту катится вся казенная Литва! Пускай горит пожаром! О, Литва, отчизна наша, ты – не наша!..
– Иисусе! Вот ирод. Такая сушь. Побойся бога. Все леса с дымом пойдут. Где ягоды да грибы собирать будем? Где сухой хворост на зиму?
Вскоре голосом Розалии уже был полон городок. Вняв ее словам, Аспазия Тарулене вместе с Алексюсом побежала на колокольню и пустила в дело графскую висюльку. По команде Розалии мужчины схватили лопаты да топоры и уже ринулись бы вслед за ней на пожар, да Умник Йонас, в одном исподнем выбежав на дорогу, воскликнул будто царь Соломон:
– Розалия, остановись!
– Что скажешь, Йонукас?
– Это не лес горит.
– А что?
– Изолированный объект.
– По-человечески говори, ирод.
– Ну, скажем, хутор.
Только теперь у всех добровольных пожарных глаза открылись. И впрямь. Пожар не расширялся. Дым валил вверх из одного и того же участка Шилай. Освещенный лучами взошедшего солнца, дым похож был на мухомор, который вдруг проклюнулся из чащи леса вместе с клочьями мха, сосновой хвоей и корой.
– В Пашекщяй!
– В Напрюнай!
– Нет. В Пашвяндре!
– Хватит гадать! Побежали!
– Да нету смысла. Пока добежим – все равно сгорит.
– Тогда сунь обе руки в штаны, торчи тут и жди страшного суда, ирод! Мужики, бабы, дети! За мной!
Однако и на сей раз войску босяков не суждено было двинуться с места, потому что к корчме, задыхаясь и хрипя, прибежал Тамошюс Пурошюс:
– Господи! Люди, ратуйте! Кривасальская ведьма сбежала! – и, рухнув на колени, вытащил из-за пазухи алый платок Фатимы. – Вот что от нее осталось... Вот! Змеиный выползина!
– Чего теперь воешь, ирод, как волк, у которого хвост в прорубь вмерз?! Сбежала так сбежала. Бог ей в помощь. Надо было стеречь лучше, – со злорадством отбрила Розалия.
– Розалия, ради бога. Ты эти шутки брось. Я знаю – это твоя работа. Ты работяг на это дело натравила. Тебя одной из всех баб на городище не было! – заверещал Пурошюс.