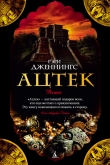Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– Гип!
– Гоп!
Доброе настроение росло, но скверный запах еще сильнее. Кибис обвинил Граужиниса. Граужинис – Петронаса. А умник Йонас – ветер, который, вдруг изменив направление, подул с того берега болота.
– Мейронас, выручай!
Выбрался Мейронас из канавы, свернул цигарку из собственного самосада и задымил по ветру. Вяли кусты, стыла болотная жижа, дохли лягушки, но дурной дух дым Мейронаса все-таки не перешиб.
Ни с того, ни с сего огромный ворон, будто черный флаг, взметнулся над кустами и, карканьем оглашая опасность, полетел в сторону Рубикяйского леса.
– Мужики!
На прогалине между кустами вырос простоволосый мальчик, и все узнали Напалиса. Напалис махал руками, подзывая к себе, не в силах вымолвить ни слова. Мужчины побросали лопаты и, возглавляемые Кратулисом, бросились к нему. А когда добежали, разинули рты. Забросанный клочьями моха лежал в трясине разбухший труп человека. Без головы. В куче тряпья. С расклеванной спиной.
До самого вечера босяки не работали. Курили и ждали, пока вызванная Напалисом кукучяйская полиция под руководством Людвикаса Матийошюса выудила обезглавленный труп из трясины, засунула в мешок и увезла. В Утяну. На расследование.
Дурной дух скоро испарился из болота, зато появилась дикая, непонятная тревога, словно кто-то подглядывал за ними из ближайших кустов. А тут еще ворон, вернувшись из леса, стал носиться по небу, печально каркая, что злые люди отобрали его собственность.
– Кыш, гадина! Кыш, костлявая, а то поймает тебя Напалис и в цирк запрет. Придется тебе кадриль танцевать, – попробовал поднять настроение себе и всем Рокас, но на сей раз ему не везло, потому что все думали только об этом безголовом человеке, который нашел свой конец в самом жутком месте болота, куда приползают околевать лишь дряхлые коты со всей округи. Ведь, кажется, никто из окрестных жителей без вести не пропадал, если не считать Пятраса Летулиса. Вспомнили мужики и про прошлогодний случай, когда Тамошюс Пурошюс задержал раненого разбойника, а другого выпустил из рук, потому что, как говорил его сын Габрис, не хватило у него рук и сил с двумя сразу сражаться. Вот и не верь сказкам ребенка, которые тот рассказывал кукучяйским жителям, гордясь своим отцом...
Слово за слово, и загорелась фантазия босяков, лопаты падали из рук, подгибались ноги. Да, да! Не иначе. Как же иначе понимать, почему Пятрас по сей день ни через своих, ни через чужих привета не передает? Что теперь думать Стасе, которая его ожиданием жива?
– Стасе туда-сюда. Стасе молодая. Забудется через год-другой... С Тарулисом.
– Забудется, как забылась Валюнасова Веруте в объятиях Аукштуолиса!
– Дело говоришь.
– Лучше скажи, что делать мамаше Пятраса, которая в Палабаноре пластом лежит...
– Хватит вздыхать! Пошли работать!
– Эх, ребята, вот бы так выпить по случаю субботы, вот бы промыть мозги от дурных мыслей! – вскричал Альбинас Кибис.
– Чего хнычешь, орясина?! Давай монету, водка найдется!
– А откуда монету взять, Умник Йонас, раз моя баба до последнего цента карманы подмела? Может, говорю, ваши бабы лучше?
– У всех бабы одинаковые, Альбинас. Хорошо бывало, когда работали за сотни миль...
– Может, ты, Кратулис, центами богат? Ты у нас счастливчик. Вдовец!
– Пошел ты, знаешь куда, Альбинас!
– Испортился наш Альтман, ребята. В долг больше не дает!
– Это тоже дело рук наших баб, Альбинас.
– А ну их к лешему! Никогда не женись, Рокас. Попомни мое слово. Работяге надо одному на свете жить.
– А может, мне попытать счастья у Альтмана, пока собственная баба не душит? – сказал Рокас. – У меня с Альтманом счеты не сведены после крестин Каститиса. Мне он в долг поверит. Никуда не денется.
– Так чего тут торчишь? Жми. Неси. Успокой сердца. Мы за тебя поработаем. Ты за нас отдохнешь. Мы выпьем – да к своим бабам, ты к чужим девкам. Только запомни, Рокас, сегодня у Альтмана – шабаш! Говори ему добрый вечер через заднюю дверь.
– А что мне папенька, Умник Йонас, скажет?
– Лодырь ты, сынок. Лентяй последний.
– Каким меня сотворил, таков я и есть. Лучше бы посоветовал своей крови и плоти, что делать: тебя одного слушаться или их всех?
– Да катись ты к черту!
– Слышите, ребята, с каким благословением иду! Запишете ли в братство землеконов Чюжаса, которого родной отец проклял?
– Запишем, не бойся. Только водки достань да приведи сюда Йонаса Кулешюса, Иоанна Крестителя всех пьяных босяков.
– Бегу.
Поплевал Альбинас Кибис на свои огромные ладони, а вслед за ним – все остальные, и принялись копать канаву. Умник Йонас-то копать не переставал...
– Гип!
– Гоп!
И чем яростнее вкалывали, тем больше свирепели, потому что Рокас все не возвращался и не возвращался.
– Ничего не выйдет, Умник Йонас.
– Так нельзя!
– Придется твоего сыночка ремнем крестить... штаны снимем, да ума прибавим!
– Бог в помощь. И я вам посодействую, – ответил Умник. – Не нахожу управы, ребята, на этого битюга. И зубами и рогами меня обогнал.
– Весь в мамашу... Сочувствую тебе, брат, – сказал доброволец Кратулис.
Прошел час. Два. Злость испарилась. Вернулась тревога. Может, медянка его ужалила? Может, нет больше нашего Рокаса среди живых? А мы-то его, несчастного, последними словами честим! Солнце-то вот-вот зайдет!
Полезли было землекопы из канавы помочь Йонасу Рокаса искать, но он сам, проклятый, с горки закричал:
– Мужики, погодите! Я живой!
Прибежал Рокас с четырьмя бутылочками да двумя селедочками в руках. Йонас Кулешюс, дескать, прийти не может, Марцеле от Пранукаса не отпускает. Обязанности крестителя передает Юозасу Кратулису, как старейшему из всех босяков, если не считать Умника Йонаса. Так что выпейте, мужики, по словам Горбунка, за здоровье Рокаса Чюжаса, чтоб легко ему было на земле жить и в пекле маяться, а Костантасу Крауялису, благодетелю нашему, да суждено будет в раю болотную жижу рыть и конца болота не находить. Вовеки веков аминь!
– Поросенок, ты уже нагрузился?
– Прости, папенька. С Кулешюсом в сенях одну бутылочку раздавили, – и, стукнув бутылочку о бедро, вышиб пробку и сунул горлышко отцу под нос.
– Что с тобой поделаешь... – вздохнул Умник. – Будь человеком, сынок... Не будь вором и не будь артистом... И, отмерив ногтем свою долю, запрокинул бутылочку.
– Какой есть – такой есть! Пейте, землекопы, за своего крестника и Пятраса Летулиса, моего друга! Он живой! Чует мое сердце!
– Тс-с! Не кричи! Бабы услышат!
– Дело говоришь. Устроят нам головомойку!
– Будь здоров!..
– Будь силен при лопате и при девке!
– Не приведи господи заболеть!
– За друга головой ручайся в беде!
– Зря словами не кидайся, что думаешь – держи за зубами.
– За твое счастье, землекоп свежеиспеченный!
– А что такое счастье, дяденька?
– Не знаю, братец. Только присказку своего отца в голове держу: «Счастлив тот, кто счастья не ищет».
– А мой папаша поговаривал: «Кому счастье суждено, тот и на печке найдет».
– Рокас, больше не пей!
– Буду, папа. Мой сегодня праздник!
– Пьют волы, пока не напьются, пьют землекопы – пока не выпьют!
– Ух ты, хороша!
Путешествовала бутылочка по кругу, пахло болото рожью...
Когда кончилась водка, иссякли пожелания, мужики снова вспомнили про обезглавленный труп. И в этот именно миг из кустов вылез человек с метлой на плече.
– Бог в помощь!
– Подходи поближе, добрый путник!.. Тьфу! Да это же Тамошюс Пурошюс...
– А что? Может, одного пьющего безработного вашей компании не хватает?
Как-то не по себе стало босякам. Затихли все.
– Чеши мимо, Иуда!
– А кого я выдал, Рокас Чюжас?
– Не выдал, так выдашь.
– На воре шапка горит? – Пурошюс вдруг сел верхом на метлу и заржал: – И-го-го! Не бойся, ворон ворону глаз не выклюет.
У Рокаса от злости потемнело в глазах. Сам не почувствовал, как закричал:
– Много ли золота Кернюте цапнул, раз такой веселый?
– Столько же, сколько ты серебра Блажиса – из проруби Микасе!
У Рокаса Чюжаса дух захватило, а Пурошюс, раззадорившись, валил дальше, подражая голосу Бенедиктаса Блажиса:
– Не огорчайся, сыночек! И краденое золото, и краденое серебро – один черт. Может, поддержишь мне компанию? Может, поскачем вдвоем на одной кобыле сегодня в пекло? Видишь, как моя кобыла вертит хвостом? Тпру, ведьма!
– Чего ты хочешь от нашего Рокаса, старый вор?
– Совет хочу вашему крестнику дать, Альбинас, чтобы ближнему своему не завидовал!
– Скачи на метле, черт, пока зубов не проглотил!
– Не пужай, Альбинас! Не будет своих зубов – чужие вставлю. Стану, как господин Крауялис. Много золота во рту, много песка в заду!
– Раздавить тебя мало, полицейская гнида! – закричал Кибис, давясь смехом.
– Воля твоя, Альбинас. Мое золото вам райские врата откроет, мой песок – болото удобрит. Не завидуй господам, паренек... Завидуй птицам небесным... – голосом Крауялиса просипел Пурошюс.
– Ах, пропади ты пропадом! Вы слышите, мужики? Он тут за нами целый день шпионил!
– А что еще делать мне, который носит прозвище полицейской гниды и Иуды? Ничего запретного не услышишь, ничего тайного не увидишь, вот и умрешь глупым землекопом, как вы все. Один только Пятрас Летулис знает, где счастье искать.
– Так может ты, хорек проклятый, объяснишь нам, дуракам, что такое счастье?
– Чего не могу, того не могу... Прошу простить. Только одну присказку могу передать от своего папаши, вечный ему упокой...
– Какую?
– Худое счастье в могиле!
– Спасибо, Пурошюс, и за это. Подходи! Получишь глоток водочки!
– Благодарю! Я еще жить хочу.
– Ага! Боишься? Совесть смердит?
– Совесть только у покойников смердит, Альбинас.
– Может, уже пронюхал, кто этот безголовый был?
– Один большой барин, которого в прошлом году Пятрас Летулис лопатой окрестил и мне задарма отдал. Если б знал, какой его крестник непоседа, ни за что бы его не брал, сейчас бы не блевал.
– Убирайся к черту со своими загадками.
– Не бойся, Альбинас. Не ты, так Рокас мою загадку угадает. Он парень шустрый. Сын Умника Йонаса! И-го-го!
И ускакал со ржанием Пурошюс по болотным кочкам, топча осоку. Прямо на Горелую горку. Немолодой уже, а проворство, как у зайца. Вот что значит сызмальства воровским ремеслом промышлять... И язык у него подвешен, и котелок варит. Был бы грамотен, хоть сейчас в премьер-министры назначай. В первую же ночь государственную казну прикарманил бы и Сметону ликвидировал. Зачем этот Антанас Вильнюс да Клайпеду продал, а ему, Тамошюсу, денег не отдал... Утер бы Пурошюс нос господину Вольдемарасу, который в прошлом году переворот делал, да сам обделался...
– Мужики, меня тошнит от ваших речей, – простонал Рокас, белый как бумага.
– Перебрал, поросенок!
– Не твое дело, папенька. Я в кусты пошел.
– Никуда ты один не пойдешь. Хочешь в болотном окне утонуть?.. Вместе домой пойдем. По дороге поблюешь.
– Отстань! Я пойду, куда хочу.
– Ребята, помогите мне сына взнуздать!
– Рокас, запомни святой закон землекопов – один за всех, все – за одного! Куда мы – туда и ты.
– Идите вы к черту! Не хочу, – кричал Рокас с пеной у рта, пытаясь вырваться из плена босяков, но где уж ты, козлик, потрепыхаешься перед матерыми быками.
Схватили его мужики под мышки, меняясь, домой приволокли и, отдав в руки перепуганной матери, голосом Альбинаса Кибиса заявили:
– Прими, Розалия, своего сына и нашего крестника. Хорошо работает, хорошо и пьет. Хорошим землекопом будет.
– Прости, мама! Я погиб! Прости!
– Да что вы с ним сделали, ироды?
– Мама, они не виноваты. Я виноват! Меня спасай! Я тону, мама. Тону!
Больше Рокас ничего не помнит, потому что расплавленная жижа стала засасывать его. Напряг Рокас все силы и побрел к берегу, к высокой рубикяйской ели... Ноги были слабы, а жижа – клейкая. Черный ворон каркал на верхушке ели. Кто-то звал его по имени, то близко, то далеко. Болото полнилось голосами и птичьим гомоном. Ни на минуту нельзя было остановиться, перевести дух... Жижа затягивала вглубь. И он шел со спекшимся языком, зажмурившись, стиснув зубы. Вперед, вперед, пока не узнал голос Виргуте и, открыв глаза, не увидел ее самое.
– Тс-с... Что слышно хорошего?
– Ничего хорошего.... Ты третьи сутки бредишь.
– Что еще?
– Ты только не испугайся.
– Говори смело.
– Позавчера наш Напалис в Рубикяй Мешкяле и Заранку зарубленных нашел. Насмерть. На участке Блажисов. Под елкой.
– Да будет тебе.
– Честное слово. А сегодня утром на верхушке той же самой елки наш Напалис кожаный кошель нашел с человеческой головой.
– Сказки рассказываешь.
– Во имя отца и сына, – перекрестилась Виргуте. – Во рту у головы золотой зуб. Напалис все-все Гужасу передал.
– Что еще?
– Тебе еще мало?
– А вора Напалис поймал?
– Еще нет... Но он поймает. Вот увидишь. Пить хочешь?
– Давай.
Рокас напился, закрыл глаза и больше не заснул.
8
Жуткое убийство и не менее ужасная находка в Рубикяйском лесу прославили Кукучяй не только в Восточной Аукштайтии, но и по всей Литве. Впервые за двадцать лет независимости сюда прибыл корреспондент из Каунаса. Напалиса сфотографировали под исторической елью и похвалили за образное освещение событий. Мало того, волостной старшина Дауба, желая приобрести популярность в государственном масштабе, подарил Напалису пол-лита, изрекая при этом исторические слова:
– На́ тебе, сынок добровольца, за находку!..
Конечно, не это главное. Куда важнее, что начальник Утянского уезда господин Страйжис, ставший по особому распоряжению президента республики одновременно председателем комиссии по расследованию преступления и по организации похорон, прибыл на похороны долголетнего начальника кукучяйского участка полиции Болесловаса Мешкяле со своей юной женушкой Юрате, глубокое декольте траурного платья которой до крайности взволновало не только мужчин волости, но и женскую половину населения. Двойняшки Розочки подсчитали, что викарий Жиндулис во время мессы поворачивался к молящимся с „Dominus vobiscum“[27]27
Господь с нами (лат.).
[Закрыть] в три раза чаще, чем установлено папой римским, и поэтому после молебна, когда общество толпилось вокруг костела, заявили во всеуслышание с главной лестницы костела от имени всех мирских монашек:
– Каков покойник, такова и молитва!
Серьезность и скорбное настроение вернулись ко всем лишь во время похоронного шествия, потому что первую половину дороги очень уж заунывно играл оркестр утянских пожарников и еще заунывнее запели хористы Кряуняле, когда процессия стала взбираться на горку и люди как на ладони увидели Пурошюса со сверкающим распятием, плещущиеся флаги, гроб и все тринадцать венков. Кстати, первый венок – от комиссии по похоронам – несли Микас и Фрикас. На его ленте было записано: «Покойся в мире. Ты сделал свое, герой. Скорбящая полиция Литвы».
Последний венок от кукучяйских шаулисов несли Анастазас с Юозефой Чернене. На этой ленте – золотая надпись: «Будем поминать тебя в своих молитвах. Ты останешься жив в наших делах».
Первым говорил над могилой Клеменсас Страйжис – громогласно и торопливо, то и дело поглядывая на часы, чтобы не опоздать на похороны Юлийонаса Заранки, на которых ему предстояло произнести точно такую же прощальную речь, только в более медленном темпе и с большим удовольствием, вознося до небес заслуги покойного перед родиной и проклиная шайку убийц, которой, по его глубочайшему убеждению, руководит местный головорез Пятрас Летулис... Пусть горит под его ногами литовская земля, а нас всех, людей доброй воли, да объединят светлые, патриотические идеалы Болесловаса Мешкяле, Юлийонаса Заранки и Зенонаса Кезиса и их бесстрашная война против красной гидры коммунизма, наймиты которой пытаются задушить нашу полицию, церковь и прочие учреждения, поддерживающие порядок, безопасность и дружбу между сословиями...
Поскольку Тамошюс Пурошюс за ним громко сопел и сморкался, господин Страйжис кончил свою речь в твердой уверенности, что генеральная репетиция удалась и спектакль над могилой Юлийонаса Заранки в Утяне будет пользоваться успехом.
Второй оратор – волостной старшина Дауба вызвал шиканье, потому что, залив за галстук для храбрости, ни одного слова не мог путно произнести и в конце своей речи назвал покойного «многолетним полицейским теленком»...
Зато когда викарий Жиндулис, продолжая мысль господина Страйжиса, стал призывать всех по примеру покойного умереть во имя святого долга, первой заплакала Юзефа Чернене. Вслед за ней – Эмилия Гужене и другие хористки.
Только бабы босяков не пустили слезинки даже когда викарий, завершая свою проповедь, пожелал покойному царствия небесного, а Розалия от имени всех баб послала к небесам историчесий вздох:
– И рад бы в рай, только грехи не пускают...
– Какая грубиянка! – охнула госпожа Страйжене и, поглядев большими карими глазами на викария, вслух спросила у своего седовласого супруга: – Папочка, почему я до сих пор не знала, что в нашем уезде есть такие просвещенные ксендзы?
– Тише, цыпленок.
– Папочка, он поразителен. В Утяне такого нет.
После этого незабываемого диалога хор Кряуняле грянул «Вечный упокой»... Викарий сиял, как мальчуган, впервые посаженный на коня, а Чернене рыдала громко, как девочка, потерявшая любимого гусенка.
Только теперь бабы Кукучяй хватились питомицы Мешкяле графини Мартины. Однако настоятелева Антося их сразу же успокоила. Оказывается, графиня сегодня утром тяжело захворала и заботами своего крестного была увезена к господину Фридману.
– Выслушал всевышний молитвы папаши Бакшиса. Покойся в мире, Мешкяле, после трудов земных! – этими словами Розалии кончились похороны, которые, как выразился Горбунок, записали самую светлую страницу в историю кукучяйского участка полиции.
После короткой поминальной пирушки в доме шаулисов начальник уезда господин Страйжис, в сопровождении волостных господ, уселся в свой автомобиль и увез в Утяну не только свою жену, но и викария Жиндулиса на заднем сиденье.
Вернулся викарий домой лишь трое суток спустя. Едва живой, как тетерев после свадьбы. Вернулся и заперся в своей комнате. Прибежавшая стремглав Чернене никак не могла к нему достучаться и поэтому обратилась к Кряуняле, спрашивая, когда викарий сможет снова приступить к репетициям дуэтов.
– Покамест я бы посоветовал вам, госпожа Юзефа, перейти к ариям.
– Почему?
– Ксендз викарий смертельно охрип.
– О, господи! Почему?
– Каков сон ночной, такой и труд дневной, госпожа Юзефа. Мужской организм – не железный. Запомните, ксендз викарий – юнец по сравнению с нами. Его голосовые струны мало закалены.
– Господи, так что же мне делать?
– Я, кажется, сказал.
– Мой голос слабоват для арий.
– Посоветовал бы поискать другого партнера.
– Покажите, где он валяется.
– Вот он, стоит перед вами на коленях. Органист, конечно, не ксендз. Но все-таки кое-что в этом проклятом захолустье, где талантливый человек может сдохнуть со скуки. Тем более вы, мадам, обладающая такими из ряда вон выходящими вокальными данными.
– Господи, что вам стрельнуло в голову?
– Откровенно говоря, осточертело мне мучиться с глупыми хористками. Хочу пожертвовать собой ради одной интеллигентной женщины и получить эффективный результат.
– А кто нас будет корректировать?
– Вы сомневаетесь в моих способностях? Ах, мадам, ведь было время, когда, очарованная талантом Беньяминаса Кряуняле, за кулисы театра примчалась жена самого директора департамента внутренних дел и обняла ноги Хозе... Только поэтому сгорел знаменитый тенор каунасской оперы Беньяминас!.. Его жизнь и карьеру погубил старый супруг этой молоденькой змеи. Очутился юный Хозе в провинции, увяз в тине, спился, по девкам избегался... Но не умер еще! Он жив, госпожа Юзефа! Он еще покажет, на что способен. Только протяните ему руку, помогите встать на ноги, вместо того, чтобы мучиться с этим балбесом в сутане, лишенном голоса и слуха. Мы с вами, дружно взявшись за руки, еще можем бросить на колени мир и умереть на сцене во имя искусства...
Беньяминас Кряуняле обнял толстые чресла госпожи Юзефы и затянул финальную арию Хозе. Каскадами. Потом поднял ее и понес на руках, умоляя сказать одно лишь слово – «да» или «нет».
Хотя от Кряуняле и несло перегаром, госпожа Юзефа была ошарашена его трагической биографией, его талантом и артистизмом. После долгих стонов и мольбы она сказала «да...» и заплакала в кровати Кряуняле, словно Пенелопа, дождавшаяся своего Одиссея из дальних странствий... Одна беда, Одиссей не понял своей Пенелопы. Приносил ей на ложе церковное вино, бутылку за бутылкой, поил и сам пил, то утопая в воспоминании, то демонстрируя бренные останки своего голоса и частенько пуская «петуха», то проклиная Кукучяй, где процветают темнота, лицемерие, распутство, где тебе приходится довольствоваться чужими объедками. Пардон! Где лишь один честный художник, да и тот сапожник горбатый... И только одна была целомудренная, поэтическая личность... И ее самое Жиндулис погубил. Что осталось Беньяминасу Кряуняле? Какого рода смерть избрать? Физическую или духовную? Кто ему посоветует? Кто настолько мудр?
– Господи, какой вы слабый... Тсс... Викарий услышит!..
– Пардон. Викарию – двадцать пять, а Беньяминасу Крауняле, если прибавить еще двух викариев, было бы ровно сто! Посмотрим, что викарий запоет, дождавшись моих лет. Он сопляк передо мной. Сопляк! Он сипнет после трех ночей.
– Тс! Тс, дорогой. Я вас прощаю. Выпьем. Вы меня не поняли. Викарий...
– Викарий – нуль передо мной. Он моего мизинца не стоит.
– Господи, как вы самолюбивы, Беньяминас. Нам с вами непросто будет ладить.
– А с ним легко было? Легко? А? Ха-ха! В постельке-то легко! Зато на хорах вас седьмой пот прошибает. Он нищий передо мной. Сапог. – И органист снова пустил свой тенорок к потолку так, что у госпожи Юзефы в глазах потемнело. – У твоего викария пупок бы развязался, а господин Кряуняле еще может! Может! Может! Так что выпьем за его талант, госпожа Юзефа, или катитесь к черту. Кряуняле будет пить в одиночку, пока не пропьет рассудок, совесть...
– Хорошо, дорогой. За тебя, Беньяминас. За наше будущее! Да будет проклят этот ксендзовский слизняк, карьерист, тряпка!.. – плакала госпожа Юзефа, пила сладкое вино, успокаивая себя и Кряуняле, пока оба, погрузившись в минорные мысли, не заснули.
Приснилась госпоже Юзефе ночь накануне дня святого Иоанна, дуэт, овации. Было весело. Много цветов было. Юзефа лежала на лужайке, обрывала лепестки ромашки и шептала: «Любит, не любит, плюнет, поцелует...» Когда осталось сорвать последний лепесток и сказать: «К сердцу прижмет!» увидела, что по цветку ромашки ползет полевой клоп.
Охнула госпожа Юзефа и проснулась. Из полумрака глядели на нее дуло револьвера и знакомые глаза.
– Перекрестись, змея! Ты умрешь раньше, он – потом, – голос Чернюса дрожал, а еще больше – рука с оружием.
– О, господи! Виталис! Не дури. Между нами ничего не было. Мы репетировали дуэт из «Кармен»... Хотели, чтобы натуральнее получилось. Для вечера на городище. Устали, задремали.
– Не ищи дураков! Объясняться будем на том свете! Я тоже умру. Будь спокойна. Юзефа, ты меня слышишь? Перекрестись, сука, по-хорошему, или... Эй, свидетель!
– Я здесь!
– Благослови их обоих! Мне надоело ждать.
Юзефа взвизгнула, лишь теперь увидев у окна Жиндулиса. Спиной к кровати.
– Распутник! Шантажист! Иуда! Где твоя совесть?
– Вот видите, господин Чернюс. Я говорил – зря вы меня сюда притащили. Она будет обвинять других, только не себя. Такая уж у людей психология...
Тут проснулся Кряуняле и разинул рот, услышав, как его коллега самым спокойным образом советует госпоже Юзефе броситься в ноги мужу и умолять о снисхождении, а господину Чернюсу милостиво простить ее во имя всеобщего блага, во имя нации... Господин Страйжис был прав, когда призывал на кладбище ко всеобщей консолидации... Хватит трупов в Кукучяй. И уж никак нельзя поднять руку против самого себя – командира отряда шаулисов.
– Ладно. Согласен. Я остаюсь. Но этих выродков унесут отсюда ногами вперед. Чтобы мне умереть на этом месте!
– Пардон! А меня за что?! – крикнул Кряуняле, выпучив глаза. – Я же в своей кровати, кажется! Не в вашей! Не я, а она сюда пришла и меня совратила! Я же художник, черт возьми! Не педагог! Прошу надо мной не измываться. Здесь я хозяин! Здесь мое все! А свою жену можете отсюда забрать. Я не держу. Ведите к себе домой и делайте с ней, что хотите. Ваше святое право!
– И я бы так сказал, господин заведующий, – вставил викарий. – Здесь не место для кровавого сведения счетов. Я бы на вашем месте временно воздержался.
– Не могу! Мне стыдно за нее! Я виноват перед вами, викарий. Да будет вам известно – до этой минуты я подозревал вас, думал, что вы – любовник Юзефы...
– Да простит вас господь.
– Страдал я, пил, скрепя сердце. Мне казалось: все-таки с ксендзом... Кое-что. Романтика... Боже, а тут? С простым органистом, выдоенным хористками. Тьфу!
– Виталис, поверь, между нами ничего не было, – прошептала Юзефа, стоя на коленях в постели. – Он бессилен. Он выдохся!
– Это вы зря, госпожа Юзефа. Вас лично я могу похвалить, хотя и не таких имел.
– И я так считаю. Кому-кому, а вам, госпожа Юзефа, следовало бы помолчать, – подхватил викарий, тем пуще ранив самолюбие Кряуняле.
– Старая проститутка! Пардон!
– Виталис, дорогой, эти поделцы сговорились! Они хотят унизить меня в твоих глазах. Они ставят на карту наше светлое будущее... Пристрели их обоих! Умоляю! Останусь в долгу перед тобой навеки!
Викарий отпрянул от окна:
– Господин заведующий, моя миссия окончена. Я не позволю пьяной женщине издеваться надо мной. Я устраняюсь.
– Стасялис, будь человеком, – крикнул Кряуняле. – Не оставь соратника в беде! Один против двоих не устою! Чует мое сердце, они меня приговорят и расстреляют.
– Замолчи, старый потаскун, – сказал викарий в великом возмущении. – Я проинформирую каноника. Завтра ноги твоей здесь не будет!
Кряуняле крякнул:
– Ах вот как! Тогда стреляй, господин заведующий, в нас обоих. Только сперва в него, а в меня – потом. Я хочу видеть, как этот негодяй будет корчиться, отдавая богу душу.
– Виталис, стреляй!.. Ты угадал. Я была романтиком!.. – взвизгнула Юзефа. И вдруг, обнажив белоснежную грудь перед викарием, торжественно сказала: – Падай на колени и признавайся, фарисей, сколько раз со мной превращался в младенца-сосунка! Сколько раз, положив здесь голову, обещал сбросить из-за меня свое черное платьице и бежать, бежать со мной... в джунгли, в Америку. И я верила, дура! Виталис, он не достоин шнурки завязывать на твоих башмаках!
– Напрасно жалуетесь, госпожа Юзефа, – сказал Кряуняле. – Вы же не малолетка. Все мужики Америку обещают, пока свое не получают... Так уж сотворил нас господь. После нас – хоть потоп...
– Замолчи, пропойца!
– Пардон! Я обещал вас сделать солисткой. Но разве это возможно? Положим, у вас, госпожа Юзефа, и впрямь есть голос. А где же слух? Я не виноват, что слон вам на ухо наступил. И не мечтайте спеться со мной... Стасис Жиндулис хоть такт чувствует. Господин заведующий, я прощаю викария за предательство. Предать человека перед лицом смерти – весьма человечно. Это во-первых. А во-вторых, вспомним молодость Стасиса. Пардон, он годится всем нам в сыновья... Где была ваша совесть, госпожа Юзефа, такого поросенка с пути истинного сводить? Где была ваша голова его россказни слушать? Я прошу оправдать его. У него еще вся жизнь впереди. Он еще сто раз будет ошибаться и на ошибках учиться. Так что же нам мешает, господа, устранить это недоразумение и великодушно амнистировать Стасиса? Давайте вспомним, господа, что мы – светочи этого захолустья. На нас смотрит чернь. Какой резонанс будет после такого расстрела? Как вы докажете свою правоту без свидетелей? – Кряуняле выудил новую бутылку вина из-под кровати и весело крикнул: – Господа, давайте относиться к жизни по-философски! Что было, то сплыло. Давайте выпьем за наше не омраченное тенями будущее, за мир и любовь во всем мире! Ведь не зря Христос являлся на землю. И не зря судьба нас всех свела. Проявим же благородство. Адамов – три штуки. Ева всего одна. Змий искусил ее. Но она покаялась в своем грехе и готова вернуться в лоно семьи. Чего же еще надо? Разве не наш долг протянуть руку падшей? Разве не ведомы нам святые слова: «Слабость имя твое, женщина»? Господин Чернюс, я вам по-хорошему завидую. Вам улыбается счастье помириться с любящей вас Евой. Может ли быть что-нибудь приятнее в сей юдоли плачевной? Викарий, братец, воздень свою святую десницу и благослови семью господ Чернюсов! Да будет она с этих пор тверда, как камень! – И, ударив кулаком в донышко бутылки да выдернув зубами пробку, Кряуняле уже разливал вино в бокалы, приглашая сесть за стол или даже на кровать, где кому удобнее – и устроить пир горой... Спрашивал у викария, почему тот так задумчив. Мысли тяжелы, или святая десница тяжела?..
Оба супруга, одурев от затейливой речи Кряуняле, уставились на викария с тайной надеждой, но тот, подняв свою десницу, заслонил ею глаза:
– Да простит вас всех бог. Прошу мириться. Прошу пить. Но честь ксендза оплевать не позволю. Ни блудливой женщине, ни пропившему свою совесть старому холостяку. Господин Чернюс, вы будете свидетелем на суде каноника. А теперь прошу меня отпустить. Настал час читать мой требник.
– Стасялис, побудь еще! – крикнул Кряуняле отчаянно, словно утопающий. – Из лужи сухим не встанешь. Умрем мы оба с Юзефой, но умрешь и ты. А судом каноника меня не стращай. У меня тоже есть свидетель. Господин заведующий, я, с вашего позволения, кликну батрака настоятеля Адольфаса. Он, по моей просьбе, дежурил на чердаке того дома и наблюдал в щель за Стасисом в интимные минуты... Я-то чувствовал, что Стасис когда-нибудь дойдет до ручки и начнет искать виновных. Такова уж натура у этого человека... Ах, господи милосердный. Если здраво рассудить, то зачем тебе, Стасис, понадобилось нас выдавать? Ведь ничего худого не случилось бы. Ничего. Серые будни перед этим и после этого. Господин заведующий, Адольфас вам расскажет все с мельчайшими подробностями. Я сейчас!
– Стой! – рявкнул Чернюс и, ударив рукоятью револьвера Кряуняле по загривку, швырнул его на колени у окна.
Из кровати выкарабкалась Юзефа, вцепилась в грудь викария, будто проголодавишаяся кошка, и заверещала:
– Я не отдам тебя этой уездной шлюхе! Виталис, дорогой, убивай нас обоих! Пускай этот пьяный одер останется свидетелем!
– Убью!..
– Мы не возражаем. Мы были счастливы... Все страйжисова лисица испортила. Стасис, признавайся, будь мужчиной, хотя бы перед лицом смерти.
– Отстань, безумная! – взвизгнул викарий и толкнул Юзефу туда, где корчился Кряуняле. – Господин Чернюс, кончайте комедию! Разве не видите, что это чистая истерика?.. Сама не знает, что говорит и что делает. Выведите ее на свежий воздух, пускай к ней вернется рассудок.
– На колени! – сказал Чернюс викарию, приставив револьвер к груди. – Раз, два...