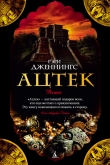Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
14
Всю ночь просидел Напалис возле барана. И утешал, и гладил, и целовал его. Смочив слюной глину, залепил его рану, зиявшую под ухом. Все было напрасно. Черная жидкость текла струйкой, пузырилась... И никак не мог понять Напалис, откуда столько ума в бараньей голове. Тот все вздыхал, не переставая. Человечьим голосом. И человечьими глазами смотрел на Напалиса. Не знал Напалис, что ему делать, куда деваться, как разделить мучения барана, хотя и его сверлила боль. В паху, куда ударил ногой этот жеребец в штанах с красными лампасами... А тут еще Черныш, обидевшись, что Напалис за какого-то барана с ума сходит, кружил вокруг и злобно мяукал... Пока настоятелев Нерон, прибежав сюда, не отогнал его и не завилял хвостом перед страдальцами. Напалис обнял собаку за шею, привлек к себе и заплакал, смешивая ласковые слова с проклятиями.
– Что мне теперь делать, Нерон?..
Нерон понюхал голову барана и тут же все понял. Точно такую же душистую пулю и он носил в своем левом плече. Много лет назад всадил ее ему, Нерону, тот самый двуногий зверь, которого кукучяйский люд кличет Мешкяле. Ах, дитя мое, нет на собачьем языке такого слова, который описал бы, как ненавидит он этого лютого зверя и как жалеет вас обоих... Поэтому, гневно прорычав в сторону Пашвяндре, откуда доносился сладковатый запах ромашки, Нерон стал лизать рану барана и соленую щеку ребенка. Как плохо, что своим ласковым языком он не может прикоснуться к сердцу Напалиса. Точно так же мучился Нерон после пасхи, когда ночи напролет сидел у постели настоятеля Бакшиса и слушал его стоны. Слава богу, со вчерашнего дня здоровье приходского пастыря вроде бы пошло на поправку. Хозяин впервые перекрестился и посмотрел с благодарностью на распятие. Хотя, если говорить начистоту, чудо сотворил не господь бог, а кривасальская колдунья в красном платке, которая принесла ему ночью кипу писем, благоухающих жасмином графини Ядвиги. Стоит ли удивляться, что лицо больного тут же озарилось неземным светом, и Антосе, повинуясь взмаху его руки, высыпала в ладони Фатимы немалую горсть золотых катышей, которые сестры Розочки, будто пчелки мед, уже много лет таскали в железный улей настоятеля?.. Вот оно как, дитя мое. Вот так исподволь возвращается покой в дом кукучяйского настоятеля. Он вернется к жизни. Этой ночью он спит как убитый, и Антосе впервые выгнала Нерона за дверь, чтобы пес побегал на воле, забыв о тяжких заботах... И нате вам. Едва пробежался самую малость – новые беды. Ведь не закроешь глаз, не пронесешься мимо. Стоны Напалиса раздирают сердце. Ребенок ждет чуда. Да исполнится его мечта. Проснись, бедный барашек. Проснись!..
И лизал Нерон щеки, руки и ноги Напалиса, пока не нагнал на него сон. Поднял голову и увидел, что первые сполохи зари уже покрасили в розовый цвет башню костела. Ах, как быстро кончилась ночь, какое душистое и живительное настало утро!.. И как печален глаз бедного барана!
Нерон с трудом встал и побрел домой, оставив Напалиса на попечение двойняшек Розочек, которые бежали звонить в колокола и застыли посреди дороги, будто вкопанные.
– Напалис, сыночек, беги домой!..
Напалис и не шелохнется, спит, как спал. Подняли двойняшки ребенка с земли и удивились. Боже мой, какой легкий! Одно слово – скворец! А ростом вымахал. Большой гробик понадобился бы, награди его боженька счастливой смертушкой. Подумать страшно, что такой кавалер еще молитвы божьей не знает, не исповедовался ни разу. Только с котом, собакой да баранами лижется. А приложился ли хоть разик к ногам боженьки, которые истекают кровью на распятии у дверей костела? Ведь жаловаться на рост, слава богу, не может. Дотянулся бы... С другой стороны, чем он виноват? Сирота. Без матери рос. Отец лишь изредка дома бывает. Чернорабочий. Крестный мальчонки – безбожник и пьяница – портит его сызмальства. Кто хочет, тот ухо ему крутит, в живот пинает. О, господи, может, этот полицейский жеребец перешиб ребенку брюшину? Стоит ли удивляться, что Напалис к животным да зверькам льнет и любит их больше, чем ангелочков? Что он знает, что он понимает, бедненький?
Отнесли сестры Розочки ребенка домой, в свою постельку уложили, периной накрыли, перекрестили и опять бегом в колокольню. Обе. В одиночку ведь эту графскую висюльку не раскачаешь. Вечный покой дай, господи, этому сумасшедшему Гарляускасу. Благодаря ему они святую службу получили... Никогда еще сестрам не было так легко звонить, как этим утром. Никогда в их сердцах не было столько утренней радости. Ни о чем больше думать они не могли – только о Напалисе: как несли его, как гладили да ласкали... Вот счастье было бы, вот наслаждение такого ребеночка в складчину заиметь. А, может, приведет господь, удастся сестрам Напалиса приручить? Может... даже усыновить удастся его... Пока маленький, был в костеле служкой. А потом? Только не органистом, баловнем девок. И не ризничим, который восковой свечечкой воняет. Непременно ксендзом! Далеко-далеко. Высоко-высоко. У главного алтаря. Обе руки к небесам воздеты. С церковным золотым кубком, отлитым из всех оставшихся царских десятирублевок. Прямо скажем, лопнули бы от счастья сердца сестер на первой же мессе Напалиса, и устремились бы их душонки прямо к господу, точно две голубицы, воркуя „gloria in ekscelsis deo“?[12]12
Слава господу в высях... (Лат.)
[Закрыть]. Господи, но что же будет, когда Напалис один как перст на грешной земле останется? Ведь когда вырастет да в тело войдет, он станет похож на голубоглазого архангела, который под потолком кукучяйского костела оливковую ветвь богородице предлагает. Все девки и шальные бабы глазами будут его сверлить, пока с пути истинного не сведут, как викария Жиндулиса... Нет, нет. Сестры Розочки не хотят больше в рай. Рай никуда не денется. Будь милосерд, господь! Позволь сестрам рядом с усыновленным мальчонкой оставаться и дорастить его до епископа, когда с годами мужская кровь перебродить успевает и грешные мысли плоть покидают. Когда остается одна лишь мудрость да набожность под золотой митрой, когда мать церковь предоставляет святое право учить добродетели не только простой люд, но и ксендзов, исповедовать их, а самому отчитываться только перед всевышним. Господи, мало ли надо, чтобы сестры Розочки, воркуя под крылышком епископа, повидали бы священный Рим и самого папу римского?.. Вот тогда можно уже и... А может, еще нет?.. Может, позволишь еще, господь, вернуться сестрам домой, в Кукучяй, да рассказать верующим и безбожникам всем, что они видели да слышали, и только после этого на руках епископа почить вечным сном да оказаться похороненными рядом с костелом с торжествами, чтоб все богомолки лопнули от зависти да чтобы матери, ведущие своих детишек в костел, останавливались у их могилы и говорили: «Здесь покоятся сестры-близнецы Розочки Буйвидите, которых все обижали и считали дурочками, но они, стиснув зубы, терпели и воспитали человека, самого мудрого мужчину прихода, Наполеонаса Кратулиса. Сызмальства он был блудным сиротой. Мог выйти из него шут гороховый, циркач, артист или даже разбойник, а вышел – епископ. Так что помолимся, чтоб они там, в раю, восседая среди святых угодников, замолвили словечко, дабы боженька осенил вас духом святым...» Так что звони во всю, графская висюлька! Звони, звони, звони...
Розочки так раззадорились, что просто забылись... Богомолки, сбежавшись толпою к настоятелеву дому, громко зарыдали. Решили они, что приходскому пастырю на сей раз уж точно конец. Катиничя, их предводительница, бухнулась на колени, раскрыла молитвенник и закудахтала:
– Господи, препоручаем опеке твоей сию душу, которая ныне из юдоли плачевной перенеслась в мир вечный, и просим тебя покорно: суди ее милосердно и в своей бесконечной жалости прости сей душе все, в чем она по слабости природы человеческой перед тобою провинилась…
Не успела еще кончиться молитва за умерших, как из дома выскочила в одной сорочке Антосе и, не очнувшись от дурного сна, бухнулась в обморок. Батрак настоятеля Адольфас, выбежав вслед за ней, тоже заозирался ошалело, будто с дерева свалившись. К окну нижнего приходского дома приклеились два опухших с похмелья лица: викария Жиндулиса – суровое и задумчивое, органиста Кряуняле – очень печальное.
Хорошо еще, что единственный из жильцов настоятелева дома Нерон не растерялся. Подбежал к приоткрытому окну и до тех пор лаял, пока не появился в нем Казимерас Бакшис, белый как лунь. Буркнув что-то несуразное, показал кукиш обитателям нижнего дома...
– О, Иисусе...
– Вон, блаженные!.. – рявкнул Адольфас, придя в себя, и такими словечками принялся крестить мирских монашек, что тем ничего другого не осталось, как сквозь землю провалиться. Однако земля твердая, а любопытству бабьему конца нету. Ждали они, когда же настоятель своего матерщинника батрака остановит. Не дождались. Адольфас честил их, не переставая. Настоятель только головой кивал, будто поддакивал, и все бормотал что-то под нос. За адским гулом колокола и не разберешь...
Господи, неужто самого настоятеля Бакшиса заразили бациллы Анастазаса? А может, еще хуже? Может, сбылись пророчества безбожника Горбунка, и еврей Фридман, пользуя ксендза, в свою веру обратил? Может, поправившись, он уже не каноником будет, не деканом шести приходов, а главным раввином Утянского уезда? Неужто вы глухие, не слышите, что его разговор очень уж смахивает на еврейский? Господи, чем такое несчастье, лучше уж ниспошли ему...
– Тьфу, тьфу.
Побежали богомолки в костел. Вслед за ними – Адольфас, у которого ругательства иссякли. С кнутом. Как влетит в колокольню, как начнет хлестать двойняшек!.. Графская висюлька тут же замолкла, но зато какой поднялся вопль! Розочки-то решили, что это душа висельника Гарляускаса без места бушует.
Вышвырнув их за шиворот на двор, Адольфас запер колокольню и заявил во всеуслышание:
– Чем двух дурочек за полцены нанимать, лучше одного умного – за доброе жалованье.
И вдруг мелькнула у него мысль – ведь лучшей кандидатуры, чем Аспазия Тарулене, не найдешь! Ах, господи, никто и не подозревает, что Адольфас тайком влюблен в нее уже два десятка лет. И до сих пор не нашел случая, чтоб доказать ей свою любовь. В самый первый раз, когда еще пареньком Адольфас хотел с ней польку сплясать, у него из-под носа увел Аспазию этот чахоточный Тарулис... А потом, когда Аспазия овдовела, дала обет мирской монашенки и с маленьким Алексюсом стала бродить поденщицей по хозяевам, не было ни времени, ни смысла за ней гоняться... Разве что помечтать время от времени. Так и остался настоятелев Адольфас старым холостяком. Кто знает, вдруг еще можно начать жизнь сначала? И ему, и ей. За чьи грехи она, бедняжка, должна одна-одинешенька в баньке Швецкуса паклю для этого проклятого процентщика прясть за горбушку черствого хлеба? А тут – и квартира просторная да светлая в приходском доме, и заработок приличный, и почет...
Уж чего не ждала, так не ждала Аспазия Тарулене. Такой гость да еще с таким предложением, которое, по просьбе Адольфаса, благословил сам настоятель.
Разволновалась женщина. Кровь в лицо ударила. В полумраке баньки показалась она Адольфасу еще милее, чем в молодые годы. Малого не хватало, чтобы он морщинистую ее руку взял да сердце свое выложил ей на ладонь. Но слова подходящие куда-то подевались. Поэтому сунул Адольфас ей тяжелый ключ от колокольни и сказал:
– Пора на обедню звонить. Пойдем. Покажу, как колокол раскачать.
Шел, показывал. Сам раскачивал да сам звонил. Как во сне. И было хорошо Адольфасу, что Аспазия не спускает с него своих больших печальных глаз. Может, чует свое счастье? Ты видишь, Аспазия, сколько у Адольфаса мужской силы, как он может графскую висюльку раскачать? Так и дымятся шестеренки колокола, летучие мыши и те проснулись. Сейчас Адольфас схватит тебя да подбросит вверх, будто пушинку. Подбросит, поймает и скажет: «С этих пор ты моя. Не бойся. Тебе не страшны никакие опасности». Адольфас не только дьявольски силен, но и дьявольски умен. Так говорит сам Кряуняле, который сейчас учит его прислуживать к мессе. Ведь Адольфас даже по-литовски ни писать, ни читать... И разговор у него с трудом клеится (только материться умеет), а вот латинскую молитву, которую надо вытвердить назубок, он сыплет, как по-писанному, хотя ни бельмеса не понимает. Кряуняле с викарием со смеху помирают. Это – пускай (главное, чтобы господь бог понял). Адольфасу важно, что эта наука сулит ему сытое будущее. В тот же день, когда настоятель слег, Жиндулис дал слово, что, усевшись на трон приходского пастыря, он удвоит жалованье Кряуняле, а Адольфаса назначит ризничим, потому что старик Рилишкис совсем одряхлел – не может вина в церковный сосуд, не расплескав, налить, из-за глухоты вслух бранится у алтаря и сморкается, как паровоз, и воздух портит вдобавок. Пускай катится, мол, к Бельскису индюков пасти...
Правда, в тот раз Жиндулис был под мухой. Но что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. А с другой стороны, Адольфас и Кряуняле – не какие-нибудь дурачки. Их-то не надуешь, как легковерную Кернюте... Ах, Аспазия, если бы до твоих ушей дошло, что они об этом святом блудодее узнали, просверлив каждый по дырочке в потолке приходского дома!.. Если бы ты видела да слышала, какие слова и клятвы шептал этот удав барышне учительнице, пока ее в кроватку не уложил... Если б ты видела, Аспазия, как теперь Юзефа Чернене его кровь сосет посреди бела дня, спев дуэт-другой, без стыда и сраму! Ох, попался так попался этот приходской петушок в пасть к матерой лисе... Вряд ли удастся ему на сей раз унести целыми перья...
Так что покамест все козыри в руках Кряуняле и Адольфаса. Они-то застраховались. Пускай попробует, заделавшись настоятелем, не сдержать своих обещаний. Мигом его дело оказалось бы у епископа. Черным по белому. У Кряуняле, слава богу, язык подвешен и пером он владеет, а Адольфасу тоже не трудно три крестика свидетеля вместо своей фамилии начертить. Не настоятелевым домом запахло бы для Жиндулиса, не рутовым веночком молодой хозяюшки, а монастырской тюрьмой и пеплом смертушки. Ох, и прет же теперь молодое поколение пастырей. Чтоб их черти драли! Краснобаи, себялюбы. Потаскуны, пьяницы. Нищие духом. Только деньги драть у людей умеют. Только баб менять, будто цыгане кобыл. Разве сравнишь такого Жиндулиса с ксендзом старого поколения Бакшисом? Первая любовь Бакшиса Антосе ведь по сей день под его крылышком нежится... Или как он ухаживал, пока здоров был, за могилкой графини Ядвиги. А что и говорить о терзаниях Бакшиса, когда плод его грешной любви графиня Мартина оказалась в лапах дурных опекунов. Ведь из-за нее он, бедняга, ни жить спокойно не может, ни умереть. Кто уж кто, но Адольфас, которого Фридман назначил ворочать настоятеля в постели, видит, какими глазами смотрит он на маленькую картинку Мартины, поставленную на шкафчик, как вздыхает, до молитвы, перед ней, как перед святой. Сердце кровью обливается. И ключик от железного шкафа щупает, что у него на груди в бараньей мошне спрятан... И все говорит Адольфасу взглядом да сбивчивыми словами, чтоб после его смерти эту вещичку передать в руки Мартине, его крестной дочери... Ах, Аспазия, у Адольфаса в голове не умещается, как может господь так нечеловечески истязать своего верного слугу, а последнему потаскуну Жиндулису даже суровым перстом не погрозить? Все неприятности, все беды с него как с гуся вода. Наконец, разве не ухмылка самого Люцифера в том, что Адольфас при честном настоятеле лишь в батраки годился, а при этом чертовом семени в ризничии выдвинется. И ничего больше для полного счастья ему не надо – кроме тебя, Аспазия, кроме твоих чистых, трудолюбивых рук и бабьей нежности. Насчет обета мирской монашенки ты не переживай. Жиндулис, заделавшись настоятелем, перекрестит тебя левой рукой, и прощай монашество. Подумай только, все хозяйство костела оказалось бы в одних руках. Жалованье звонаря да ризничего – в одни закрома. Живи в свое удовольствие на старости лет. А если еще ребеночка дождаться?.. Если квелые Кулешюсы у бога дитя вымолили, то почему бы нам не вымолить, раз в наших руках такой колоколище, а? Аспазия! Почему твои глаза полны слез? От счастья предстоящего или от печали настоящей?
Откуда мог знать Адольфас, что Аспазия Тарулене, глядя на него, только о своем сыне Алексюсе думала? Что с ним стряслось-то? Почему по сей день весточки не шлет? Неужто не знает, что мать за его здоровье переживает страшно? Хоть сбрось платочек, смажь пятки да беги по дороге с криком: «Алексюс! Домой! Работа для тебя нашлась! До конца века!» Но вряд ли хватило бы сил Аспазии добежать хотя бы до Шнеришкяй. Суставы скрючены ревматизмом – ни для беготни, ни для колокольного звона не годятся. Надорвалась Аспазия в молодости, пока работу батрака исполняла. Спасибо Швецкусу, что дает пакляную кудель пощипать за кормежку да жилье... Господи, будь милостив. Пошли Алексюсу вещий сон да колокольный звон.
Забылись оба: и Адольфас, и Аспазия. А графская висюлька все гудела и гудела, пока ризничий Рилишкис не вбежал на колокольню и адским голосом не рявкнул:
– Адольфас, конец света или ты сбесился, как баран Анастазаса? Настоятель в кровати дохнет, викарий – перед алтарем. А я за все в ответе. Я, а не ты! Тебе не церковным слугой быть, а надсмотрщиком в желтом доме, раз тут чертей кличешь! Ты погляди, ты послушай, что в городке творится.
Опустил Адольфас свои ручищи, будто его холодной водой окатили, и графская висюлька замолкла. Но как остановить эхо колокола, которое уже неслось по всему приходу, обжигая уши и сердца верующих? Все, кто мог, бросили дома и бежали в Кукучяй. Ведь не зря во второй раз графская висюлька такую тревогу поднимает. Если настоятель Бакшис помер, – еще полбеды (не тот, так другой пастырь будет). А вот если поляк или немец на наш край напал, если мужчин на войну призывают? Что тогда запоем?
– Господи, сенокос на носу!
– Иисусе, дева Мария! Это уж как пить дать.
Екнули сердца прихожан, ноги подкосились, потому что бабы, мужики да дети толпились не где-нибудь, а перед кукучяйским полицейским участком. Взобравшись на забор, шут кукучяйской бедноты Горбунок, на сей раз без гармоники, состроив серьезную рожу, кричал:
– Хозяева и хозяйки, братья и сестры, пожалуйте поближе! Поглядите и признавайтесь по-хорошему, чей это покойник! Ваш, вашего соседа или доброго знакомого?..
Оказывается, вчера вечером господин Мешкяле в припадке бешенства пристрелил барана и удрал в Пашвяндре. Городок теперь брошен на волю провидения. Вот почему викарий Жиндулис сегодня утром выпустил на волю графскую висюльку и поручил Кулешюсу, органисту гильдии безбожников, выяснить историю барана от начала до конца, поелику, буде не объявится хозяин этой черной скотины, викарию придется огласить его дьяволом и тотчас же послать телеграмму в Рим его святейшеству о появлении нечистой силы в кукучяйском приходе. А поскольку телеграмма эта стоит дорого, то Виргуте, дочка добровольца Кратулиса, от лица всех босых «ангелочков»[13]13
«Ангелочки» – детская клерикальная организация в буржуазной Литве.
[Закрыть] собирает деньги. Для этой святой цели господин Гужас подарил ей свою фуражку. Так что...
– Хозяева и хозяйки, братья и сестры, пожалуйте поближе! Глядите и признавайтесь по-хорошему, чей этот покойник... – все повторял и повторял Горбунок, будто докучливую сказку, потому что подходили новые зрители, а в окне участка цвел пышным цветом господин Гужас, притворившись слепым и глухим, хотя седьмой пот его прошибал от наслаждения, что Горбунок так весело поддевает его начальника. И впрямь, на что похоже: хлоп невинную скотину в голову, хрясть ногой ребенка в живот... Зверь – не человек... Пускай послушают эти полицейские бараны – Микас да Фрикас – чего стоит авторитет господина Мешкяле. И ты, Эмилия, и ты напряги уши, чтоб потом могла слово в слово пересказать речь Горбунка своему спасителю и продолжателю рода Гужасов, когда он вернется из Пашвяндре, благоухая аптечной ромашкой, и ты снова, как нищая, будешь клянчить его ласк...
– Фу!..
Ах, побыстрее бы... Побыстрее бы притащился на свет божий долгожданный сын. Тогда уж ничто, даже связанным не удержит Альфонсаса в Кукучяй. В деревню! В Барейшяй. На землю.
– Господи, не завидуй моему счастью.
А люди уже валили в городок не по одному, а по двое, по трое... Вереницами. Таков уж наш злосчастный характер. Где один зевака рот разинул, там сразу будет целый полк. Неважно, что большинство толком не понимает, что тут творится, что Горбунок всерьез говорит, а что из пальца высосал. Но факт остается фактом – мертвый баран валяется под забором, остекленевшим глазом на толпу смотрит, и ни один зевака не желает его признать, хотя Горбунок уже выкликает хозяев по фамилии, требуя перекреститься и рассказать, как выглядит его собственный баран, какого норова, масти, ума, а главное, умеет ли молитву творить... Одни слушатели ухмыляются, другие хихикают, третьи со смеху помирают. Есть и такие, которые плечами пожимают и злятся, плюются, хотят сквозь землю провалиться со стыда, что власть в Кукучяй захватил пьянчуга Горбунок и никто не запрещает ему без ножа зарезать начальника полиции с викарием. Блудники оба, так блудники... но все-таки. Любая шутка должна меру знать.
Нервы мамаши Анастазаса не выдержали-таки. Не дождавшись, пока назовут ее фамилию, будто рысь подскочила она к окошку участка:
– Господин Гужас, долго ли будешь позволять этому посланцу преисподней моего сына хаять? Мало было вчерашнего? Какая вам будет польза, если его во второй раз с ума сведешь?
– Значит, признаешься по-хорошему, что баран твой?
– Не наш. Нет. Побойся бога, господин Гужас. Откуда ты взял?
– Перекрестись.
Покраснела Тринкунене, все лицо у нее пятнами пошло, нос побелел, а Горбунок, весь синий от вчерашних пинков и распухший, как истинный черт, вторил:
– Перекрестись! По-литовски тебе говорят. Тринкунене, видит бог, при свидетелях тебе говорю: если не перекрестишься, в суд на твоего сына подам. В желтый дом отправлю. Кто позволил ему печати шаулиса на моем горбу ставить, если баран не ваш, черт бы вас драл?
Взгляды всех зевак направились на старуху Тринкунене, а Горбунок все не отставал:
– Да или нет?
И вдруг из толпы высунулась дочка Блажиса, Микасе, зыркнула косым глазом влево, вправо, в небо да в землю:
– Господи! Тетенька, да это же ваш баран! Ей-богу! Чернец. Проклятый озорник.
– Цыц! – прикрикнул на нее Горбунок. – Кто тебе это сказал, овечка? Откуда взяла? Известно ли тебе, что за ложные показания – три года каторги?
– Иди ты знаешь куда?! – побагровела Микасе. – Ты меня вокруг пальца не обведешь. Наши и Тринкунасов пастбища в Рубикяй по соседству. Этот баран нам до смерти надоел. Скачет через заборы получше оленя и наших коров сосет. Даже овцы его ненавидят. Потому Тринкунасы и не берегут его, потому Анастазас его бьет и ногами пинает.
– Во имя отца и сына! – вскричала Тринкунене, перекосив лицо, крестясь левой рукой, а правую крепко сжав в кулак. – Не наш этот баран. Нет! Люди! Эта Блажисова сука хочет на моего сына наклепать. Ее отец, проклятый врун и мошенник, сам Анастазаса свататься возил и сам сватовство расстраивал, чтобы в конце концов к себе домой привезти, в амбар ночью запереть да с этой дурочкой спарить, будто барана с овечкой. Только не вышло ничего... Пшик вышел... Мой сын не такой дурак, как Блажис надеялся. Ему косоглазая не нужна. Он найдет жену одного поля ягоду. Упаси господи от голода, чумы, внезапной смерти и от такой снохи. Чудо ли, что Микасе стала на моего сына клепать да помои ему на голову лить? Ничего не выйдет, девка-вековуха! Не получишь ты его! На тебе! На! – сунула кукиши прямо под нос Микасе. – Накось, выкуси.
Только теперь Микасе очухалась:
– Люди добрые! Нашла жениха. Мне?! Уж чем гнилой пень Тринкунаса, лучше этот мертвый баран, хоть шкура теплая на зиму, хоть два рога, чтоб бока почесать, хоть мошна – для мелких денег!.. Где твои глаза, старуха, где совесть твоя, чтоб меня да родителей моих хаять при всем честном народе! Ладно уж! Может, скажешь теперь всем, за что ты нам свою первотелку подарила после того, как этот твой ублюдок в Пашвяндре опозорился? Может, и от своей коровы отречешься с тремя сосцами, как от своего бешеного барана отреклась? Ага, молчишь? Хорошо, что мой папаша башковитый, расписку у твоего муженька, олуха последнего, взял... Так послушайте меня, люди добрые!.. Эту подпорченную корову Тринкунасы моим родителям подарили за одну только надежду, чтоб я к ним в снохи пошла! Не дождаться вам! Чем такого в пару брать, лучше хвост в забор зажать, пускай мое добро вороны клюют. К нам не такие мужчины набиваются, не первотелку, а племенного быка в подарок шлют, и то мы не знаем. Еще выбираем. У нас не горит. Мы суженого дождемся. Пускай он покамест слюнки пускает, глядя на нас да на наше хозяйство. Потом дороже будем. Блажисова Микасе не какая-нибудь ромашка собачья, на которую любой баран нагадить может. Поищите себе сноху среди побирушек Скудутишкиса!
– А, чтоб у тебя язык через макушку вылез! – плюнула Тринкунене прямо в лицо Микасе, потому что не знала, как ее похлеще отбрить.
– Женщины! – кричал Горбунок. – Языки распускайте да рукам воли не давайте!
Но Блажисова Микасе цапнула Тринкунене за волосы и давай водить, будто гусыня индюшку. Уж такой комедии и впрямь зеваки не ждали.
– Перестаньте. Хватит, – пыхтел в окно Гужас. – Как вам не стыдно?
– Когда стыд раздавали, их дома не было, Альфонсас, – кричал Горбунок, будто аист скача на столбике забора.
Хорошо еще, что Микас и Фрикас догадались из участка выскочить и растащить дерущихся.
– Ведите в кутузку! Обеих! – рассвирепел Гужас.
– Альфонсас, не дури!
– И ты! И ты, Кулешюс, марш домой. Кончай комедии ломать!
– Кончаю, Альфонсас. Запасись терпением, – ответил Горбунок и, подняв обе руки вверх, голосом Синей бороды торжественно заявил: – Добрые католики и славные католички, не знаю, что вы скажете, но я, патриарх безбожников, бабу нашего старосты Тринкунаса оправдываю. Пускай она бежит домой да успокоит своего сына. Господин Гужас не привлечет ее к ответственности. Боже правый, Альфонсас, что такое лишний баран в хозяйстве нашего старосты, чтоб нам из-за него голову ломать. Прибавь, господи, ума старостину сыну, а баран – не тот, так другой будет. Или – насчет снохи!.. Тоже мне забота. Не Блажисова Микасе, так Тарайлисова Стасе. Не пашвяндрская пани Милда, так другая пьяная дылда. Дай только боже Анастазасу силу баранью...
– Тьфу! – плюнула Тринкунене в сторону Горбунка.
– А ты, Микасе, за то, что семью старосты оклеветала, сейчас сбегаешь в нижний приходской дом, к викарию и, соблазнив его, сюда приведешь. Только без сутаны и без штанов. Пускай он нам, темным прихожанам, растолкует, чем миропомазанный ксендз от простого парня отличается, и чем черный, рогатый баран – от черта?
– Тьфу! – теперь уже Микасе сплюнула.
– Видите, что творится, люди добрые? Черт будущую свекровь с будущей снохой поссорил, черт и помирил. Что, скажите на милость, будем делать с бараном, злой дух которого между нами еще порхает? Воистину, воистину говорю я вам – изгоняйте из себя бесов и поцелуйтесь как братья и сестры по примеру Тринкунене Кристины и Блажите Микасе!
– Аминь! – ответил Зигмас, а вслед за ним и остальные дети босяков.
Попадала бы со смеху толпа, но черт заржал страшным голосом тут же, где-то в небе.
– Иисусе, дева Мария!
– Иосиф святой!
Кто же это?.. Весь лабанорский цыганский табор со школьной горки вниз катит. И гадалка Фатима – впереди всего табора. В ее телегу запряжен бывший жеребец Крауялиса Вихрь. А возница – сын самого главы табора Архипа Кривоносого Мишка, вор несказанный, но еще ни разу не пойманный и потому такой гордый... А может, потому гордый, что рядом с ним Фатима восседает, закутавшись в свой красный платок – свежая, яркая, цветет как герань. На коленях у нее – младенец. Розовощекий. Белобрысый. Полугодовалый.
В ту же минуту толпа забыла про барана.
– Здоро́во, Фатима-колдунья!
– Где пропадала всю весну?
– Почему нас забыла? – заголосили бабы босяков.
– Разве не видите, что у меня бабьих хлопот по горло, дамочки дорогие? Руками, ногами да сердцем к этому пупырышку привязана.
– Иисусе! Не шути. Неужели это твоя плоть да кровь?
– А чья же еще? – ответила Фатима, сверкнув белыми зубами.
– Вот ирод. Какой красавчик!
– Госпожа Розалия, ради бога. Не сглазь.
Но Розалия уже впилась взглядом в ребенка, ухватившись за грядку телеги:
– Фатима, а отец ребенка где?
– На земле, не на небе, дамочка дорогая.
– Который, покажи?
– Неужто твои глаза уже не видят? – ответила Фатима, вдруг перестав улыбаться.
Обернулась Розалия со всеми бабами босяков назад, любопытным взглядом изучает цыган. Все мужики черные, как деготь, ни одного белобрысого. Фатима шутит. Глаза у ребеночка голубые, будто капельки небесной синевы. Ноздри малость раздуты... Погоди, на кого это он смахивает? О, господи Иисусе!.. Даже голова у Розалии закружилась.
– Когда же ты успела замуж выскочить?
– А перед свадьбой разве нельзя разживиться? Значит, все еще не доходит, кто отец моего сыночка?
– Если б не побоялась перед богом согрешить, сказала – наш господин Мешкяле.
– Угадала, госпожа Розалия, – ответила Фатима, всех ошеломив этим ответом. – Господин Гужас, позовите, пожалуйста, господина начальника. Мы желаем с ним словечком перемолвиться.
Господин Гужас язык проглотил. У Микаса и Фрикаса глаза на лоб полезли. Одна только госпожа Эмилия не растерялась:
– Потаскуха! Врунья! Ребенка у кого-то одолжила и еще смеет на порядочного человека клеветать! Ребята, хватайте ее! В кутузку! Начальник уж выяснит, чей этот ребенок да кто его родная мать!
Но тут, как на грех, белобрысый ребеночек глотку распустил. Не успела полиция приказ Эмилии выполнить, Фатима как рванет блузочку на груди!..
– Иисусе, дева Мария!
Ослепли женщины. Дети и мужики. Гляньте, какие белые и какие спелые груди у Фатимы! Между ними золотой крестик сверкает, ловит солнце. И запахло вдруг не то парным молоком, не то свежим пирогом. А когда крепыш принялся грудь Фатимы сосать, даже постанывая от удовольствия, ни у кого не осталось сомнения, что это мать и сын...
– Весь в отца. И телом и душой, – говорит Фатима, внимательно глядя на Эмилию. – Дай боже и вам такого чертенка подцепить.
Эмилия сглатывает слюну и замолкает, покраснев до самых сережек. Зато господин Гужас оживает:
– Раз ты уж так счастлива, барышня Фатима, то чего еще от нашего начальника желаешь?
– Мишка, объясни. Мне нервничать нельзя. У моего голубочка животик расслабится.
Мишка сдвигает шапку на макушку и, покачивая бесенка на начищенном до блеска сапоге, распускает язык. То по-польски, то по-литовски. В день святого Иоанна в лабанорском таборе предстоят, дескать, огромные торжества. Дело в том, что позавчера поздно вечером ксендз декан Бакшис получил от кайшядорского епископа разрешение обвенчать сына Архипа Кривоносого Мишку с Фатимой Пабиржите из Кривасалиса... Поскольку, как все вы видите, невеста дождалась незаконного дитяти, то Мишка Непойманный, как благородный цыган, желает вместе со своей свадьбой устроить крестины и усыновить этого белобрысого воробышка, чтоб позднее, с течением времени, любая, извините, длинноязыкая баба не тыкала в него пальцем и не подозревала – краденый он или одолженный. С этой благородной целью Мишка и прибыл в Кукучяй, чтобы выразить господину Мешкяле благодарность за легкую руку и по этому же самому случаю пригласить его на свадьбу первым дружкой, а на крестины – крестным отцом... Дав согласие, господин Мешкяле окажет табору честь, за которую Мишка готов сию же минуту распрячь своего жеребца Вихря и обменять его на вшивую полицейскую кобылу. Будут ли еще вопросы, господин Гужас? Или уже можете пригласить сюда своего начальника?