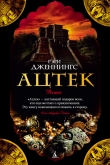Текст книги "Радуга"
Автор книги: Пранас Трейнис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
А когда заснул Рокас, приснился ему лес с картины Андрюса. Только все птицы и звери там не на лося смотрели, а на белую лебедь, которая поднималась из лужи, бросая наземь белое, мучительно белое перо...
Проснулся Рокас от того, что его дергали за ухо, и страшно удивился, что лежит он в своем доме, на кровати отца, что ослепительный луч солнца падает из окна, что мать смотрит на него заплаканными глазами.
– Что случилось?
– Вставай, ирод. Кернюте застрелилась.
Рокас своим ушам не поверил. Сегодня же пасха... Не день врунов.
– Кто тебе сказал, маменька?
– Пурошюс прибегал. Отца увел свидетелем. Беги и ты, Рокутис, и тебе он велел прийти... – и зарыдала Розалия, запричитала.
Рокас приподнялся, сел, обеими руками схватился за гудящую голову. Неужели правда? Неужели не суждено исполниться его мечте? Неужели ему опять придется вернуться в серые будни и никогда-никогда не сможет он исповедаться учительнице. Ни себя, ни другого за нее не застрелит? Неужели Рокасу суждено оставаться обыкновенным вруном и вором? Господи, или тебя нету, или... будь ты...
7
Несколько суток после похорон учительницы Кернюте Тамошюс Пурошюс места себе не находил ни дома, ни на дворе. Куда ни шел, что ни делал, все видел самоубийцу, словно ангела божьего, обряженного в белое подвенечное платье, все слышал дрожащий голос Виргуте на кладбище, когда Розалия, подняв ее на песчаный холмик, попросила всех рыдающих баб замолчать и выслушать стихотворение из книжки, которую Рокас нашел в комнате учительницы после посещения уголовной полиции. Растоптанную.... Рядом с кроватью. (Чего желать от пьяных!) Первые слова этого стихотворения останутся в памяти Пурошюса навеки:
Нет больше учительницы. Нет единственного человека в Кукучяй, который верил в талант Пурошюсова Габриса. Господи, не завидуй ее счастью хоть на том свете и сжалься над Пурошюсом, который здесь, на земле, вконец запутался. И не когда-нибудь: в святую ночь пасхи, исполняя Иудовы обязанности, из одного панического страха, чтобы злой шутник не стрельнул в окно его избы да не нагнал на его Габриса падучую. Да будет проклят этот Чюжасов шалопай Рокас, тайну которого случайно подслушал Пурошюс и сам не устоял перед желанием подобно подростку заглянуть в светящееся окно учительницы, в надежде увидеть ее в одной сорочке...
Из-за Рокаса, о господи, Пурошюс стал свидетелем самоубийства Кернюте. Мало того, обворовался, как последняя сволочь, и даже сейчас таскает за голенищем сапога пачку денег покойницы, накопленных на приданое, утешая себя мыслью, что со временем можно будет превратить их в музыкальный инструмент – аккордеон или скрипку, необходимые для развития слуха и голоса Габриса. И впрямь, разве было бы лучше, если б эти деньги хапнули пьяные следователи из Утяны или крестная мать учительницы, приехавшая в Кукучяй уже после похорон и всех до единого босяков обвинившая в воровстве? А ну ее к лешему... Хотя, если по-философски рассудить, эта жемайтийская ведьма права. Пурошюс тоже свято убежден, что каждый человек в душе вор, только не всем одинаково удается практическая деятельность... И все-таки Пурошюсу тревожно. Чуть ли не первый раз в жизни грызет его совесть. Вдобавок, голова пухнет от множества вопросов. Откуда Рокас Чюжас достал этот проклятый револьвер? На какие шиши Чюжасы устроили такие крестины? За какие такие финансы гроб купили для крестной матери своего поскребыша? Почему после пасхи Рокас не вернулся на хутор Цегельне, а запродался Крауялису вместе с другими босяками за жалкие гроши и мокнет в трясине с раннего утра до позднего вечера, будто отъявленный преступник, замаливающий смертный грех? Может, Рокас Чюжас выкинул все эти ночные шутки? Может, это он в прошлом году Анастазаса с ума свел, сперев винтовки шаулисов? Может, это он в день врунов старого мошенника Блажиса одурачил да в рай отправил?.. С другой стороны, вроде бы и молод Рокас для таких пакостей. Но если у него за спиной был учитель, вроде того прошлогоднего оборванца, который самого Заранку надул, повесившись?.. Тогда удивляться нечему. Очень может быть, что, изучив тонкости разбойничьего ремесла, Рокас стукнул по черепушке своего наставника и принялся действовать самостоятельно. Как иначе объяснишь появление револьвера в его кармане? Но кто тогда раскроет тайну прошлого лета, которая до сих пор не дает Пурошюсу покоя: какого черта надо было разбойнику местного происхождения привести своего сообщника в городок и, прихлопнув под носом полиции, у порога Пурошюса, разоружить? Неужто для этого дела более удобного места не было?.. Ах, как легко человека заподозрить и как трудно вину его доказать! Видно, не зря пронырливый полицейский ужак господин Заранка в прошлом году хутор Блажиса перетряс и Рокаса Чюжаса прощупал. И остался с носом. Хитрые полицейские в наше время, но разбойники не дураки. Не приведи господи Пурошюсу ни тем, ни другим в лапы попасться, потому что тюрьма – не веселый дом, а пуля – отнюдь не пчелка. Как знать, вдруг Рокас Чюжас выполняет волю Пятраса Летулиса, поддерживая связь с его Стасе и наводя страх на всех подозреваемых? Много ли надо было, чтоб Яцкус Швецкус в своем нужнике кровью отрыгнул?
Вот почему Тамошюс Пурошюс перед лицом Рокаса Чюжаса и прочих босяков во время допроса утянским следователям истинной правды не сказал, а заявил, что нес барышне попробовать пасхального кваса и обнаружил ее в луже крови, уже остывшую. О револьвере даже не обмолвился, поскольку и следователи, и свидетели сочли его собственностью учительницы, а Рокас рыдал, забившись в темный угол, как настоящий артист, и когда следователь спросил, не является ли самоубийца его родной сестрой, ответил: «Нет. Сто раз дороже. Мы с ней танцевали вчера допоздна. Я провожал ее домой. Она звала зайти к ней. Не могу себе простить, что не послушался. Может, была бы жива сейчас». – «Что поделаешь, юноша. Такова ее судьба, – вздохнул следователь с сожалением. – Не стоит себя мучить зря». – «Не слушайте этого сопляка. Он еще после вчерашнего не опохмелился», – крикнул Умник Йонас, но Рокас ему ответил: «Для вас я всю жизнь буду сопляком, папенька». – «Это тоже большая правда, – поддакнул следователь. – Вижу, ты умен не по годам». – «Весь в своего седовласого папеньку, господин начальник. Простите, вы, наверное, еще не знаете, что вчера я крестины устроил для своего братика-поскребыша. Поэтому папенька на меня злится, а я на него – нет... Что поделаешь, настал мой черед маму для своих будущих детей искать. Но кто мог подумать, что ученая барышня в простого батрака втюрится. Все говорили, что наш викарий из-за нее сутану снимет...»
И принялся Рокас рассказывать следователю прошлогоднюю историю. Когда кончил, следователь сказал: «Спасибо, теперь мне все ясно». И уехал в Утяну праздновать пасху, довольный, что так быстро покончил с таким непонятным делом.
Так вот! Попробуй скрути этого хитреца Рокаса. Куда удобнее покамест язык прикусить и в душе помолиться, чтобы господь уберег твою семью от несчастий, а тебя самого от умопомешательства из-за множества вопросов и странного беспокойства, как будто впервые в жизни обворовался.
Чутье не обмануло старого вора. Недельки полторы после пасхи неведомый шутник разбил выстрелом окно викария. Вечером следующего дня Пурошюс пришел подметать участок и обнаружил Юлийонаса Заранку с Мешкяле, сидящих за бутылочкой.
– О! Легок на помине!
– Прошу прощения, я не вовремя?
– В самое время. Мы с господином Мешкяле собирались к тебе наведаться!
– Милости просим. Пасхальный квас еще не прокис.
– А ваша совесть как, господин Пурошюс?
Пурошюс навострил уши и тут же придумал ответ:
– Моя совесть – моя конституция, господин начальник. Какую бог дал, такой и рад.
– Браво! Ты настоящий Цезарь.
– Спасибо за комплимент, господин начальник. Но эти слова не мои, а Умника Йонаса.
– Иоанна Златоуста? Из евангелия?
– Нет. Местного дурака, – хихикнул Пурошюс.
– А почему вы дурака Умником называете?
– Потому, господин начальник, что он знает обо всем, что в мире творится, куда больше, чем ему положено знать, а бабу имеет неграмотную, которая его уже восьмой раз подлавливает.
– Шутки в сторону!
– Неужели вам господин Мешкяле не рассказывал, что наш Умник на старости лет восьмого ребенка произвел, что пир горой его сын, бывший батрак Блажиса Рокас устроил в честь своего брата-поскребыша, что крестная младенца барышня Кернюте застрелилась после того, как Рокас ее домой проводил и что я утром первый нашел ее в луже крови? Первый, когда с кваском прибежал ее девичье похмелье утолять? С тем же самым кваском, который теперь вам предлагаю! Удался на этот раз квасок моей Виктории. Удался! Вот выпил я ковшик – поверите ли – голова закружилась и весело стало. Может, и впрямь пойдемте ко мне, господин начальник. Честь окажете моему дому. Вы уж поверьте – не боюсь я этого ночного шарлатана. Раз не застрелил он господина Мешкяле, Швецкуса, викария, то и в меня не попадет... А если б и застрелил – не велика печаль. После добровольной смерти барышни Кернюте Тамошюсу Пурошюсу не хочется жить на земле. Не хочется. Говорю вам как ксендзу на исповеди и потому готов публично и торжественно отказаться от обязанностей Иуды. Навсегда! Лучше уж каждый вечер перед сном попью кваску моей Виктории, сотворю молитву моей бабушки: «Ложусь в постель, как в гроб, поручаю господу богу душу и тело... Аминь!»
– Пурошюс, не паясничай. Ты не так пьян, а мы не так глупы. Видали на своем веку рецидивистов покрупнее тебя, слава богу.
– А эти святые из какого евангелия?
– В тюрьме узнаешь, Пурошюс.
– Слава богу, в тюрьме еще не доводилось побывать. Но ваш намек для меня не новость, господин начальник. Еще мой дед, темный безграмотный мужик, мне, малышу, поговаривал: «Живи, сынок, по своему сердцу и разумению, но никогда-никогда не отрекайся от сумы нищего, дурной болезни и тюремной решетки!»
– Очень хорошо. Очень. А ты, Пурошюс, уже успел передать всю мудрость фамилии своему сыночку?
– Да вряд ли стоит, господин начальник. От своего папаши довелось услышать, что дуракам куда легче на свете живется. Может, мой сынок своим талантом прокормится. Хорошим певцам, говорят, ум не надобен...
– Хорошо, Пурошюс. Хорошо. Тогда побудь еще немножко умным и ответь мне на один вопрос.
– Могу хоть на десять.
– Перестараться грех, Пурошюс. Для начала хватит и этого единственного. Только прошу коротко, ясно и с чувством ответственности.
– Спрашивайте, а то сгорю от любопытства.
– Почему, говори, находчица таланта твоего сыночка и его покровительница Кернюте покоится в могиле, а?
– Во все времена люди убивали себя из любви.
– И убивали друг друга из-за денег.
– Есть звери и среди людей. Такова уж наша жизнь.
– Молодец, Пурошюс! Теоретически ты подкован. Был бы ты учеником, а я – учителем, поставил бы тебе пятерку.
– Да не за что, господин начальник. Не хвастаясь, скажу – лизни я, как вы, науки, мог бы не одного мудреца в дураках оставить.
– Верю, Пурошюс. Верю. Так что лизни теперь водочки, чтоб язык поворачивался легче, и ответь мне, полицейскому практику, еще на один вопрос. На второй и последний, быть может.
– Пожалуйста. Могу хоть на десять, – ответил Пурошюс, опрокинув рюмку.
– Сколько, говори, денег скопила учительница твоего сыночка, которую ты, пьяный, в ее же комнате, изнасиловал, ограбил и застрелил? А?
– Если вы пьяны, господин начальник, то суньте голову в холодную воду, если одурели – кликнем старосту и отвезем к господину Фридману.
– А если мы кликнем сына старосты и спросим, кого он видел ночью в пасху под освещенным окном Кернюте? Как тогда будет Пурошюс?
– Анастазас сам ума жидкого. Ему и трезвому всякая небываль мерещится. Плохого сообщника вы выбрали, господин начальник. С таким себя на осмеяние выставите.
– Сволочь, значится! – рявкнул Мешкяле, побагровев, будто индюк.
– И то правда. И дурак он, и сволочь – самого худого сорта человек, – хихикнул Пурошюс.
– А если мы к этой сволочи добавим Яцкуса Швецкуса, которому этой ночью тоже не спалось?
– Вот так-так! Над Яцкусом, господин начальник, весь городок смеется. Сунул свою бабу год назад в желтый дом, и у самого ум за разум зашел. Зимой торчал под окном Стасе Кишките, пока я с помощью господина Мешкяле его, будто пса, не отогнал. А теперь, весной, днем на стенку лезет, а ночью по городку бродит и видит, что все блудят. Он мстит мне – дело верное. Посоветуйте ему, господа начальники, от своего имени – служанку нанять для мужских надобностей, потому что, говорят, его старуха и не думает помирать. Или... Есть еще один способ лечения. Прошу прощения, пускай смазывает седалище салом бешеной суки.
– Молчок! – стукнул кулаком по столу Мешкяле. – Ты нам зубы не заговаривай, значится.
– Вам тоже посоветовал бы применять это снадобье. Ваша питомица графиня еще не скоро будет в постель годиться. Слишком рано вы кривасальскую Фатиму укокошили и пани Милду тоже... Ей-богу, я же вам добра желаю. Я бы последнего убийцу лечил, дай бог только лекарство найти. А как вам, господин Заранка, в семейной жизни везет, а?
Будто зубр набросился Мешкяле на Пурошюса. Обеими кулаками поддав под ложечкой, на пол уложил и принялся ногами трудиться... Вышиб бы он дух из Пурошюса, но господин Заранка взмолился, помирая со смеху:
– Довольно, господин Болесловас. Довольно. Наш долг – помочь убийце встать на ноги. Убийца – редкий экспонат в нашем обществе. Его надо уважать и беречь, чтобы это племя не перевелось. Что бы мы, полиция, без них делали? Кого бы ловили, кого в тюрьмы сажали?
Еле-еле поднялся Тамошюс Пурошюс с пола. Еле-еле заговорил:
– Видите, каким лютым зверем становится человек, услышав о себе правду? А что делать мне, оклеветанному да избитому? Была бы сила на моей стороне, я бы вам обоим ребра пересчитал. А теперь что ж. Спокойной ночи. Пойду-ка домой. Пускай мое место остается вакантным, как выразился бы Умник Йонас. Как-нибудь проживу и без вас.
На этот раз Пурошюса схватили оба полицейских, усадили на стул, надели наручники:
– Ты уж прости, Пурошюс, мое терпение иссякло. Попусту рот разевать не будем. Перейдем к вещественным доказательствам преступления.
И господин Заранка достал из блестящего портфеля блестящий револьвер и, сунув под нос Пурошюсу, прошипел, как форменный ужак:
– Может, ответишь, братец, откуда эта вещичка появилась в кровати Кернюте? А?
– Раз ты такой умный, воскреси учительницу и спроси у нее. Хватит мне этих комедий! Руки пусти!
– Не хочешь больше со мной разговаривать?
– Катись ты к черту, Заранка. Ты для меня не начальник.
– Ах, вот как?
– Вот так.
Хрясть Заранка Пурошюса по уху. И снова Пурошюс на земле, и снова для ног Мешкяле появилась работа. У Пурошюса руки закованы. Так что защищаться нету смысла. Остался один выход – прикрываясь наручниками, беречь голову и, навострив уши, слушать, что шипит Заранка. Оказывается, что этот револьвер принадлежал господину Кезису, место которого он сейчас занимает и который до сих пор не обнаружен... Оказывается, что Пурошюс убил этого Кезиса, стакнувшись с другим разбойником, а потом того же разбойника оглушил, чужие деньги и оружие присвоил, в кутузку своего компаньона запер, а ночью удавил. Оказывается, что Заранка был совершенно прав, когда докладывал по телефону начальнику уезда о подозрительном поведении сторожа кутузки. Это ты, господин Мешкяле, виноват, что приютил под своим крылом убийцу, нахала, который, похитив винтовки шаулисов, теперь вас всех терроризирует, берет на пушку, с ума порядочных людей сводит. Это он подчистил в прошлом году сундук с пожертвованиями в школе накануне шестнадцатого февраля. Он! Не двойняшки Розочки, которые всего десять литов после него обнаружили! Его работа – ограбление Блажиса с хутора Цегельне. Его! Не кого-нибудь еще. Повесить его, расстрелять, сжечь и пепел развеять. Как святая земля и носит такого вора, распутника, извращенца? Зовите, господин Мешкяле, свидетелей. Зовите. Зовите сюда его жену и сына Габриса. Пускай видит сирота, пускай слышит, какой у него был отец!
– Слушаюсь, господин Заранка! – рявкнул Мешкяле, перестав месить ногами Пурошюса и взявшись за фуражку.
Вот когда перепугался Пурошюс. Вот когда его охватил ужас:
– Стойте! Я скажу все, что знаю! Скажу, пока вы меня с ума не свели!
Видит бог, другого выхода у Пурошюса не было. Град обвинений ошарашил его побольше, чем пинки Мешкяле. Всем своим естеством почувствовал Пурошюс, что этот очкастый ужак может самого ангела оставить виноватым, а что и говорить о нем, рядовом воришке... Так что поднялся Пурошюс с полу и, ползая на коленях, открыл тайну Рокаса Чюжаса, громко прокричал на те вопросы, от которых у него рассудок едва не помутился... А чтобы Заранка поверил в его искренность, вытащил из голенища сапога пачку ассигнаций и швырнул под ноги, проклиная покойную Кернюте, которая забыла составить завещание, хотя, встретив перед пасхой Пурошюса, очень хвалила Габриса и обещала аккордеон ему купить за все те милости, которые прошлой весной оказали ей Пурошюсы, во время болезни ухаживая за ней, кормя да убирая комнату. Разве не с этой целью перед тем, как покончить с собой, она положила деньги на видном месте? А видишь, как все получилось? Видишь, барышня? Ведь не вылезешь теперь из могилы из-за прошлогоднего долга, не объяснишь полиции, что совесть Пурошюса чиста, как стеклышко. Другой на его месте и не подумал бы по своей воле деньги отдать, а Пурошюс... Пурошюсу его честь стократ дороже капитала. Пускай никто не смеет его сыну Габрису бросить в лицо: «Твой отец вор!» Хватит, что вором был его дед... Раз уж так – нате, забирайте эти дурацкие деньги и пропейте за здоровье Пурошюса да за светлое будущее его сына Габриса...
Пурошюс не кончил своей речи, потому что Заранка пнул его сапогом в живот:
– Мелкий негодяй! Как ты смеешь мерить других на свой аршин! Сгноим в тюрьме! Подними деньги, поцелуй и положи на стол. А ты, господин Мешкяле, приглашай его близких. Пускай клубок до конца распутается.
– Помилуйте, – простонал Пурошюс, рухнув на землю и обхватив ноги Заранки.
– Эх, Пурошюс ты, Пурошюс. Какую пакость ты нам выкинул. Что деньги присвоил – это еще туда-сюда... Но как прикажешь понимать, с какой целью ты до сих пор не выдал Рокаса Чюжаса, а?
– Уже выдал. Уже перешагнул себя. Я уже Иуда, господин начальник, – заплакал Пурошюос.
– Тогда вешайся, когда отведем тебя в кутузку. Господин Мешкяле тебя любит. Ремня не отнимет.
– А сын? Как же мой Габрис будет жить без отца? Простите, я больше вас не подведу.
– Замолчи! Больше не верю ни единому твоему слову, значится!
Мешкяле с Заранкой выпили, чокнувшись рюмками, а Пурошюс, стоя на коленях, со слезами на глазах ждал приговора.
– Так что же будем делать, коллега Балис, с отцом Габриса? – заговорил, наконец, Заранка. – Может, отпустим? Одной сволочью больше или меньше – мир из-за этого вверх тормашками не перевернется. Пускай идет червяков копать да с сыном рыбу удить.
– Пускай. Ну его к черту!
Будто хорек бросился Пурошюс целовать руку Заранке, но тот не дал:
– Рано обрадовался. Рано. С сего дня увольняем тебя с работы. Жалованье больше получать не будешь. Иначе не можем. Совесть нам не позволяет.
– Ладно. Попробую жить с рыбной ловли.
– Работать на нас придется, Пурошюс, с сего дня по доброй воле. Получать будешь ровно столько, сколько вложишь усилий и доброй воли. Понял? Аккордная оплата!
– Понял, господин начальник.
– Моя первая просьба – не выпускать из виду Рокаса Чюжаса. Чтобы каждый его шаг был известен господину Мешкяле. Покамест мы его не тронем. Твое предательство, Пурошюс, нам еще не дает основания привлечь Рокаса Чюжаса к уголовной ответственности. Каждого преступника надо поймать за руку. Мы служим справедливости и поэтому должны соблюдать особую осторожность. Вспомни про Пилата Понтийского, который приговорил ни в чем неповинного Христа, поверив Иуде. Мы, католики, не имеем покамест права верить человеку, который предает другого, спасая свою шкуру. Верни нам веру, Пурошюс!.. Ты нас понял?
– Понял, господин начальник.
– Если будет серьезное уголовное дело, получишь серьезное вознаграждение. Вздумаешь водить нас за нос, запомни, погибнешь. Ясно?
– Ясно. Благодарю за совет.
– Носи на здоровье. Топай домой, Пурошюс. Помни, что ты нам нравишься. Ты хороший отец, хоть и вор.
– Благодарю за комплимент.
Остановившись на крыльце, Пурошюс услышал, что Заранка помирает со смеху, а Мешкяле вторит ему, даже захлебываясь...
Молния осветила мозг Пурошюса. Его же одурачили! Поймали на удочку! Будто жалкую уклейку! Сам не почувствовал, как укусил себя в палец.
– Ну погодите, ужаки! Воры и убийцы!
Вернулся Пурошюс домой, плюясь собственной кровью под заборы. У волостной управы едва успел юркнуть за клен. Чуть было не столкнулся лицом к лицу с землекопами, которые топали с работы домой. Пропахшие едким потом, куревом, грязные, сбившиеся с ног, но в добром духе. Рокас Чюжас о чем-то весело им заливал...
Странное чувство охватило Пурошюса. Зависть – не зависть. Как подружиться с ними? Как вернуть душе покой?
Той ночью зазвенело окно Пурошюса. Вся семейка вскочила с кровати. На рассвете Габрис обнаружил возле плиты камень, завернутый в бумагу, на которой было написано: «Пурошюс – Иуда».
– Ну погоди, Рокас Чюжас. Мы еще встретимся!
– Что ты там шепчешь, Тамошюс? – спросила Виктория.
– Молитву, мамаша, – ответил Пурошюс.
– Иди живо в полицию.
– Сама иди, раз хочешь.
Весть о том, что Пурошюс с Викторией уволены со службы, а на их место взяты брадобреи покойных Людвикас и Уршуле Матийошюсы, взволновала общественность Кукучяй. Одни радовались, что глас барышни Кернюте не вопиет в пустыне. Другие возмущались, что наказание слишком мягкое. Таких надо, мол, к суду привлекать или насмерть запороть в публичном месте, как в старое доброе крепостное время. Третьи ломали голову, какой капиталец успела сколотить Кернюте. Долго ли ты, Пурошюс дорогой, проживешь с чужого добра, стоило ли тебе руки марать? Четвертые отмахивались от Пурошюсов и смеялись над Матийошюсом. Дети босяков и те не отставали от взрослых. Под руководством Напалиса распускали языки, увидев Матийошюса, и метали камни, встретив Пурошюса. Первый укрывался дома или в кутузке, второй – в кустах. Виктория пустила слух, что ее муженек собирается повеситься. Розалия от имени всех бывших на крестинах босяков ответила Виктории:
– Если бы не Габрис, мы, бабы, для него сами подходящий сук подыскали бы, для ирода проклятого.
Единственный Рокас не осуждал и не ругал Пурошюса, даже в разговоры не встревал. Слушал, навострив уши, глядел в землю, будто кот, нагадивший в муку, да ждал, когда все поутихнет, и он сможет ночью прокрасться в Рубикяйский лес, снять с верхушки ели капитал Блажиса, отнести на хутор и швырнуть к конуре Саргиса, чтоб его больше не мучили дурные сны, чтоб не донимало дурное желание вернуться к Микасе... на чердак. Старуха Блажене, словно угадав его тайные мысли, прибегала к мамаше Розалии спрашивать, почему ее сын не возвращается, жаловалась, что приснился ей старик Бенедиктас и настоятельно потребовал удвоить Рокасу жалованье.
– Что скажешь, сынок? – воскликнула Розалия, на радостях прибежав даже на Медвежью топь с этой доброй вестью. – Может, иди? Может, не сожрут тебя эти ведьмы?
– Не пойду, мама. Ладно уж. Мы с отцом до жалованья кукушкиными яйцами прокормимся, а ты с Каститисом как-нибудь перебьешься...
– Ирод, одумайся. Скорее утонешь с землекопами в этой трясине, чем заработаешь столько, сколько Блажене предложила.
– А может, мы, маменька, дружно на Крауялиса поднажмем? Мошна у него потолще, чем у Блажене. Крауялиса Летулис еще не грабил.
– Как знаешь, сынок. Воля мамаше говорить, а сыну – не слушаться.
– Иди, маменька, домой. Не мешай.
И зашлепал Рокас по грязи к мужикам и снова копал канаву, швырял бурую грязь вверх, напрягая шею, стиснув зубы, потому что грязь стекала обратно, будто зачарованная, будто живая. Чем яростнее сражались мужики с трясиной, тем яростнее накидывалась она на мужиков. Даже лягушки хохотали, даже чибисы, паря над головами, спрашивали у кукучяйских работяг, живы ли еще?
И так одну неделю, другую, третью... Будто волы подъяремные. От зари до зари. А когда дотянули до первой получки, все поняли, что Розалия говорила правду.
– Кратулис-доброволец, нас надули!
– Мы тут сами удавимся.
– Штаны оставим!
– Умник Йонас, советуй!
– За куб такой жижи не пол-лита надо, а целый лит брать!
– Кукиш получишь от Крауялиса, а не лит.
– Надо подоить его мошну, как Рокас говорит. Не даст – так и по голове не даст.
Но пока босяки собрались посылать своих делегатов к Крауялису, он сам появился одним субботним утром в самый разгар дебатов. Еле-еле ноги приволок, держась за плечо мелиоратора Дундулиса, едва-едва на горку грязи забрался. А когда увяз, то и остановился:
– Бог в помощь, сказал бы... Но раз не работаете... Тогда – добрый день!
– Добрый-то добрый, только нелегкий! – ответил Рокас за всех удивленных босяков.
– Значит, политикой занимаемся, мужики? – просипел Крауялис, навалившись пузом на трость. – Значит, гадаем, Умник Йонас, чья Литва будет?
– Чья будет, тот и заберет, – ответил Рокас за отца. – Только вот беда, господин дядя, что мы в вашем болоте увязнем. Ни назад не получается вернуться, ни вперед не оплачивается шагать.
– Ничего, ребята! Не унывайте, – ответил Дундулис. – Все лето еще впереди. До поздней осени как-нибудь доберетесь до берега.
– Вам легко говорить, господин, – не выдержал Умник Йонас. – Вы на белой бумаге Медвежью топь осушили и теперь смеетесь, положив денежки в карман. А топать по этому болоту нам, а не вам.
– Поздно сказал, папаша, – побагровел Дундулис. – Могли работой поменяться.
– Ты отца не ругай, барин, – ответил Рокас. У тебя же ручонки белые. Пожалел отец. За кровавые волдыри господин Крауялис прибавки к жалованью не дает.
– Хо-хо-хо! – захохотал Крауялис, даже чибисы притихли. – Чей это паренек?
– Мой, господин Крауялис, – ответил Умник Йонас.
– Неужели тот, что в великий пост родился, перед днем врунов?
Умник Йонас побледнел, а Рокас ответил:
– Не тот, господин дядя. Вы уж простите, промашку дали. Я – Рокас, а тот, который моего папеньку в великий пост порадовал, – ваш тезка. Он еще в кровати валяется. Он побольше даже барин, чем вы. Ничего не делает, никуда не ходит, только жрет, спит и... Сами понимаете, господин дядя. Настоящий трутень.
Теперь побледнел уже Крауялис и, вытащив из-под брюха трость, замахнулся... Не ударил. В небо ткнул:
– Не завидуй господам, паренек. Завидуй птицам небесным, которые не сеют, не жнут, а живут. – Голубая жила на лбу Крауялиса раздулась, он задохнулся, закашлялся и, отдышавшись, продолжил: – Меньше занимайтесь политикой, ребята. Работайте больше. Политика – не для нас. Счастье простого человека – в труде, ученого – в науке, молодого – в любви, а старика – на небеси, как умные ксендзы говорят, а мы, дураки, верим. Почему замолчал, Умник Йонас? Мы-то с тобой, кажется, одногодки? Есть ли рай, говори? Есть ли вечное счастье?
Йонас опустил голову. Заговорил Рокас:
– Я скажу, господин дядя.
– Говори, паренек.
– Но я не задаром.
– Чего хочешь?
– Двадцать центов прибавь за куб этой жижи!
– Кыш, поросенок.
– Прошу простить, господин дядя. Мы все, как увидели вас, подумали, что вам уже все известно.
– Что ты тут мелешь?
– Неужели не дошел до уха вашего слушок, что мой бывший хозяин Бенедиктас Блажис своей бабе во сне явился?
– И что с того?
– Он велел мне жалованье удвоить, если я батрачить вернусь.
– Так чего тут маешься? Чего на Цегельне не бежишь?
– По глупости своей... подумал, что вы с бывшим скупердяем из Цегельне уже связь наладили. Ведь говорят, на небо никому не позволяют денежки пронести. Мой хозяин с одним кукишем туда отправился – и счастлив, говорят...
Крауялис не смог даже трость из ила выдрать. Торчал высоко, увязнув всеми тремя ногами.
– Пойдемте, господин Краунялис, – сказал Дундулис, подав руку. – Не стоит нервы трепать с этим сопляком.
– Подожди, почтенный. Сын Умника Йонаса чистую правду говорит. Мне ни деньги не нужны, ни эта болотная жижа. Я скоро буду на том свете, а сюда придут большевики, и все будет ваше! Работайте, мужики, и ждите. Если вместе дождемся, Крауялису спасибо скажете. Если успею умереть – сотворите молитву и скажете своим детям: «Не напрасно жил Костантас Крауялис. Голова его за всех нас работала... Поздно поняли. Живого проклинали, а мертвого почитаем и у господа рай для него вымаливаем». Только запомните, Крауялису рай не надобен. Вы все ему дороги, ваше будущее. Так что похороните меня не на песчаной горке, где вы все лежать будете, а вот здесь, в этой осушенной трясине, где дети ваши и внуки седьмой пот проливать будут, не собирая чибисовы яйца или клюкву, а убирая хлеба. Вот так, братцы мои! Вот так! Выройте мне могилу здесь. Лучшего памятника Крауялису не будет, чем пшеничный колос да смех сытых детей.
– Аминь! – сказал Рокас. – Прошу не умирать раньше срока, господин дядя. Лучше нам заранее заплатите.
– За что?
– За могилу.
– Ну и нахал же твой сынок, Умник Йонас. В кого он уродился?
– Розалии кровь‚– ответил Йонас и съездил тылом ладони Рокаса по зубам.
– Хо-хо-хо! – захохотал Крауялис. – Молодец, Йонас! Гни дерево, пока молодо!
Кое-как выдернул Крауялис все три ноги из ила и, попрощавшись, удалился вместе с Дундулисом, оставив после себя скверный запах...
– Шутки шутками, а от этого господина дяди форменным трупом несет, – сказал Рокас, сморщив нос.
– Хватит! Еще в зубы хочешь?
– За что, папа? Он над нами смеяться может, а мы – нет?
– Твоя правда, Рокас, – согласился Кратулис.
– Не порть мне ребенка. Пошли лучше работать.
– Пошли, папа, – ответил Рокас. – Работа дураков любит.
Взревели босяки и снова набросились на болото, яростно швыряли жидкую грязь вверх. Даже небо ею заляпали, даже солнце...
– Гип!
– Гоп!
– Вперед, за родину, Кратулис!
– Вперед за Крауялиса!
– Испортил воздух, ирод!
– Гип!
– Гоп!
Поправилось настроение у землекопов. Чтоб его хромой бес драл, никто из этих босяков не поменялся бы с этим старикашкой. Тоже мне барин, раз ни мяса кушать не может, ни водки пить. Одним пахтаньем, говорят, жив. Самое время Крауялису отправиться к Аврааму. Вот вздохнула бы Текле после долгого поста, вот порыдала бы слезами радости, вот покуковала бы, пока господина Мешкяле в свое поместье не заманила бы. А может, ты, доброволец Кратулис, утрешь нос этому полицейскому жеребцу во имя благосостояния всех кукучяйских босяков?