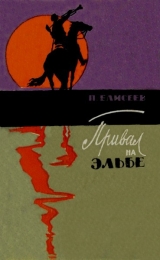
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
11
Сентябрьская ночь. Темно-синее небо опустилось низко, на самые вершины сосен. В лесу, на опушке которого полк занял оборонительный рубеж, так тихо, будто и нет поблизости немцев. Пермяков пришел с командного пункта, присел на корточки возле бойцов, лежавших в окопах, шепотом спросил:
– Все поужинали?
– Все! И куревом запаслись, и сахаром, и консервы получили на два дня.
– Слушайте, товарищи. Командир полка приказал послать разведку в Шатрищи, узнать о силе противника, достать «языка». Желающие есть?
– Я пойду, – отозвался парторг Величко.
– Вы останетесь. Обойдите взводы, спросите, кто хочет пойти в разведку.
Вскоре к командиру эскадрона пришли десять бойцов.
– И вы, товарищ Элвадзе, собрались? – В темноте всматривался Пермяков в лицо комсорга.
– Душа вон – отомщу за моего кровного брата Михаила.
– Ничего не имею против такого желания, – проговорил Пермяков и удивился. – Тахав? Вы же ранены.
– Если бы я в могиле лежал, все равно вступился бы за Михаила. Это он слез со своего коня, а меня посадил…
– Не знаю, как быть с вами, Тахав. Утром только контузило вас. В санбат вы отказались ехать. И сейчас лица на вас нет…
– Не смотрите на лицо, товарищ командир, – сказал башкир, – моя сила в сердце.
– Он кощей бессмертный, – заметил Элвадзе. – Убитым не отстанет.
– Себя не хвали, другого не хай, – оборвал Тахав друга.
– Не обижайся. Я хотел сказать, здоров ты, можешь идти с нами в разведку, – успокоил Элвадзе товарища.
– Так сразу и сказал бы. – Тахав ткнул себя пальцем в грудь. – Могу, здоровье есть.
– Но ты ведь ординарец командира. Как ты оставишь его? – дипломатично напомнил ему Элвадзе. И это единственно подействовало на башкира. Он испытующе посмотрел на Пермякова и покорно спросил;
– Товарищ командир, может, я не нужен буду вам, седлать не придется?
– Седлать – дело небольшое, – ответил Пермяков. – Я и сам подтяну подпруги. Что ж, идите, если чувствуете себя неплохо.
– Есть идти! – повеселел Тахав. – А ты, Сандро, брось такие шутки – одним концом угощать, а другим по башке бить: «Можешь идти, но ты ординарец». Не люблю такой подход!
– Ну что же, в добрый путь, – сказал Пермяков. – Может, Елизарова найдете…
Вера, лежавшая в шалашике, наспех сооруженном бойцами для своего фельдшера, вздрогнула, услышав эти слова. Жутко стало ей при мысли: «Где же он? Что с ним?»
– Самое главное, не теряться и не робеть ни при каких обстоятельствах, – донеслись до Веры слова командира эскадрона.
Разведка казалась Вере самым опасным делом. Идти ночью, найти врага, схватить его без звука, не дать ему и дыхнуть – железные нервы надо иметь. Она удивлялась, слушая разговор бойцов – спокойный и шутливый, будто они собираются на охоту.
– Начальником разведки будете вы, товарищ Элвадзе, – сказал Пермяков, – можете отправляться.
– Разрешите покурить.
– Пожалуйста, только осторожно с огнем.
– Давай, Тахав, закурим. Курите все, а там, в разведке, забудьте, что есть на свете табак, – напомнил Элвадзе.
– Подходить к селу надо с южной стороны, – приказывал Пермяков, – менее опасное место.
– Кустами, – подхватил Элвадзе. – Там где-то дорожка есть глухая.
– Кто знает дорогу? – спросил Пермяков.
Все молчали. Никто хорошо не представлял себе ту окраину. Вера, слушая разговор, волновалась. Она знала не только ту дорожку, а каждый кустик, каждую кочку вокруг своего села…
– Ну да ладно, пойдем, – сказал Элвадзе.
Вера выскочила из шалашика и решительно заявила:
– Я знаю ту дорогу, пойду покажу.
– Спокойно, – сказал Пермяков, – раненых там нет, будем надеяться, и не будет.
– А может быть, есть, – тихо сказала Вера, – может, Елизаров там мучается.
«Наверно, уже расправились с ним фашисты, – подумал Пермяков, вглядываясь в лицо девушки. – Вдруг что – случится и с нею – не прощу себе никогда».
– Пойду я, – настойчиво повторила Вера.
– Хорошо, идите, – сказал Пермяков, – покажите дорогу и вернитесь в эскадрон.
Идти было километра два с половиной, но путь показался долгим, опасным. Покажется ли в темноте кустик, копно, деревцо, вспорхнет ли ночная птица, хрустнет ли хворостинка – все заставляло настораживаться, приседать, вслушиваться, всматриваться.
Дошли до кустарника. Вера вывела казаков на глухую тропку и пошла с ними дальше. По грязной осушительной канаве подкрались к крайней хате, неподалеку от которой были сложены небольшие кучи торфяных кирпичей.
В воздухе словно сова пролетела: взвилась осветительная ракета. Элвадзе подал знак, и все залегли.
– Неужели заметили нас? – шепнул он Вере.
Кругом стало светло как днем, хоть читай газету.
Разведчики замерли. Немецкий часовой, держа автомат наготове, осматривался по сторонам.
Вечностью потянулись минуты. Ракета висела, словно вцепилась за что-то в воздухе. «Будь ты проклята, – волновался Элвадзе, – когда же погаснешь, неужели всю ночь будешь гореть?»
Солдат, стоявший перед хатой, поворачивал голову то вправо, то влево.
– Дышите в рукав, – шепнул Элвадзе.
Ракета меркла, опускалась ниже и ниже.
«Как бы тебя смазать?» – подумал Элвадзе, не отрывая глаз от часового.
– Нет ли палки или камня? – шепотом спросил он товарищей.
Тахав передал ему сырой ивовый корень. Элвадзе на корточках пробрался меж торфяными кучками ближе к солдату, стоявшему перед хатой, и бросил тяжелый корень. Бросок был меткий и сильный. Солдат выронил автомат и взялся рукой за подбородок. Элвадзе бросился на гитлеровца, заткнул ему рот пилоткой. Возле него, словно тень, очутился Тахав. «Каюк?» – шепнул он. Вдруг, как перепуганный зверь, вскочил из-под забора подчасок, должно быть мирно дремавший на своем посту. Тахав успел ударить его прикладом по макушке, и тот упал.
– Тащи шакалов в канаву, – приказал Элвадзе и поднял немецкий автомат.
Разведчики снесли часовых в рощицу, посадили их рядом. Один часовой не мог сидеть, все валился на бок, как куль.
– Ну и аллах с ним, пускай лежит, – благодушно сказал Тахав.
– Пускай, – добавил Элвадзе, – отлежится. Смотрите, чтоб пилотки изо рта не выбросили, а то заорут, – приказал он трем разведчикам, которые остались с пленниками. – А мы пойдем понюхаем, чем пахнет на селе.
– Может, довольно? А то спохватятся фашисты, не выбраться тогда отсюда, – несмело прошептала Вера.
– Правду говорит фельдшер, – подхватил Тахав. – За многим пойдешь и малое упустишь.
– У нас на Кавказе говорят по-другому: много – хорошо, больше – лучше, – возразил Элвадзе.
– Не надейся на крепкий сон врага.
– Узнают немцы, что их карабаи[8]8
Кличка собаки (башкир.)
[Закрыть],– указал Тахав на пленных, – пошли на сабантуй, будут землю рвать, небо жечь.
– Верно, Тахав, но и мы не будем хлопать ушами.
В кустах зашуршало. Разведчики приникли к земле, вскинули карабины и автоматы.
Совсем близко раздвигались кусты. Кто-то щелкнул затвором.
– Не стреляйте, свои, – послышался детский голос.
Из кустов вынырнули пять парнишек.
– Костюшка, братец, откуда ты? – Вера обняла мальчика.
Костюшка прижался к сестре, как к матери.
– Что вы здесь делаете? – спросила Вера, не выпуская брата.
– Ходили на задание, поворачивали на перекрестках немецкие указки.
– Как поворачивали?
– Как? – повторил Костюшка. – Указка указывает на Ямполь, а мы ее в другую сторону. А там немцев ждут партизаны.
– Тимуровская работа, – сказал Элвадзе. – Что в селе?
– Убивают кого попало, застрелили Кирю, – мальчик прижался к сестре.
– За что?
– Зашли к ним фашисты, спросили яиц. Кирька сказал: «Нету». Немец обшарил хату, нашел яйца и за обман застрелил Кирьку.
Бойцы лежали, как неживые, слушая рассказ мальчика. Элвадзе кусал ногти до крови.
– А, сазизгари! – вырвалось у него. – Ну дрались бы с нами. Чем виноваты дети, женщины? Смерть сазизгари! – он схватил карабин у Тахава и занес приклад над головой немецкого солдата.
– Не кипи, – схватил Тахав Элвадзе за кисть руки.
– Вера, немцы Михаила поймали, – печальным голосом сказал Костюшка.
– Елизарова? – грузин отскочил от солдата и схватил мальчика за плечи. – Где он?
– В сарае больницы… Какой страшный! Весь в крови, лицо ранено, нога тоже. Еще одного красноармейца бросили к нему, тоже раненого.
– Значит, живой? – Вера не выпускала брата из объятий.
– Днем живой был, стонал. Я подходил к сараю, крикнул ему: «Михаил!», а немец чуть не застрелил меня, хорошо успел я прыгнуть в речку.
– Глупый, я же тебе говорила, не оставайся у немцев.
– Не успел бежать.
– Теперь конец думам, – решительно сказал Элвадзе. – Поднимайтесь.
– Да, другой теперь разговор! – встал Тахав. – За товарища в огонь бросайся.
– А как нам лучше пробраться к больнице? – спросил Элвадзе.
– Я провожу, – назвалась Вера.
– Отставить! Сейчас вернетесь в часть с товарищами, которые поведут немцев.
– Я покажу, – вызвался Костюшка.
– Ты, браток, иди спать! Ложку с собой положи, может, кисель приснится.
– Не думай, что я маленький, – обиделся Костюшка, – это что? – Он показал гранату.
– Погоди, где ты взял?
– Нашел на том месте, где лежал Михаил. Он не успел бросить ее…
– Дай сюда, – сказала Вера, – взорвешь еще себя.
– Куда там! Будто я не знаю, как их бросать. У нас еще есть.
Элвадзе разрешил мальчику оставить гранату. Костюшка обещал отнести ее к партизанам.
Пошли разведчики выручать товарища.
12
Елизаров лежал в темном холодном сарае. Возле него стонал сын уральского лесника Ломакин с перебитой ногой. Стоны его раздирали сердце Михаила. Ему жалко было раненого, но помочь он ничем не мог. Доля их одинакова: оба невольники… Что их ждет? Будут ли они живы через день, через час, через минуту?
– Крепись, Ломакин, – говорил Елизаров товарищу. – Рана твоя не опасна. Нагрянут наши на зорьке, и будем сто лет жить!
– Ох, если бы так!
В сарае тихо и холодно, словно в могиле. Ничего теперь Михаил не желал бы, как только получить шинель, которую немцы отобрали у него. «Хоть бы соломы дали, проклятые», – думал он, стуча зубами.
Лязгнул замок. Скрипнула дверь. В сарай вошел немец с санитарной сумкой. Вспыхнул электрический фонарик.
– Больно? – немец достал бинт, суетливо оглядываясь и прислушиваясь. – Я, фельдшер, помогаю немножко, – сказал он на ломаном русском языке и стал накладывать на раненый подбородок казака повязку. – Русишь зольдат стреляй, германский зольдат стреляй – польза нет, – сожалеючи, качал он головой.
«Видно, война не по душе пришлась», – подумал Михаил, кривя от боли лицо.
– Сколько годов?
– Двадцать два, – глухо ответил Михаил.
– Ребенки есть ваши?
Казак отрицательно покачал головой: ему больно было говорить.
– Я ребенки имею, хочу домой. Офицеры не разрешала приказаль стрелять – польза кому? Давай нога перевязать буду, – сказал фельдшер, достал ножницы и стал резать штанину.
Елизаров испуганно ухватился за брючный карман. Немец нащупал под темно-синим сукном бумажки, достал их, осторожно оглядываясь, стал читать: «Заявление. Прошу принять меня в мужественные ряды славной армии ленинского комсомола»…
– Комсомоль? Гут. Хорош. – Фельдшер кивал головой. – Наш офицер видаль – плёхо будет. Я спрятал, – сунул он в свой карман документы, завернутые в пергаментную бумагу.
– Я тоже комсомоль бил… Где ваш часть? Я пойдет в плен. – Он достал советскую листовку и показал пропуск, набранный жирным шрифтом и обведенный рамкой.
Михаил обрадовался, ожил, увидал в руках немца знакомую бумажку.
– Не знаю, отстал я, – поморщился раненый от боли.
– Правда, правда, ваш часть отступиль. Как фамилия командир полка? – фельдшер подал пленному папиросу.
Михаил молчал. Зажмурив глаза, он дотронулся рукой до раненого подбородка.
– Трудно говорить? – немец сочувственно посмотрел на казака, положил перед ним записную книжку и карандаш, панибратски похлопал Елизарова по плечу и вышел.
«Зачем ему фамилия майора?» – размышлял казак.
Фельдшер скоро вернулся. Он принес котелок горячего молока.
– Ессен зи. Кушай, я говориль, – сказал он, приветливо улыбаясь.
«Не понимаю, чего он хочет», – подумал Михаил, глядя немцу в глаза.
Он отстранил рукой котелок и отрицательно покачал головой.
– Плёхо, почему не кушаль? Я любит русски зольдат. Вы какой полк служиль?..
Михаил отвернулся, проклиная ту минуту, когда схватили его в плен. «Голову сложу, но тайну не скажу», – вспомнил он солдатскую клятву.
Плёхо ваш характер… Я – коммунисти, – тихо сказал немец. – Зналь Тельман, читал вашу «Правду», – показал газету фельдшер.
Михаил вздрогнул. Радостно было видеть родную газету, радостно, что ясная правда проникла и на другую сторону рубежа.
– Я давно плен хотель – фашист следиль меня, – шептал фельдшер.
Раздался выстрел, другой, третий, взорвалась граната. Словно кипятком ошпарило фельдшера. Он выскочил из сарая, забыв свой фонарик. Немцы открыли беспорядочный огонь. С грузовика заговорил пулемет. Пули свистели над Михаилом, впивались в толстые бревна. Звякнул фонарик – свет погас. Темно стало как в погребе…
Русские разведчики пробрались было к сараю, но немцы заметили их. Началась стрельба. Элвадзе и его товарищи, отстреливаясь, отползли к реке. С ними был и Костюшка.
Прячась меж кустов, разведчики затаив дыхание уходили все дальше и дальше. На южной окраине села река Шатринка изгибалась, теряясь в зеленых ивах, в непролазных колючих кустарниках, окутанных диким хмелем. Идти стало трудно. Колючие кусты и шипы боярышника кололи руки и лица. В небо то и дело взлетали яркие ракеты. Несмолкаемо трещали пулеметы. Элвадзе решил переждать опасность. Он опустился на сырую землю и горько задумался. Сгоряча он поторопился с нападением на сарай. Немцы оказались бдительными. Они бодрствовали, и вот… убили трех разведчиков.
– Нарвались… – протянул Тахав. – Трех товарищей как шайтан сожрал. Нам тоже каюк будет. – Он безнадежно махнул рукой и лег рядом с грузином.
Элвадзе хотя и был потрясен неудачей, но уныние товарища ему не понравилось, и он резко возразил Тахаву.
– Сам погибай, а товарища выручай! – так говорил русский полководец Суворов.
Тахав не унимался:
– Смотри, как бьет шайтан.
Совсем недалеко раздался лай.
– Немецкие овчарки, – прошептал Костюшка.
Тахав вспомнил своего волкодава, с которым затравливал волков в башкирских степях и лесах. «Вот бы сюда его, – подумал он. – Разорвал бы в клочья немецких овчарок».
– Быть начеку, – глухо произнес Элвадзе.
…Вера отправилась было с разведчиками, которые повели захваченных немцев. Но когда услышала стрельбу, она вернулась, пришла на то место, где еще недавно все были вместе, и стала ждать. В голове возникла ужасные мысли. Ей казалось: Михаила уже убили, Костюшка попал под пули, разведчиков уничтожили. А может, вернутся товарищи ранеными? Она укрылась в гуще кустарника и, дрожа от страха и холода, ждала.
В селе не прекращалась пальба. Немцы прочесывали окрестности селения. В небе то и дело вспыхивали белые пучки ракет. Вера сидела в роще в трехстах метрах от крайней хаты.
Воздух после полуночи становился холоднее. На землю ложился густой туман. Вера скорчилась под колючим кустом. Вдруг послышался шорох. Девушка встрепенулась. Кто? Свои или чужие? Вера крепко сжала пистолет. Но выстрелить не успела. На нее с диким лаем бросилась большая, как волк, немецкая овчарка. С гиком подскочили гитлеровцы и схватили девушку в полувоенной форме.
– Партизан! – прошипел гитлеровский офицер.
13
Дверь сарая отворилась. Луч света прорезал сырую тьму и упал на лицо Михаила.
– Товарищ Елизаров, – произнес фельдшер, – партизан помешаль нам, стреляль. Вы писали на мой бумага?
– Убирайтесь! – зло сказал казак и уткнулся головой в землю.
– Жаль, не вериль мне… А какой твой польк? – дергал фельдшер Ломакина за плечо. Уралец от потери крови начал коченеть.
– Елизаров, ты думай хорошо, повериль мне. Я тебе добро желаль. Ты замерзаль, – фельдшер проворно вышел и принес шинель.
Весело ухмыляясь, он накинул ее на Михаила.
– Не скажи офицер… За помощь и шинель меня хы-ык, – фельдшер провел пальцами по своей шее. – Будешь жив. Утром отправиль вас в тыл, лагерь военнопленных… Ты артиллерия?
Елизаров покачал головой и с трудом прошептал:
– Я казак донской…
– Хорош, хорош казак. Командир полка тоже казак. Как фамилия командир дивизия? Доватор? Белов?
– Нет, – Михаил подозрительно взглянул на немца. «Почему у него с языка не сходит слово «командир»?»
– Ничего я не скажу! – Михаил отвернулся.
Фельдшер нахмурился. Глаза его стали злыми.
Некоторое время он молча смотрел на раненого и вдруг яростно бросился на него:
– Я заставиль тебя, комсомол!
Фашист сдернул повязку с лица раненого казака, бросил окровавленный бинт на землю, ударил пленника носком сапога по голове и громко свистнул.
В сарай вошел фельдфебель, круглолицый, со вздернутым носом. В руках у него был фонарь с широким двойным фитилем, от которого тянулось вверх, как красный лист, колышущееся пламя. Гитлеровцы о чем-то поговорили между собой и приступили к допросу. Фельдшер наступил тяжелым сапогом на раненую ногу Елизарова.
– Будешь говорить?
Михаил закрыл глаза, стиснул зубы. Боль электрическим током пробегала по всему телу, кровь из раны и разбитого носа заливала лицо.
Казак молчал. Фельдшер выхватил из сумки острый нож, резнул им по левому уху Михаила. Кровь брызнула в лицо фашиста.
– Молчаль будешь – капут! – крикнул немец.
Он выдергивал волосы из головы раненого, колол иголкой шею, затылок, под ногтями. Елизаров не проронил ни слова. Он только судорожно вздрагивал и глухо мычал, когда боль становилась нестерпимой.
– Не будешь говорить? – спросил фельдшер. – Капут тебе будет, – повторил он, продолжая глумиться над раненым.
14
С утра немецкие солдаты рыскали по дворам, тащили из хат горшки, хлеб, кукурузу. Во дворах раздавались выстрелы, слышался плач детей, женщин. И все эти звуки, доносившиеся до Михаила, только что пришедшего в сознание, раздирали его сердце.
Дул холодный ветер, лил дождь. Сквозь старую тесовую крышу студеные капли падали на голую грудь Михаила. Раненый и истерзанный, он совсем озяб. Зубы стучали, вызывая мучительную боль в раненом подбородке. Он пытался сжать зубы, чтобы умалить боль, но не мог – ныли челюсти. На дворе послышались шаги. Михаил прислушивался с каким-то холодным равнодушием. «Все равно прикончат, – думал он. – Хорошо, что выдержал пытку. Теперь и умереть не стыдно»…
Скрипнула дверь. В сарай кого-то втолкнули. Дверь сразу захлопнули. Сквозь щель пробивался свет.
Михаил увидел Веру, обомлел. Что-то невероятное происходит.
– Родной мой, живой?
Она села рядом с ним, приподняла его голову, положила себе на колени.
– Мученик, – разрыдалась Вера, увидев его изуродованную грудь и окровавленное лицо.
– А с тобой что они сделали? – спросила она Ломакина, дотронулась до его холодной руки и прошептала: – Умер.
Вера платком, смоченным слезами, стирала кровь с лица Михаила.
– Как ты попала? – спросил он ее.
Она рассказала про несчастную ночь.
– Хоть перед смертью увидела тебя…
– Как не хочется расставаться с жизнью, Вера… Не плачь, милая, не надо. Мне легче стало. Согрела ты меня, умыла своими слезами…
Она нежно гладила его жесткие волосы. Холодный ветер, сырая земля, голод отнимали последние силы у раненого, дрожавшего всем телом.
На улице раздался гудок машины. За сараем забормотали немцы. Вера затряслась от страха. Она пуще смерти боялась, что отнимут у нее Михаила или увезут ее навсегда от него. Она прижала его руку к своей щеке. «Какая холодная», – подумала Вера и приложила лицо к его холодной щеке, чтобы согреть и ее. Она дышала на его пальцы, смотрела в черные измученные глаза.
– Допрашивали тебя? – спросил Михаил.
– Да, но я ничего не сказала. Дали срок подумать.
– Ох, как меня допрашивали! Казнили заживо… Крепись, Вера, не выдавай тайны.
В сарай вошли гитлеровцы. Они жестом приказали Вере выйти. Девушка обняла Михаила, целовала его лицо, глаза. Фашисты толкали ее пинками.
– Погодите еще минуту, – вырывалась Вера. Она знала, что это последние минуты прощания. Больше уж никогда не увидит она его, и ждать будет неоткуда.
Солдаты схватили Веру, вытащили из сарая и привели в большую избу, где находилась штаб-квартира. На окне стоял пулемет, на столе телефон и радиоприемник.
Вошел генерал Хапп в сопровождении майора Роммеля, рядившегося ночью в костюм фельдшера.
Генерал сам решил допросить девушку. Его смертельно пугали партизаны.
– Сколько вам лет, партизан? – спросил он вкрадчиво.
– Это не имеет значения, – ответила Вера, смущенно натягивая на грудь лоскуты рваной гимнастерки.
Любуясь красивой девушкой, Хапп дотронулся своими мягкими пальцами до ее подбородка. Вера ударила генерала по руке. И это ему, видно, понравилось. Он охватил ее лицо обеими руками и, стараясь казаться добрым, сказал:
– Такую можно и полюбить…
Вера, отбиваясь, укусила палец генерала.
– Волчица! – Хапп ущипнул пленницу, отошел в сторону и сказал: – Допросить!
Роммель ударил Веру по спине резиновой палкой. Девушка упала на пол. Сжимая ей шею и уши железными пальцами, майор добивался ответов: откуда она, кто прислал ее, где партизаны? Вера лежала бледная, неподвижная.
Упрямое молчание девушки бесило врагов. Роммель взял две иголки и начал колоть ее плечи. Вера не издала ни звука. Чтобы не разрыдаться, она кусала губы.
– Дикарка, скажи все, и бить не будут тебя, – с притворным сожалением сказал генерал Хапп.
Вера молчала.
Роммель опять взял резиновую палку и, оголив спину пленницы, стал бить. Резина не оставляла на спине кровавых следов. Но боль от ударов впивалась в сердце, отдавалась в легких. Дышать стало тяжело. В глазах потемнело. Гитлеровец дернул ее за волосы. Вера открыла глаза. Она взглянула в окно, увидела кусок бирюзового неба, ветку яблони. В глазах от удара вспыхнул огонь и погас…
Веру без сознания бросили в сарай. Долго Михаил держал ее голову на своем плече. Наконец она пришла в себя. Истерзанное тело горело. Хотелось пить. Собравшись с последними силами, девушка села. Михаил опять прижал ее голову к плечу, молча смотрел в измученное лицо. Ему все было понятно: она выдержала пытку.
В центре села на площади, недалеко от моста, который Величко минировал под прикрытием автоматной стрельбы Михаила, была выкопана большая яма. Фашисты сгоняли сюда женщин, старух, детей, приволокли избитого Охрема – пчеловода колхоза, не успевшего уйти к партизанам. Привели и Веру.
К толпе подкатила штабная машина, охраняемая автоматчиками и зенитным пулеметом, установленным на крыше. Из машины вышел майор Роммель в кованых сапогах, темно-серых брюках навыпуск. На его плечах блестели шелковые погоны, на груди висели два железных креста с тонкими белыми ободочками. Он подошел к караулу. Унтер-офицер щелкнул каблуками и коротко доложил;
– Господин майор, могила готова, население собрано.
– Отлично! Подождем генерала.
Немного погодя в сопровождении двух офицеров приехал генерал Хапп. Он по всем правилам, держа полусогнутые пальцы у широкого козырька фуражки, закрывавшего всю верхнюю часть лица, выслушал рапорт майора Роммеля. Генерал закурил и бросил спичку в яму.
– Вы знаете эту партизанку? – спросил он жителей, указав на Веру, посаженную на край могилы.
Майор Роммель перевел слова генерала.
Народ молчал.
– Тогда я и вас расстреляю, если вы не скажете, кто она и где партизаны.
Низкое солнце коснулось верхушек лип, ронявших в реку последние листья.
Недалеко от ямы напротив согнанных сюда людей стояли немецкие солдаты с автоматами. Хапп приказал своим подчиненным выстроить жителей, вывести каждого пятого человека и поставить на край могилы.
Вера с жгучей болью смотрела на своих односельчан. «Великое горе, мои родные, – думала она, – как вам помочь? Спасет ли моя смерть вас, невинных, поставленных на край могилы?»
На площади появился важный старичок с жидкой седой бородкой. Он с достоинством поклонился генералу Хаппу и предложил ему свои услуги в посредничестве, чтобы заставить партизанку признаться. Генерал, мигая левым глазом, проговорил: «Гут, гут». Старичок подошел к Вере и сказал:
– Признайся, спаси народ.
Вера вздохнула и проговорила:
– Не убивайте людей. И я все расскажу…
– Не смей! – выкрикнул дед Охрем, выступив из толпы.
Майор Роммель выстрелил.
– Нас смертью не запугаешь! – успел проговорить Охрем и свалился перед Верой. Слова седого старика прозвучали в ее ушах как заклинание.
Генерал Хапп, прищурив левый глаз, похвалил своего помощника:
– Отлично! Ведите ее…
Веру привели опять в штаб-квартиру. Тут же был и тот старичок, которого, видимо, принял сам Хапп, и Вера подумала, что перед ней не простой человек. Старичок не замедлил подкрепить это мнение. Он протянул пожелтевшую бумажку Хаппу и, как молитву, произнес:
– Граф Прушницкий. В колхозе коротал свой век ветеринаром. Надеюсь, господин генерал, с вашей помощью я вновь обрету свое графство…
– Превосходно, граф, – вернул ему Хапп документ. – Такие люди мне нужны…
Генерал подошел к Вере, забившейся в угол. Он стал хвалить ее, называл раскаявшейся грешницей, которую ждет щедрая милость. Хапп назвал себя гуманистом, готовым внять мольбе любого человека. Он задавал вопрос за вопросом: где партизаны, сколько их? Вера с трудом проговорила:
– Если вы гуманист, дайте мне опомниться. Я замучена.
Прушницкий попросил разрешения выходить девушку, подготовить ее к допросу. Генерал ответил, что дает срок до утра.
Веру отвели в сарай, где лежал Михаил. Прушницкий принес ей пищу, шепнул:
– Покормите и солдата.
И вышел из сарая.
– Какой-то новый ход, – тихо сказал Михаил.
Вера, обняв своего друга, задумалась над его словами. Почему так легко старик втерся в доверие немцев? Не двойная ли это игра? Она сызмала знала этого старика ветеринара. Работал он честно. С больным теленком или ягненком возился, как с человеком. Закончит, бывало, работу на колхозной ферме, зайдет в клуб или в правление колхоза, разговорится, начнет учить уму-разуму и старых и молодых. Для каждого человека у него было особое слово. Люди удивлялись его знаниям и мудрости. Судили-рядили о нем по-разному. Одни говорили, что он «из бывших», другие считали его православным проповедником. А за любовь к поучениям прозвали его «просветителем». Эта страсть не погасла в нем и при немцах. Как только он поладил с Хаппом, сразу стал поучать его.
– Господин генерал, ваш метод, – указал он в окно на виселицу, – не будет иметь эффекта. Я очень хорошо знаю психологию советских людей. Насквозь идейные. Будете вешать их – ничего не добьетесь. Вот вам примеры: девушка эта стояла перед петлей и не проронила ни слова; старика пчеловода застрелили, а он, умирая, сказал: «Смертью нас не запугаешь».
– Ничего, – протянул Хапп, – наш метод может быть и эластичным. В этом я не исключаю и вашу помощь, – добавил генерал и предложил графу сигарету.
– Служить я готов, но в качестве кого? – не смущаясь, спросил «просветитель».
– Для начала я назначаю вас старостой. А потом мы оценим вашу службу по заслугам.
К Хаппу подошел адъютант и подал пакет, опечатанный сургучом. В секретном письме говорилось, чтобы начальник особого отдела полевой жандармерии генерал Хапп направил в означенную инстанцию пленного казака Михаила Елизарова для пропагандистских целей. Майор Роммель, стоявший как тень рядом с Хаппом, самозабвенно отчеканил:
– Значит, и там понравились его документы. Примечательный экземпляр – донской казак!
– Выгодное сословие! – торжествующе сказал Хапп. – Покажите мне его.
«Экземпляр» понравился генералу. Красивое лицо, кудрявый чуб. «За такой экземпляр могут и похвалить, – подумал Хапп. – Жаль, что исполосовали сильно».
– Прикажите умыть его, переодеть в чистое белье, покормить – словом, создать у него хорошее мнение о нас.
– Не поддается, господин генерал, – виновато признался Роммель. – Нм письменно, ни устно не дает показаний. Какой же смысл отправлять его? Он и там ничего не скажет.
– Майор, не возражать! Приказано доставить – и никаких разговоров. Подготовить пленного! Выполняйте!
– Будет исполнено, господин генерал! – Майор вытянулся, козырнул и вышел.
Вскоре он вернулся и доложил, что пленный «подготовлен к отправке». Генерал Хапп еще раз осмотрел казака и снисходительно сказал ему:
– Я сожалею, что вы с моим майором не сговорились. Но что случилось – не вернешь. А будущее ваше я устрою: отправлю вас в лучший госпиталь для лояльных военнопленных.
Елизаров мрачно проговорил:
– Ничего мне не надо. Можете не заботиться обо мне. Пленную девушку убили и меня убьете…
– Нет, мы ее не убили. Хотите повидаться? Пожалуйста, – как бы спохватился генерал и приказал адъютанту пригласить пленную.
Привели Веру. Хапп предложил майору Роммелю извиниться перед ней «за грубое обхождение», как он выразился.
Когда пленную увели, Хапп приказал старосте снарядить подводу для отправки раненого в госпиталь. Генерал дал старосте и более сложное задание: обеспечить немецкую кухню свежими овощами и организовать прачечную.
– Будет сделано, господин генерал, – безропотно отвечал «просветитель».
Вскоре к сараю подкатила подвода. Староста погладил седую бородку, похожую на гусиные перья, и хрипловато сказал пленному, что его отправляют на излечение. Казак с ненавистью посмотрел на старосту и на конвоира – немецкого ефрейтора. Он беспокоился и за Веру, с которой его навсегда разлучают, и за себя, за свою честь: привезут его к пропагандистам, сфотографируют, сочинят какую-нибудь небылицу, напечатают и, когда минует надобность в нем как в живом «экземпляре», его убьют. Вера в последний раз прижалась к нему, поцеловала, и в это время их сфотографировали. Затем майор Роммель закинул руку казака себе за шею и улыбнулся. И снова щелкнули фотоаппаратом.
Михаила посадили на телегу и повезли по улице в немецкий тыл. Конвоир ехал за подводой на велосипеде. На западной окраине села немцы варили обед. Туда успел уже прийти и староста. Он вертелся вокруг поваров, обещая им горы свежих овощей.
– Сам генерал попросил меня! – похвалился он.
Подвода поравнялась с кухней.
– Стой! – поднял руку староста. – Иди-ка сюда, – позвал он возчика, молодого кудлатого парня. – Ты будешь копать картофель господам поварам. А ты поезжай, паренек! – крикнул старик Костюшке провожавшему Михаила, и тихо шепнул: – Повезешь мимо «волчьей могилы». Не смей возражать, когда старший приказывает! – замахнулся он на мальчугана, когда приблизился конвоир. – Господин ефрейтор, пообедайте. Макароны поспели. Подвода может постоять или будет двигаться потихоньку, догоните.
– Пусть подождет у крайнего дома.
Ефрейтор соскочил с велосипеда, подошел к кухне и, получив полный котелок макарон, уселся в сторонке.
Староста, провожая Костюшку, шепотом просил передать знакомым, что Вере дали срок до утра и что «просветитель» просвещает кого нужно…
Подвода остановилась в конце улицы. Михаил увидел на огороде под пожелтевшей вишней тяжелый пулемет. Возле него беспечно лежали два солдата. Горькая досада сжала сердце казака. Будь он здоров – рванулся бы к пулемету и покрошил из него солдат, поваров, конвоира, набросившегося на макароны.








