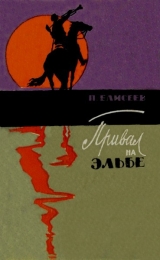
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
8
Широко раскинулось белорусское село Шатрищи. На улице, заросшей низкой кудрявой травой, безлюдно. Жители, сидевшие при немцах в погребах, не выходили пока на свет: еще слышен бой за селом. Избы казались безжизненными, как гробы с заколоченными крышками.
Вечером, когда багровые лучи вонзились в землю и от деревьев протянулись длинные тени, пришла в родное село Вера. Она не чуяла под собой земли, словно на крыльях неслась, мысленно была уже дома, обнимала мать. Как хотелось девушке скорей броситься на шею родимой, прижать к груди Костюшку.
Когда осталось до дома метров сто, Вера побежала по дороге, развороченной гусеницами танков. Вот пронеслась она мимо амбулатории, перепрыгнула через канаву перед воротами и остановилась, обвела быстрым взглядом двор – пусто. Торчит на плетне глиняный кувшин, да тоскливо пищат осиротевшие цыплята. Без корма и питья они ослабли, сгрудились в кучу, вытянули тонкие, как соломинки, ножки.
Перескочив сразу через три ступеньки крыльца, Вера бросилась в дом. Тягостно стало ей, как на кладбище после похорон близкого человека. Что тут делалось? Роза, выращенная Верой из крохотного стебелька, обломлена. Только на самой нижней веточке торчал небольшой раскрывающийся бутон. На пыльном полу валялись разбитые тарелки, патефонные пластинки, разорванный портрет Пушкина. Она заглянула на печь, под кровать, думая, что где-нибудь лежат убитые мать и братишка. Где же они? Слезы душили Веру. Она подошла к двери, толкнула ее плечом и, споткнувшись о порог, вышла.
Вера заглянула в коровник – никого, перескочила через низкий плетень на огород и остановилась. Будто свиньи паслись на картофеле: ни одного целого куста. Ботва, разбросанная по земле, поблекла. Белели мелкие, как горошины, картофелины. Грядка мака, все лето пылавшая как пожар, вытоптана. Вера подняла головку мака с зубчатым венчиком, высыпала на ладонь бисерные зернышки и безвольно опустила руку, взглянув на капусту. От нее остались только увядшие листья, желтые, как блины. Молодая хозяйка пошла по огороду к яблоне. В тяжелом оцепенении прошагала она по розовому клеверу и вдруг пошатнулась, схватилась за голову. Она увидела мать с окровавленным лицом, лежавшую под яблоней, которую она посадила в честь рождения дочери. Вера упала на труп матери, прижалась к холодному лицу, зарыдала. Слезы ее падали на родное морщинистое лицо, смывая запекшиеся пятна крови. Неслышно подошел к Вере Костюшка, прятавшийся от немцев где попало. Он прижался к сестре, целовавшей ледяные руки матери.
– Костюшка, родимый, – Вера обняла косматую голову мальчика и еще горше заплакала. – Нет у нас больше мамы.
У Костюшки брызнули слезы. Он спрятал лицо в коленях сестры и всхлипывал. Вера погладила его взъерошенные волосы.
– Осиротели мы с тобой… За что же ее убили?
– За т-тебя… – с трудом сквозь слезы выговорил мальчик. – Ты убежала, а в хате два офицера остались убитыми. За это маму и расстреляли.
Вера сложила желтые, окоченевшие руки матери на грудь, положила ей под голову пучок мягкого клевера, поцеловала холодный лоб, накрыла ее лицо косынкой и, опираясь на Костюшку, пошла по огороду в осиротевший дом.
Сырая мгла окутала село. Потонули в туманном мраке избы, сараи, сады. Нигде ни искорки. На краю села чуть вырисовывались на фоне неба силуэты людей.
– Стой, кто идет? Руки вверх! – грозно прозвучал голос часового.
– Рук у нас очень много, – отозвался Элвадзе. – Не узнаете?
– Комсорг!
Пластуны, минировавшие мост, вернулись в эскадрон. Элвадзе коротко доложил Пермякову:
– Товарищ командир эскадрона, задание выполнено. Противнику не удалось прорваться через реку. Мост для немцев стал чертовым мостом.
– Знаю. Хорошо поработали. Тахав, вы еще раз ранены? В санбат отправляйтесь.
– Товарищ командир, не отправляйте. Я на воле скорее заживу, – башкир так убедительно сказал это, что Пермяков не стал настаивать.
– Ну, располагайтесь, ужинайте. А я поговорю со старым знакомым. Узнаете? – кивнул Пермяков на пленного.
– Это тот, который ничего не говорил? – узнал Михаил обер-лейтенанта Заундерна, напоровшегося на мотоцикле на засаду. – Теперь разговаривает?
– Ни в какую, ни по-немецки, ни по-русски, – ответил Пермяков.
– Упрямый, как колхидский бык, – добавил Элвадзе.
– Мы не мешаем? – спросил Елизаров.
– Нет, оставайтесь.
Михаил и Сандро сняли шинели, протерли свои автоматы и сели рядом на скамейке. Тахав пошел на перевязку. Пермяков стал допрашивать пленного.
– Что за шифровка? – спросил он и, закурив, положил пачку папирос на стол.
Заундерн неторопливо кусал верхнюю губу вместе с жесткими усами. Он жадно посмотрел на папиросы, закурил и, закинув голову назад, выставил кадык. Пермяков предложил ему сесть. Пленный офицер сел и отвернулся, не сказав ни слова. Свет коптилки скупо освещал его длинное исхудалое лицо. Щеки глубже впадали, когда он затягивался дымом. Тонкая нижняя губа его вздрагивала. В глазах отражался свет лампочки. На длинном носу блестели капли пота.
– Вы строевой офицер? – спросил Пермяков по-немецки.
Заундерн молчал, уставившись глазами в угол.
– У меня бы он сразу залаял! – не выдержал Сандро. – У, сазизгари!.. – оскалив зубы, произнес он и отошел в угол. – Врага надо встречать по-вражески, учил меня отец. – Элвадзе сел на порог и стал протирать автомат Пермякова.
– Ваша ненависть, Сандро, понятна. Любить врага не за что, будь он проклят. Но дело заставляет возиться с пленными, охранять, копаться в их загаженной душе, – заметил комэск и продолжал допрос: – Ваш полк здесь, в Шатрищах, находился?
Заундерн молчал, то и дело затягиваясь дымом папиросы. Пермякова неожиданно вызвали в штаб полка. Михаил и Элвадзе остались с немцем, Елизаров отыскивал в разговорнике вопросы, которые можно задавать при допросе пленного.
– Какого полка и какой дивизии? – держа перед глазами разговорник, спросил Михаил по-немецки.
Офицер с пренебрежением посмотрел на казака, выпустил изо рта облачко дыма.
Разъяренный грузин рванул немца за шиворот.
– Какого полка и какой дивизии? – заглянув в разговорник, повторил он вопрос по-немецки.
Заундерн побледнел и быстро проговорил:
– Девяносто пятого полка, дивизии СС «Мертвая голова».
– Повтори! – тряхнул Сандро немца.
Заундерн повторил свой ответ громче.
– А, сазизгари, заговорил! – усмехнулся Элвадзе.
В комнату вошли командир полка Дорожкин и Пермяков, держа в руках немецкие письма и штабные документы, захваченные кавалеристами.
– Какого полка вы, господин обер-лейтенант? – спросил Дорожкин.
Заундерн взял папиросу, но не ответил.
– Девяносто пятого, – сказал Елизаров.
– Вы откуда знаете?
– Он сказал нам сейчас.
– Вы из девяносто пятого? – переспросил Дорожкин.
Заундерн продолжал молчать, жадно затягиваясь дымом.
– Товарищ майор, разрешите мне допросить его! – Элвадзе взялся за рукоятку нагайки.
– Отойдите, – строго заметил командир полка.
– Элвадзе, выпустите с Елизаровым боевой листок о сегодняшних схватках, – поручил Пермяков.
Старания майора Дорожкина ни к чему не привели. Обер-лейтенант не произнес больше ни слова.
– Товарищ командир полка, вот интересное донесение в документах немецкого штаба, – подошел Пермяков.
– Видите? – показал Дорожкин пленному. – Подпись вашего подполковника Гильмута.
Офицер невольно повернулся, услышав фамилию своего начальника, и дрожащими руками вцепился в бумагу, рассматривая подпись.
– Можете не сомневаться, оригинал, – насмешливо произнес Пермяков и начал читать донесение: – «В боях за село Шатрищи вверенный мне полк потерял половину личного состава. Из офицеров остался только один начальник штаба капитан Мильке. Командир бронетанковой роты обер-лейтенант Заундерн, – Пермяков на мгновение задумался и добавил от себя: – заранее бежал и сдался в плен».
Немец вскочил со скамейки. Лицо его позеленело, усы ощетинились.
– Я сдался в плен?! – крикнул пленный и закашлялся. – Лысый дьявол. Сам бежал, документы бросил! – выпалил Заундерн и опять замолчал.
– Это не вина Гильмута. Его наши казаки поторопили, – с улыбкой заметил Пермяков, просматривая захваченные документы. – А вот и вам письмо, господин обер-лейтенант.
Обер-лейтенант протянул обе руки, но Пермяков отошел в сторону и начал читать:
«Получила от тебя сорок девятое письмо. Я аккуратно подшила его, как и все остальные. Как получу твое сотое письмо, отдам все переплести… Давно не получала от тебя посылки. Не можешь ли прислать мне золотые пряжки на туфли? Ведь там, в России, много золота. Ждем тебя домой со скорой победой. Крепко целую. Гертруда».
– Господин майор, – четко произнес Заундерн, – это семейная переписка. Я требую уважения личности.
– Что с бою взято, то свято, – сказал Дорожкин.
– Возьмите. – Пермяков бросил письмо на стол. Ему до тошноты противно было читать «откровения» алчной немки.
– Что-то вы, господин обер-лейтенант, плохо снабжаете семью, – иронически заметил Дорожкин.
Немец опустил голову. «Какая дьявольская участь! – думал он. – Командование считает меня перебежчиком, семья просит посылок, а русские допрашивают».
– Вам жалко своих детей? – спросил его Пермяков.
– Странный вопрос, кому не жалко детей? – Лицо Заундерна дрогнуло.
– Почему же вы убиваете наших детей? – спросил Пермяков и привел несколько примеров детоубийства.
– Это вызывается государственной целесообразностью, – неуверенно отвечал обер-лейтенант.
– А не скажете ли, господин офицер, сколько миллионов жизней стоит Европе эта гитлеровская «государственная целесообразность»?
Вопрос Пермякова задел за живое пленного. Он вскочил, резко повернулся к русскому командиру.
– Господин майор, прошу защитить меня от комиссарской агитации. Я не желаю слушать, когда критикуют фюрера.
– Что ж, – произнес командир полка, – не слушайте, для вас это бесполезно. Скажите лучше, чем оснащена ваша дивизия?
– Это может сказать только трус или предатель, – вскинул голову Заундерн и опять без спроса закурил.
– Сколько танков было в вашем полку?
– Это военная тайна, – вызывающе сказал гитлеровец.
«Ответишь, прохвост, – подумал Пермяков. – Раскусили твой характер. Ты педантичный честолюбец». Пермяков действительно раскусил характер нациста. Своенравное упрямство хранил Заундерн не потому, что он большой души человек, а потому, что советские офицеры оказались чрезвычайно мягкосердечны.
Пермяков, набив трубку желтым табаком, вразумительно внушал пленному:
– Мы знаем, что немецкий офицер – автомат. Мыслить самостоятельно ему не дано. Разрешается мыслить только от и до… Вот вам, командиру роты, можно думать только от взвода до батальона. О вооружении полка запрещено рассуждать, и вы педантично придерживаетесь этой буквы, – продолжал Пермяков, перебирая штабные документы. – Товарищ майор, код! – воскликнул он. – Где шифровка?
– Отправил в штаб дивизии. Идем!
Дорожкин и Пермяков вышли. Вскоре они вернулись. С ними пришли командир дивизии полковник Якутин и комиссар Свиркин.
– Да, обер-лейтенант Заундерн, ваш Гильмут прав: вы струсили и предали своих, – сказал Якутин. – Переведите ему шифровку.
Пермяков начал читать: «Командир бронетанковой роты обер-лейтенант Заундерн за два дня боев потерял пять танков. А при налете казаков на батальон девять танков бросил и сам позорно бежал». Заундерн вздрогнул. Он вскочил, хотел схватить шифровку. Пермяков прикрикнул:
– Руки по швам! Теперь смотрите, чья подпись под шифровкой?
– «Подполковник Гильмут», – прочитал Заундерн и воскликнул надорванным голосом: – Ложь! Гильмут врет. В полку всего было потеряно десять танков.
– Напишите протест и пошлите Гитлеру, – сострил командир дивизии Якутин.
– Гитлер узнает – расстреляет! – шутя сказал Пермяков.
– Мы уж вас не дадим в обиду, – лукаво проговорил Якутин.
– А ведь вы сами теперь сказали, сколько потеряно танков, – заметил Пермяков. – Вы же только что уверяли: это может сообщить лишь трус или предатель.
Заундерн понял, что сгоряча проболтался, но честь мундира не ронял:
– Эта частность ничего не значит. И напрасно вы считаете невеждами офицеров Гитлера.
– О нет, – произнес Якутин, – гитлеровских офицеров мы считаем цивилизованными хищниками. В завоеванных странах вы бросаете детям конфеты, только ядовитые, или мажете им губы сладкой помадой, от которой они тоже умирают.
Обер-лейтенант ничего не ответил.
– Товарищ полковник, разрешите задать вопрос пленному, – обратился Пермяков к Якутину.
– Задавайте.
– Обер-лейтенант, вы знали содержание шифровки? Нет. Слушайте дальше. «Считаю своей обязанностью откомандировать обер-лейтенанта Заундерна в ваше распоряжение для привлечения к ответственности».
– Вот как? – сощурился Якутин. – Вы, значит, везли свой смертный приговор. Вам повезло, обер-лейтенант, что попали в плен. А то расстреляли бы вас.
– Не расстреляли бы, – возразил пленный. – Наш батальон не первая жертва. В тылу у нас свирепствует сто тысяч казаков. Надо бы нам сосредоточиваться дивизиями, а не оставлять в населенных пунктах мелкие гарнизоны.
– А как вы подсчитали, сколько у нас казаков?
– Когда все леса и болота кишат партизанами и казаками, этого не скроешь. Есть у вас казачьи генералы Белов и Доватор. Они с конниками залетают к нам в тыл на сто километров и рубят все, захватывают даже аэродромы. Об этом наше командование докладывало самому фюреру.
– Закурите, – протянул папиросы Якутин. – Какое же спасение от наших казаков и партизан указал Гитлер?
– Фюрер приказал выделить специальные корпуса. А кто захватит Доватора или Белова, тот получит сто тысяч марок.
– Вы не пытались подзаработать? – насмешливо спросил Якутин.
– Пытался, только не руками, а ногами, – подметил Пермяков и спросил:
– А что такое «широкая стратегия Гитлера», о которой хочет получить информацию ваш командир полка? – указал он на шифровку.
– Не знаю, а если и знал бы, тоже не выдал бы тайну, – опять заупрямился пленный.
– Это уже не тайна, – заметил Якутин и пояснил: – Гитлер посылает группировку Листа через Кавказ. Армию Роммеля – через Ливию, Египет, Аравию. Роммель и Лист должны образовать гигантские клещи и сомкнуть их у Персидского залива.
– В этом фюрер ваш настолько уверен, что заказал специальный фильм «Встреча у Персидского залива», – добавил Свиркин.
Заундерн молчал. Он слышал про такой план, но это была тайна, святая святых. И вот замыслы фюрера стали известны этим русским офицерам… Откуда? У Заундерна чувство пренебрежения к советским офицерам сменилось удивлением. «Не такие они простые азиаты, как говорили о них в училище», – подумал пленный.
Якутин перебил тягостные размышления гитлеровского офицера:
– Скажите, господин обер-лейтенант, почему Гитлер решил закончить военный поход у предгорий Урала?
Заундерну был знаком этот вопрос. Гитлеровцы на всех перекрестках кричали об этом, и он ответил без запинки:
– Для покорения уральских азиатов достаточно будет полицейских средств.
– Вам еще не приходилось принимать морфий и землю грызть зубами после залпов наших «катюш»? А ведь их делают «уральские азиаты».
– Это красноречие. Азиаты есть азиаты, – усмехнулся Заундерн.
– Вам хорошо известна дивизия «Мертвая голова», в которой вы имели честь служить. А ведь этой имперской дивизии разбили зубы «уральские азиаты», к числу которых принадлежит и ваш собеседник, – указал Пермяков на себя.
Долго допрашивали самоуверенного гитлеровца. Отпираясь и отбиваясь, он все же раскрывал свою нацистскую душу, выкладывал то, что нужно было русским офицерам.
В избу вошли старшина эскадрона и Вера. Они принесли обед, положили на стол хлеб, поставили ведро дымящейся вермишели, сваренной со свининой.
– Просим вас пообедать с нами, – обратилась Вера к командиру и комиссару дивизии.
– Спасибо, с удовольствием, – сказал Якутин.
Вошли Элвадзе и Елизаров. Они развернули боевой листок и прибили к стене.
– О, свежий номер, – произнес комиссар дивизии. – Почитаем. «Поединок». Интересный заголовок. «Сегодня Михаил Елизаров налетел на вражеское боевое охранение и представил двух фашистов к березовому кресту…» Написал С. Элвадзе. Хорошо написал. А это литературная страничка? Стихи М. Елизарова. Это вы автор? Так прочтите сами свои стихи, – предложил Свиркин.
Михаил смутился, но отказаться не мог – стали просить и другие. Он поправил чуб и начал читать наизусть:
Ты в своей родной избушке
У врага была в плену,
Ночью по кривой речушке
Ты бежала на войну.
Убегала, покидала
Мать старушку, отчий дом,
Тыл, покой ты променяла
На винтовку со штыком.
Грозовая ночь, засада,
Хлещет дождь как из ведра.
Вместе с нами ты, отрада,
Всем родная, как сестра.
Все посмотрели на Веру, до слез растроганную стихотворением, и догадались, что оно посвящено ей.
Пермяков подошел к поэту и сказал:
– Спасибо, товарищ Елизаров, за стихи. Вы хорошо передали настроение девушки и наших казаков. Это подтверждает и Вера Федоровна: у нее глаза стали мокрые…
Пришли к казакам девчата и парни. С ними был и Костюшка. В руках у него – бандура. Свиркин, здороваясь с молодежью, сказал:
– Что же музыку прячете? Повеселите бойцов.
– Лезгинку! – заказал Элвадзе, выскочил из-за стола и хлопнул в ладоши.
Зазвенела бандура в руках Костюшки.
– Асса! – крикнул грузин и пустился плясать. Красиво изгибая руки к плечам, он плавно очерчивал круг, подбадривая себя веселым словом «асса».
Михаилу завидно было, что героем вечера стал Элвадзе, Хотя грузин танцевал лихо, но он, донской казак, может переплясать его, если разойдется. Элвадзе повернулся к Михаилу, протянул руку и во весь голос выкрикнул;
– Асса-а-а!
– Эх, плясать так плясать, – принял вызов Михаил и заказал: – «Казачка»!
Музыкант ударил по струнам. Михаил выскочил на середину круга, выставил правую ногу, дернул плечами и начал выбивать «Казачка». Он выхватил шашку и, взяв ее за концы, перепрыгивал через нее.
– Вот как пляшут наши казаки! – Якутин хлопнул Элвадзе по плечу.
Темп пляски нарастал. Михаил подпрыгнул вверх, звякнул шпорами в воздухе, встал на носок и закружился на одной ноге. Потом он взмахнул шашкой, завертел ею над головой и пустился вприсядку. Сделав несколько кругов, он два раза кувырнулся через голову, присел на левую ногу, а правой описывал круги.
Все захлопали в ладоши.
– Переплясал казак! – согласился Элвадзе, пожимая руку Михаилу.
– Теперь мой концерт, – сказал Тахав и заиграл на своем курае.
Полились заунывные звуки, будто башкир хоронил кого-то из родных. Все притихли. Тахав под конец сымитировал паровозный гудок и спросил:
– Поняли?
– Поняли. Под такую музыку бросаются под паровоз, – съязвил Михаил.
– У тебя паровозный слух, – отквитался Тахав. – Это я играл «Моя девушка провожала меня на фронт».
– А что-нибудь повеселее можете? – спросил Свиркин.
– Что угодно. Все на свете знаю. – Тахав не страдал скромностью.
– Давай нашу «Барыню»! – топнул ногой Михаил.
– Не даю. Название противное: бр-р-р, – схитрил Тахав.
– Ну сыграй «Яблочко».
– Эту курай не берет.
– Э-э, а говоришь «все на свете», – подковырнул Михаил.
– Правильно говорю, все на свете башкирское знаю. Русское тоже много знаю, но меньше. Вся Башкирия меня знает. Первый артист республики, любительский. Десять грамот получил.
– Без нуля, – подтрунивал Михаил. – Ну, дай плясовую.
– Пляши бии-кюи, нашу башкирскую! – махнул кураем Тахав и заиграл.
– Под эту музыку хорошо гостей угощать, много не съедят: уснут.
– Темнота ты в музыке, Михаил! – загорячился Тахав. – А сейчас я песню спою, «Джигиту» называется, слова Салавата Юлаева, музыка моя. – И он запел:
За победу, за удачу
Богу песню спел.
В-степь взглянул – враги там скачут,
Сердцем закипел.
Вновь лечу врагу навстречу…
– Конь не повернет!
В битву, в битву! В сечу, в сечу!
За родной народ…
– Вот это песня! – воскликнул Михаил и забил в ладоши.
– Знаете что, товарищи, – прощаясь, сказал комиссар дивизии. – Ваш полк теперь в резерве. Устройте концерт самодеятельности.
– Пленного отправьте в штаб корпуса, – шепнул Пермякову Якутин, пожелал всем спокойной ночи и вышел.
Михаил сел на скамью, разгоряченный пляской. Музыка умолкла. Девушки стали прощаться с бойцами. Пермяков попросил Веру накормить пленного. Вера с ненавистью посмотрела на Заундерна. Она узнала в нем того насильника, который вместе с другими офицерами, разыскивая схваченного Михаилом связиста, вытащил ее из ямы, где она скрывалась с матерью, Костюшкой и соседками.
– Это тот подлец, который выскочил тогда в окно, – сказала Вера.
– Шкуру спасал, плюгавый черт! – выругался Михаил. – А здесь кривляется, как шелудивая обезьяна. Жаль, что не успели тогда его кокнуть.
На пленного набросились Костюшка и парни, сжав кулаки. Пермяков поднял руку и строго сказал:
– Нельзя, самосуд не разрешаем.
– А им можно убивать детей и старух? – Вера заплакала, вспомнив холодное лицо матери. – Палач! – выхватила она пистолет.
Заундерн упал на колени, позеленел. Пермяков успокаивал Веру. Элвадзе не вытерпел:
– Товарищ командир эскадрона, разрешите вопрос: в ваш сарай забрался волк, задушил овцу, теленка. Что будете делать?
– Обухом в лоб.
– А почему этого волка спасаете? – кивнул Элвадзе на гитлеровца и щелкнул затвором.
– Елизаров, отправьте пленного, – приказал Пермяков.
– Есть отправить, – повторил Михаил. – Выходи! – крикнул он гитлеровцу.
Ночь была темная. Месяц скользил к земле. На листьях низких ветвистых вишен, растущих под окном, блестели капельки росы.
Михаил взял на изготовку автомат, вспомнил немецкие слова из разговорника, четко произнес:
– Форвертс! Вперед!
Заундерн заартачился, требовал командира, с опаской глядя на белорусских девушек и парней, грозивших ему.
– Иди, иди, теперь я командир, – подтолкнул Михаил офицера.
Вышел Пермяков, напомнил конвоиру, чтобы он был осмотрительнее, подальше держался от гитлеровца:
– Это черт, а не немец…
– Не надо и черта, если есть фашист! – Михаил вытащил из кармана пистолет и засунул его за ремень.
– Господин офицер! – Заундерн вдруг заговорил по-русски. – Я требую усилить конвой.
– Требуете? – иронически протянул Пермяков. – Зачем?
– Я боюсь самосуда толпы…
– Не бойтесь смерти, вы заслужили ее. Ведите, Елизаров, – поторопил Пермяков.
– Дрожишь, как волк в капкане? Ничего! Бывает, и волка берут за холку, – подтолкнул Михаил Заундерна и повел его в штаб корпуса.








