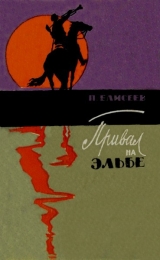
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
Галина Николаевна не боялась беды, не считала Виктора ненадежным другом, но мечты о близости, на которую она решилась, заставили задуматься.
Почувствовав упадок настроения у Галины Николаевны, Пермяков извинился за неуместный разговор, а слова старого казака о свадьбе Михаила назвал предрассудком.
– Нет, Витя, старик прав, в его словах большой смысл. Давай спать, а утром поговорим. Утренний час лучше двух вечерних. Спокойной ночи…
Она ушла в другую комнату и закрыла дверь.
Пермяков остался один. «Что же она, обиделась?» Он ругал себя за неосторожный разговор о свадьбе. Нескладно получилось. Встретились: какая радость! А спать разошлись по разным комнатам. Смешно… Он представил себе, как утром Галина скажет насмешливо: «Эх, Пермяк, холодные уши», – и решительно вошел в ее комнату.
Утро у Пермякова началось, как всегда. Он включил радиоприемник, послушал последние известия, под команду московского методиста стал заниматься гимнастикой, принял холодный душ и стал перед зеркалом бриться.
Вышла из комнаты Галина Николаевна в длинном, до пят, пестром халате. Она поздравила Пермякова с добрым утром, взяла пульверизатор и стала обрызгивать его бритое лицо одеколоном.
– Дай я причешу. – Она взяла у Пермякова расческу.
Радость встречи всколыхнулась с новой силой. Приятно солнце после ненастья, приятно тепло после холода, но ни с чем нельзя сравнить радость встречи с любимой девушкой после долгой разлуки. Пермякову хотелось петь, плясать, играть, баловаться. Он поднял Галину Николаевну на руки.
– Я видела хороший сон. Не то в Москве, не то в Свердловске мы пришли из загса, «ас осыпали цветами, подарками, кричали «горько». И мы целовались с тобой много-много раз… Мне как-то грустно стало, что кончилась моя девичья жизнь, – улыбнулась она и спрятала лицо у него на груди.
– А я не нарадуюсь, что кончилась моя холостяцкая жизнь.
– Старый казак прав… – напомнила Галина.
– Но мы не должны быть суровее старого «казака.
– В таком случае и на чужбине можно любить вот таких упрямых земляков, – крепко обвила она шею Пермякова своими мягкими руками и лукаво добавила: – Закончена лирика – неси кипяток, будем завтракать.
– А я согласен идти «а работу натощак, лишь бы продлился этот час.
– Устанешь – захочешь есть.
– Всю жизнь не устану…
– Давай все-таки чай пить. Я привезла твое любимое черемуховое варенье.
– Слушаюсь! – Пермяков взял чайник и пошел в столовую.
Галина Николаевна взялась за домашние дела. По-своему убрала кровать Пермякова, навела порядок на его письменном столе, поставила вазу с цветами, принесенными Михаилом ради встречи дорогой гостьи. Затем нарезала московские булки, накрыла хлеб салфеткой, открыла банку какао с молоком, «приготовила сыр, колбасу. Поставила банку варенья.
– Садись, Витенька, – ласково сказала она, как только вошел Пермяков в комнату, – гость будешь…
– Заканчивай поговорку, – добавил он, – вина купишь – хозяин будешь. Но от вина болит спина, пить не будем.
– Правильно.
– А свадьбу мы сыграем на Урале, где наши прадеды женились.
– Я хотела бы отпраздновать этот день в Москве.
– Но ведь на свадьбе должны быть отец и мать, – возразил Пермяков.
– И они будут, мы пригласим их и мою бабушку из Свердловска вытащим.
– Бабушку обязательно. Ей надо бы награду дать: такую внучку вывела в люди.
Угощая друг друга, они вспоминали детство. Галина Николаевна семи лет осталась сиротой. Бабушка приучила ее к труду, самостоятельности и смелости. Остались в памяти и ее сказки. Она часто и нараспев рассказывала, как сын рыбака ученым стал. В то время богатые отдавали своих детей волшебнику. Чародей бросал ученика в волшебную машину. Его там толкли, размешивали, делали из него тесто, клали в форму, сажали в раскаленную печь. Волшебник произносил: «Был молодцом, стань мудрецом». Из печи выходил ученый. Однажды под видом сына богача пришел молодой рыбак. Пропустил его волшебник через машину и спросил: «Познал науки?»– «Не все», – отвечал рыбак. Волшебник еще раз пропустил его через машину, а рыбак отвечал: «Не знаю еще языка птиц, зверей. Не знаю, сколько верст до каждой звезды». Третий раз промололи и прокалили рыбака. И стал он знать все науки, разговаривать на всех языках, понимать язык птиц, зверей…
– Это про Ломоносова сказка, – сказал Пермяков.
– И я тогда мечтала все знать.
– Мечта твоя сбывается.
– Это только проба моих сил. Медицина еще в неоплатном долгу перед человеком. Часто приходится слышать горькие слова врача над безнадежным больным: «Медицина здесь пока бессильна…» Особенно глубоко я (прочувствовала это бессилие, когда была в Мавзолее Ленина: неужели не могли предотвратить смерть Ильича? Ведь еще Мечников говорил, что можно преодолеть «немощь старости и краткость жизни». У нас есть все, чтобы это сделать. И я, как хирург, мечтаю об этом…
– Желаю, милый доктор, успеха! Заранее подаю заявку на предотвращение старости – так, чтобы лет двести шагать рядом с тобой, – сказал Пермяков и обнял свою подругу.
14
Михаил, Тахав и Вера прибыли на вечер дружбы к самому началу. За столом президиума в новом клубе, открытом в замке богатого юнкера, сидели люди семи деревень. Вечер открыл самый старый немец, Курт Бауэр, побывавший у русских в плену. Он говорил, как старый солдат-ветеран:
– Нас и в четырнадцатом году уверяли, что у немецкого крестьянина мало земли. Спору нет – мало. И нас гнали завоевывать землю в России, А о том молчали, что у юнкера Кандлера было две тысячи гектаров, у юнкера Хаппа три тысячи, у графа Кнута– семнадцать тысяч. Теперь мы поделили эти земли, и нам, крестьянам, вполне хватает пашни. Нам раньше говорили: «Войны были и всегда будут». Теперь наши коммунисты – друзья труда, говорят: войну можно предотвратить, если народы мира обуздают любителей и зачинщиков бойни. Так возьмем же дело мира в свои рабочие и крестьянские руки и будем жить и трудиться без крови и пороха.
Оркестр заиграл гимн миру. Все встали. Под звуки меди оркестра Курт Бауэр поднес советскому представителю большую толстую книгу в голубом бархатном переплете и сказал:
– Эту книгу мира, в которой подписались жители семи сел, примите в знак дружбы.
Елизаров встал, пожал руку Курту Бауэру. Старый немец обнял советского капитана. Михаил был растроган:
– Я радуюсь, что <вы проклинаете войну и вступаете в мирную семью народов…
На сцену поднялась женщина лет сорока в белом платье. (Все немки были одеты в белое.) Она держала огромный пакет из прозрачной, как стекло, бумаги с изображением рукопожатия.
– Этот бисквит мы, немецкие крестьянки, приготовили из пшеницы, семена которой после войны привезли из Советской России. За это примите нашу благодарность.
Елизаров принял пакет с дружеской надписью и отвечал:
– Хлеб – всему голова. Фашисты хотели взять у нас хлеб огнем и мечом – зубы поломали. А по-доброму, по-мирному мы помогаем после войны и немецкому народу. Советский народ и впредь будет помогать друзьям. Такова наша политика. Спасибо за подарок дружбы!
Вышли на сцену мальчик и девочка с голубыми галстуками. Под звуки горна и бой барабана они отдали пионерский салют. Один из них стал громко говорить:
– Мы счастливы – все учимся. Но среди нас есть и несчастливые. У них война отняла отцов, а у некоторых и матерей. Мы и наши маленькие братики и сестрички хотим, чтобы не умирали больше на войне папы и мамы. Пусть этот голубь не допустит войны.
Пионер передал советскому гостю птицу. Михаил выпустил белого голубя в зал, поднял на руки самого маленького мальчика и сказал:
– Пусть летает голубь мира на воле. Пусть ваша жизнь, дорогие ребята, будет такая же вольная, как жизнь этого голубя. За мир во всем мире, пионеры, будьте готовы!
– Всегда готовы!
Советского представителя обступили девушки. Они принесли гирлянду живых цветов. Эрна обвила гирляндой Михаила и, обращаясь к нему, сказала:
– Радостно вспомнить добрые пожелания советских воинов, которые я услышала в первый день их прихода в наше село. Сегодня мы покажем, какой новью в нашей жизни стали добрые пожелания советских друзей. Восемь кружков художественной самодеятельности покажут, на что способны наши юноши и девушки. В вашем лице, Михаил Елизаров, мы видим советскую молодежь и от души преподносим эти цветы в знак дружбы. Наш горячий привет советскому комсомолу!
Эрна взмахнула руками, и все, встав, запели:
Мир и счастье для свободы,
Вот Германии оплот!
Всем народам честно подал
Руку дружбы наш народ…
Так начался концерт. После вечера Курт Бауэр пригласил советских друзей на ужин. Эрна тоже позвала их к себе. Полюбовно договорились, что Михаил и Вера пойдут в гости к Бауэру и его друзьям-ветеранам, а Тахав – к Эрне и ее молодым друзьям.
Тахава подхватили участники художественной самодеятельности под руки и повели по деревне.
После ужина все разошлись. Эрна и Тахав остались вдвоем. Гость рассказал, как он в колхозном клубе на реке Белой выступал на концертах, пел, играл на курае, на кларнете, как участвовал на Всесоюзном смотре молодых колхозных исполнителей, как слушали его профессора Московской консерватории.
– Мне тогда сказали, что могут меня принять в консерваторию. Я готовился – и вдруг война…
– А немецкой девушке можно поступить в Московскую консерваторию? – несмело опросила Эрна.
– Можно, вполне можно – в знак дружбы наших народов. Я могу написать письмо.
– А вас знают там?
– Меня теперь везде знают. Я ведь освободитель, – перехлестнул Тахав. – Комендант тоже может написать. А вы пошлите свои песни.
– Я могу послать пластинку с моей песней и ноты, – достала Эрна папку со своим творчеством. – У-у, кривые линии есть! – заметила она недостатки самодельной нотной бумаги.
– Не беда, что труба крива, если дым идет прямо. Посылайте, я тоже буду поступать. Будем вместе учиться, ходить на концерты, оперы. Красота! – обнял Тахав девушку.
Эрна шевельнула плечами, но не вырывалась. Объятие молодого советского друга казалось ей уместным и естественным – ведь они давно знакомы. Много общего у них: свободная жизнь, стремление к искусству. Но это не основное для большой дружбы между молодым человеком и девушкой. Нужно что-то очень важное, чего и не скажешь словами, без чего немыслимо жить друг без друга. Эрна задумалась над тем, что сближает, соединяет молодых людей накрепко, надолго, навсегда. Могут ли они стать такими друзьями? Ведь они жители разных стран. Он окончит срок службы, уедет на свою Родину, и никакие силы его не вернут сюда. Она хотя и мечтает попасть в Московскую консерваторию, но свою страну, где она родилась, тоже не покинет навсегда.
– Мысли становились сильнее чувств. Ей и хотелось прижаться к веселому, смелому джигиту, и она боялась чего-то…
Тахав не думал об этом. Ему казалось – все возможна. Для любви препятствий нет, сердцу не откажешь. Как-то само собой получилось: была любовь внутри– вырвалась наружу. Тахав обхватил Эрну за шею и поцеловал…
Тахаву надо бы уже уходить, а он и не думал об этом, пока на улице не послышался сигнал машины. Тахав сорвался с места, чмокнул Эрну а щеку и стремглав выбежал на улицу.
Михаил стал пробирать влюбленного джигита: Безобразие, старшина, распустились, целый час заставили ждать вас. Ведь знали, когда надо ехать.
– Что-то не поздоровилось мне, живот скрутило, – соврал Тахав и сел за руль.
– Веселая девушка скрутила голову.
Ночь была теплая и тихая. В лучах фар роились комары, бились о стекла автомобиля. Огни машины, скользя по асфальту, прорезали темень. Вдоль дороги по обеим сторонам тянулись низкие, густоветвистые деревья.
– Умен немец: и вдоль дороги сажает яблони, – пробормотал Тахав.
Дорога врезалась в густую заросль кустарника, подстриженного у обочин шоссе чьей-то заботливой рукой. Фары осветили стеклышки дорожного злака – поворот. Тахав сбавил газ.
Раздался выстрел, другой. Вера, прижимавшаяся к Михаилу, уронила голову. Михаил нащупал на ее спине мокрую теплую рану. Пуля попала в левую лопатку. Надо перевязать рану – бинта нет, да и быть не могло. Ведь не на бой выезжали, а на вечер мира и дружбы. И люди труда встречали их искренне, сердечно – назло врагам, все еще бредившим войной, кровью.
Михаил достал из чемоданчика полотенце, захваченное Верой на всякий случай, и стал перевязывать.
– Скорей в больницу, – еле слышно проговорила Вера.
Слово – «скорей» напугало Михаила: значит, опасная рана, если терпеливая Вера, перенесшая столько бед, сказала об этом. Ее спутники боялись быстро гнать машину: как бы хуже не было от тряски. Тихо ехать тоже опасно – не довезешь…
– Гони, Тахав, – проговорил Михаил.
– Пить… горит… – простонала Вера.
Как больно было слышать Михаилу эти слова!
– Потерпи, милая, – взволнованный до отчаяния, прошептал Михаил, – скоро доедем.
Раненая не отвечала. Она была почти без сознания. Михаил, дрожа всем телом, прикладывал ухо к ее груди, но в горячем волнении не мог понять, дышит она или нет.
Машина угодила в рытвину, сильно тряхнула. Вера глухо простонала и совсем умолкла. Михаил положил ее голову себе на грудь, приложил ухо к лицу. «Не довезем живой», – охватила его страшная мысль.
Наконец въехали в город. Было два часа ночи. Тусклые фонари чуть-чуть освещали номера домов, название улиц. Дорогу к больнице Тахав не знал. Михаил не мог оторваться от раненой. А время идет и идет. Каждая минута, может быть, приближает смерть. На улице, наконец? – встретился прохожий – молодой немец. Он сел рядом с Тахавом и показал самый короткий путь к больнице, только что открытой.
Пока дежурный врач и его помощники делали все, что только могли, для спасения раненой и пока вызывали известного в городе профессора-хирурга, Тахав привез Галину Николаевну и Пермякова.
Консилиум длился недолго. Надо делать сложную операцию. Галина Николаевна взяла скальпель. Михаилу как-то легче стало. Он надеялся, что она, сделавшая множество самых сложных операций, спасет жизнь Веры.
Галина Николаевна дотронулась до раны. Вера дрогнула, открыла глаза и, увидев Михаила, прошептала:
– Миша, ты здесь… Не дождались мы ребенка…
Профессор пощупал пульс и печально сказал:
– Нам моритур…[22]22
Уже умирает
[Закрыть]
Вера уронила голову на грудь. Из закрытых глаз выкатились две слезинки и застыли на побледневших щеках.
– Вера!.. Вера!.. – испуганно звал ее Михаил, но так и не услышал ответа…
«И никогда, никогда не увижу, не услышу ее», – с отчаянием думал он, проклиная вражеский выстрел. Почему так много зла делали и не перестают делать фашисты? Они мучили эту девушку во время войны и вот убили ее в мирное время из-за угла, когда она старалась помочь немцам. Даже теперь, когда честные люди желают друг другу жизни и счастья, враги стреляют в спину борцам за мир и дружбу народов. И чем больше Елизаров думал об этом, тем ненавистнее делались ему фашисты, которые живут в тайных логовах.
Утром Пермяков сурово отчитывал Тахава за то, что он до полуночи просидел у немецкой девушки, забыв службу, и обманул Михаила с Верой. Слушая жесткие слова коменданта, джигит мрачнел и бледнел. Он попытался оправдаться, но запутался. Елизарову он говорил, что у него разболелся живот, а коменданта уверял, что слишком долго угощали его немецкие девушки. Мол, дружба, уйдешь рано – обидятся.
– Напоследок немного посидели и вдвоем с Эрной. Любовь, говорит, у нее сильная ко мне, – некстати опять прихвастнул Тахав. – Я-то не страдаю этим, строго держу себя с ней.
– Не в любви я обвиняю вас, а в обмане, – грозно нахмурился Пермяков. – Обманщик не может оставаться на службе в комендатуре.
Тахав не знал, что еще сказать. Просить прощения, заречься – не поверит комендант: не раз клялся-не врать. Безропотно уйти из армии? Кстати, на Родину тянет давно, но вернуться домой с таким предписанием, какое заготовил комендант, – это позор для джигита. Тахав коротко сказал:
– Возражать я не имею права. Виноват. Прошу об одном: не указывайте плохое в моих документах.
– В документах будет написана правда. Можете идти.
Тахав повернулся кругом и вышел.
Через неделю он уехал из Германии.
После смерти Веры Михаил осунулся, похудел. У него пропали и сон и аппетит. По целым дням он работал, а ночами переживал боль утраты. Глаза стали грустные, как будто заплаканные. Пермякову тяжело было смотреть на капитана. Он с большим сочувствием говорил о его горе, старался вернуть ему дух бодрости.
– Тебе, может, лучше отправиться на Родину? – предложил Пермяков. – Если совсем уезжать не хочешь, то в отпуск.
– Нет. – Михаил покачал головой. – Я хочу найти убийцу Веры.
15
На радиозаводе было необычайное собрание: выбирали делегацию для поездки в Советский Союз. Были и гости на собрании – друзья из комендатуры. Галина Николаевна сидела рядом с Михаилом, ставшим для нее переводчиком. Она изучала немецкий язык, используя все: газеты, радио, концерты, собрания, вывески. Вместе с ними сидел Вальтер.
Рабочие называли имена лучших людей завода. Молодые радиостроители неистово хлопали в ладоши и выкрикивали имя своего руководителя Вальтера. Гертруда, сидевшая в президиуме, водила глазами по залу. Она взвешивала плюсы и минусы; поддержат рабочие предложение молодежи или нет? Гертруда всегда действовала с расчетом, наверняка. И хотя ее подмывало выступить против Вальтера и намекнуть на себя, но не надеялась на успех. Она решила использовать авторитет бургомистра, сидевшего рядом с ней. Больце почти во всем поддерживал своего заместителя.
– Надо из руководства послать кого-нибудь, – предложила Гертруда – Вас? Но вы не можете – дела. А мне бы полезно поучиться у советских друзей.
– Да, не плохо бы и вам позаимствовать их опыт, – поддержал Больце.
Вальтера выбрали. Бургомистр назвал Гертруду, похвалил ее за энтузиазм в работе, сказал, что руководителям магистрата тоже надо учиться у строителей социализма.
Пермяков тоже сидел за столом президиума. Он считал доводы бургомистра о посылке Гертруды правильными, логичными. Но ему не хотелось поддержать ее выдвижение в делегацию, а почему именно, Пермяков не мог ответить себе. Потому ли, что она всегда напрашивалась сама? Но кому не хочется побывать в Москве? А может быть, потому, что рьяно клевещет на профессора Торрена.
Кто-то назвал имя Штривера. Пермяков обвел глазами зал. Штривер сидел в заднем ряду, у самой двери. Он читал что-то. Редкий случай, чуть ли не единственный, что ой задержался на собрании. Если он заходил в этот зал, когда собирались производственники, то садился на излюбленное место, с краю, и моментально шмыгал в дверь. Пермяков знал повадку главного конструктора, не раз при удобном случае упрекал его, Штривер продолжал «голосовать» ногами. Сегодня он голосует руками.
Поднялась Гертруда. Говорила она подкупающе, долго изъяснялась, чтоб не сочли ее нескромной, поскольку ее тоже рекомендуют.
– Я с сожалением произношу слова о том, что ведущий инженер не достоин такой чести, как поездка в страну социализма. Радостно фиксировать его присутствие на сегодняшнем собрании, но это первый случай. Не менее важная причина против его поездки и та, что инженер Штривер усиленно работает над своим изобретением.
Взял слово Пермяков. Он не хвалил инженера Штривера, говорил так, будто читал мысли и собравшихся и конструктора.
– Инженер Штривер не верит в способности освобожденного народа. Он считает, что науку и технику двигают только личности. Не верит он и в правду о Советском Союзе. Может, поездка в нашу страну послужит ему на пользу?
– Разрешите! – крикнул Штривер. – Я читаю брошюру об изобретении телевизора советскими инженерами…
– Это я всучил ему перевод, – шепнул Вальтер Михаилу и Галине Николаевне.
– В ней упоминается, – продолжал Штривер – учение об электромагнитных волнах немецкого физика Герца. Факт правильный. Я верю этому…
Штривер хотел еще что-то сказать, но Вальтер перебил его:
– Если о немецком физике правильно пишут советские люди, то о себе тем более.
– Возможно, и так, – процедил Штривер и замолчал.
– Инженер Штривер верит в факты, – продолжал Пермяков. – Мне кажется, ему полезно будет посмотреть на факты, которые описываются в брошюре о телевизоре. Тогда он, может, скорее закончит свое изобретение, и завод начнет выпускать его.
Не ожидал Штривер такой поблажки от Пермякова. После острых стычек, непримиримых споров он думал, что комендант волком смотрит на него. И вдруг такая честь. Не понимает он коменданта.
«Или это очень хороший человек, или только принципиальный; хочет добиться своей цели – перевернуть мой ум, заставить быть общественником. Вряд ли ему удастся…»
Все ждали, что же скажет Штривер.
– Что ж, я могу и поехать, – ответил он.
Гертруду бросило в жар. Согласие Штривера может стать стрелой, пущенной в нее – мастерицу интриг, еще не знавшей ни одного провала в своей многолетней злой игре. Неверным оказался Штривер, начинает перестраиваться. Поедет в Москву – совсем выйдет из скорлупы. Нет, не должен он ехать, надо заставить его заболеть. Об этом она позаботится…
Стали голосовать, не нарушая порядка записи. Первым было названо имя Гертруды. Много рук поднято, но за Штривера больше.
Руководителем делегации хотели избрать Вальтера, но решили, что молод. Посоветовали выдвинуть Штривера. Инженер-конструктор еще больше удивился. «Чем заслужил я честь и доверие? Ничем», – думал он о себе. Пермяков надеялся на старого специалиста: тот может принести большую пользу для новой Германии, если вытряхнет свою полувековую замкнутость, откроет и пустит в ход все свои знания.
Вскоре Штривер с делегацией сел в поезд Берлин– Москва. Он придирчивым глазом осматривал вагон. Ковровая дорожка, шелковые занавески, бархатные шторы не очень удивляли его. «Хорошо, но не экономно, роскошно очень». Зашел в купе. Верхние полки были опущены. Он сел на мягкий пружинный диван, с пристрастием осмотрел купе. Затем он достал складной метр, смерил ширину купе, ширину дивана и сделал категорический вывод:
– Широкие габариты. Можно бы за счет этих просторов сделать еще одно купе в вагоне.
– Русские любят простор. У них дороги длинные. В скором поезде две недели надо ехать от центра до окраины, – пояснил Вальтер.
– Вы ездили? – с иронией спросил Штривер.
– Я читал. Могу перевести для вас такой справочник, – сказал Вальтер.
– Вы лучше переведите, что по радио передают, – переменил тон Штривер. – Кстати, где репродуктор? – высунул он голову из купе.
– Даю точную справку, господин радиоконструктор, – опять уел Вальтер своего спутника. – Репродуктор под лампой.
– Что? – Штривер вцепился в настольную лампу, внизу которой был устроен громкоговоритель. – Вот это остроумно; «Оригинальный факт», – записал он в свой блокнот.
– Слушайте, что говорят по радио: «У проводников можно получить, – переводил Вальтер, – книги, журналы, газеты, настольные игры. Пассажиры могут пользоваться душем».
– В каком вагоне? – спросил Штривер. – С удовольствием приму душ.
– В каждом, – сказал Вальтер.
После душа расчетливый инженер рассуждал с карандашом в руке. «Душевая в вагоне – факт примечательный. Но не экономично. В четырнадцати вагонах душевые занимают площадь в объеме семи купе– целый вагон».
– Чаю желаете? – спросила проводница на ломаном немецком языке.
– Чаю? Благодарю, – ответил Штривер. – С удовольствием-попью. Это такие конфеты? – с любопытством рассматривал он синие квадратики.
– Сахар, цюкер, – улыбаясь, пояснила проводница.
– Оригинально! Красиво, гигиенично. Оставлю на показ своей жене.
Проводница поняла намерение немца, но не могла выразить того, что хотела. Она по-русски сказала, чтобы господин пассажир не пил без сахара, а если хочет привезти на показ своей фрау, то он может взять хоть сотню порций. Вальтер моментально перевел слова проводницы и добавил:
– Факт примечательный. Записывайте в свой дневник. Вы ведь верите только в факты.
Много примечательных фактов пришлось занести в свой дневник Штриверу в пути.

В Москве работники Общества культурной связи с заграницей спросили руководителя делегации, где в первую очередь хотят побывать гости.
– На радиозаводе, – сразу выпалил Штривер.
– Сначала надо побывать в Мавзолее Ленина и в Музее Ленина, – сказал Вальтер.
Члены делегаций подхватили предложение Вальтера, и это заставило старого конструктора задуматься. Он ехал в Россию с единственной мыслью – познакомиться с ее техникой. И вот Штривер впервые нарушил свой завет «техника прежде всего».
От Мавзолея до Музея Ленина Штривер шел без шапки.
– Факт беспримерный, – сказал Штривер перед входом в Музей. – Русские сохранили своего вождя для поколений.
– Не своего, а трудящихся всего мира, – заметил Вальтер.
На другой день немецкая делегация прибыла в телецентр. Штривер был поражен искренностью незнакомых русских коллег: они ничего не таили от него. Он, закоренелый конструктор, так не делился бы своими открытиями даже с родным братом. Штривер попросил разрешения записать и начертить кое-что.
– Пожалуйста, – сказал директор телецентра.
Поразила немецкого конструктора и другая черта советских инженеров – коллективность. Ни от кого Штривер не слышал «я». Каждый говорил: «мы». Слово «мы» в ушах Штривера звучало вызовом его самолюбию. Особенно удивила Штривера беседа с главным конструктором советского телевизора; тот с уважением и похвалой говорил о своих коллегах, о личных заслугах каждого помощника, показывал их работы с такой гордостью, как будто не они, а он был учеником.
Штривер с делегацией гостил в стране новой жизни ровно месяц. В гостях люди беззаботно отдыхают, праздно проводят время. Так думал и он. Но его отдых в стране социализма был похож на подготовку студента к экзамену. В гостинице на его столе появились исписанные толстые тетради. Ничего лишнего Штривер не записывал в них, вносил только факты, а факты, мимо которых он не мог пройти равнодушно, встречались на каждом шагу. В метро он заметил лампы дневного света. У Штривера возникло страшное желание узнать их устройство, как раз понадобится в его творчестве. Зашел в стереокино – как не спросить об устройстве экрана, оптики! Это для изобретателя телевидения все равно, что порох для охотника. В журнале увидел рисунок искусственного грома и молнии. Надо, как надо ему вникнуть в это открытие, которое может пригодиться ему при изучении разрядов в атмосфере. Часто Штривер изучал новинки техники до поздней ночи, а когда приходил в гостиницу, по свежей памяти записывал виденное и слышанное. Засиживался часами. Ругал себя за то, что не знает русского языка. Он не оставлял в покое Вальтера, то и дело спрашивал его, как то перевести, как это, и сам ни на минуту не оставлял русско-немецкого словаря. Штривер не замечал, как возрождалась в его душе любознательность.
Когда делегация вернулась из Москвы, рабочие и инженеры радиозавода собрались в клубе послушать своих посланцев о поездке. Слово для доклада получил Штривер.
– Доклад я не сделаю, не умею, – расположил он собравшихся своей искренностью. – Я прочту свои записки, – поднял он кипу тетрадей. – Здесь только факты.
Штривер начал читать. Не помышляя об успехе своих записок, он захватывал внимание зала сообщениями о новостях науки и техники страны социализма.
– Для меня эта поездка была чрезвычайным событием, – сказал в заключение Штривер. – Она обновила мои познания. За три дня после возвращения я нашел много технических решений в моей изобретательской работе. Я предлагаю начать делать телевизоры на нашем заводе: мой проект и чертежи почти готовы.
У Гертруды чуть не лопнули перепонки. Она надеялась, что Штривер передаст ей свой проект для отправки на ту сторону Эльбы и вдруг – «делать телевизоры на нашем заводе». Возражать опасно: рабочие выгонят с собрания. Она сделала другой ход, сказав, что предложение Штривера чрезвычайное. Гертруда говорила складно, выразительно, стараясь внушить всем, что она болеет душой за производство. Где нужно, она повышала тон, произносила слова с пафосом, а когда имела в виду трудности, ее речь звучала призывом. Не слушать Гертруду нельзя было. Интонация такова, будто на тарелке подает каждое слово; после предложений, особенно после вопросительных и восклицательных, делает паузы, чтобы заставить слушателей задуматься. После ее выступления обычно шептали: «Красиво говорит». Мысли, изложенные ею, можно сразу понять, но почему они высказаны, не каждый сообразит. На этом собрании делегаты, вернувшиеся из Москвы, предлагали начать делать телевизоры по примеру советских друзей. Гертруда до небес возносила энтузиастов, называла их патриотами новой Германии, повторяла их удачные слова, добавляя при этом: «как сказал такой-то». В заключение сделала вывод:
– Телевидение – высшее средство культуры. Надо немедленно прекратить производство радиоприемников и начать изготовление телевизоров.
Сделав длинную паузу, она добавила, чтобы собрание просило магистрат и комендатуру о срочном разрешении этого вопроса, сказала и о том, что для массового выпуска надо принять советский телевизор, испросив для этой цели патент.
Никто не знал подспудных мыслей Гертруды, не знал их и Пермяков, и возражать как будто нечего. Кто против стремления от низшего к высшему? Возразил только главный конструктор Штривер со своей точки зрения:
– Немедленно начинать – технически чрезвычайно сложно.
– Новое всегда сложно рождается, – почти оборвала его Гертруда. – А рабочие, инженеры, а мы, руководители, для чего? Все станем на вахту, пока не освоим выпуск новой продукции.
В душе Гертруды таился замысел: чтобы перестроить завод для изготовления телевизоров, нужно приостановить выпуск радиоприемников, сделать глубокий технологический переворот. Потребуются редкие материалы, иные приспособления, другие мастера. Эту сложность и имел в виду главный конструктор Штривер. Гертруда отлично понимала это, поэтому и внесла свое предложение. Ей хотелось застопорить завод, вызвать замешательство, длительный простой рабочих, перебой в оплате труда, недовольство.
Пермяков думал не только о сложности перестройки завода, но и о его значении в народном хозяйстве. Об этом он и начал толковать с рабочими и инженерами. Он говорил просто, без восклицаний и вопрошаний. Сила его речи была не в блеске, а в мысли, не в напыщенности, а в правде. Если приходилось ему полемизировать, то он сначала разбивал противника, потом выкладывал свои взгляды.
– Гертруда Гемлер предлагает выбросить карася со сковородки, чтоб жарить непойманную стерлядь, – сказал Пермяков. – Она предлагает немедленно прекратить производство радиоприемников. Это или левацкий загиб, или злонамеренность. Не так следует решать. Надо для начала открыть при заводе цех телевизоров, освоить серийный выпуск, а потом построить новый завод. Гертруда предлагает испросить патент на советский телевизор. Советское правительство разрешило бы, даже бесплатно. Но будет честью коллектива, если он выпустит свой телевизор, конструкции инженера Штривера.








