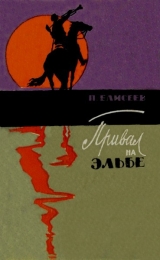
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
– Молчать! – приказал казак. – Я не разрешал говорить.
– Можно говорить? Я майор…
– Должен сказать: разрешите обратиться, – вразумлял казак.
– Отпустите меня. Я вам золото дам.
– А где золото? – спросил Кондрат Карпович.
Фашист оживился. Он достал из-под подкладки шапки ценности, которые, наверное, всегда хранил при себе, высыпал на стол. Немец был уверен, что русский не устоит.
– Много золота, бери, только отпусти.
– Это же зубы, серьги, кольца!
Старый казак чуть не рванул спусковой крючок винтовки.
– Смирно, сволочь! – закричал он вне себя от ярости. – Два шага назад, скотина. Кого агитируешь, сукин сын? – усмехнулся он. – Меня, донского казака? Руки по швам, холуй! Что нужно сказать?
– Спасибо, – процедил немец.
– Балда. Следует сказать: рад стараться. Понял? Повтори. – Казак вспомнил уроки словесности в старой армии: – Кто ваш командир?
– Не знаю, – ответил немецкий майор.
– Не могу знать, должен ответить. Не бил, наверное, фельдфебель тебя по морде на уроках словесности.
– Не могу знать, – повторил майор слова старого казака.
– Балда, – махнул рукой Елизаров.
– Рад стараться.
Казак разрешил немцу сесть и стал закуривать. Гитлеровец смотрел на конвойного, трусливо думал: «Броситься, пока крутит цигарку». Но грозный взгляд казака осадил его. Он решил искать других путей.
– Господин благородный начальник…
– Благородный, – передразнил Кондрат Карпович. – Свинью теткой назовешь, когда на хвост наступят, шкура. Говори, что хотел сказать.
– Разрешите золото назад взять.
Немец боялся этих улик, покусывал губы.
– Пускай лежит, – сказал казак, – мы прикажем тебе раздать эти вещи: хозяевам.
Гитлеровец обозлился.
– Не найдете хозяев, разве на том свете только.
Казак гневно прищурился.
– Отправим тебя за ними, там встретишься.
Немец сморщился, зло сощурил глаза, следил за движениями старика, решив в удобный момент броситься на него. Казак взялся за спички. Гитлеровец напрягся, приготовился, скосил глаза на окно. Но казак, прикуривая, не спускал глаз с пленного и погрозил пальцем, когда тот шевельнулся. Немец замер.
– Какого полка? – стал допрашивать казак. – Сколько штыков в части? Говорите только правду, а то… – показал он приклад.
– В нашей службе нет штыков, только автоматы и пистолеты.
– Пономарь. По-военному штык – солдат.
Немецкий майор не понимал этой условности. Он на вопросы Кондрата Карповича отвечал только что заученными словами: «не могу знать», «рад стараться». Старый солдат продолжал расспрашивать: какого полка, сколько солдат в части? Немец в ответ говорил, что он находился не в части, а на конфиденциальной службе. Кондрат Карпович, не разобравшись в терминах, махнул рукой и сказал с досадой:
– Угодил черт на мою голову.
В вестибюле раздался, звонкий голос Михаила. Он рапортовал: «Товарищ генерал, подразделение заканчивает очистку здания от врага…»
Кондрат Карпович не выдержал, высунул голову в дверь, чтоб глянуть на генерала. Генерал пожимал руку Михаилу. Кондрат Карпович оглянулся назад – немца не было: выскочил в окно.
– Утек, черт! – бросился казак к окну и махнул через подоконник на улицу.
В комнату вошли генерал Якутин, командир полка Дорожкин, Пермяков и Михаил.
– Золотые вещицы? – удивился генерал, заметив капитал немецкого майора. – Откуда?
У генерала выступили желваки.
– Наверное, старик у немца изъял и в сердцах повел его на тот свет, – строил догадки Пермяков.
– Нет, он дисциплину уважает, – заступился за отца Михаил.
Генерал разложил на столе карту, поставил перед командирами новые задачи. Приказал все время держать связь и по телефону и через связных: могут в любую минуту дать команду «по коням!».
Кондрат Карпович внес на спине немецкого майора и брякнул на стул.
– Цапал коршун, сцапали и коршуна, – сказал он крутое словцо. – Хотел в голову стукнуть, но счастье твое, что командир приказал караулить тебя живого. Видали, чем занимался? – он указал на золотые вещи.
– Золотых дел мастер, – усмехнулся генерал. – Такие в кармане плоскогубцы носят. Увидят человека с золотыми зубами – охоту начинают. Так добывали золото? – спросил он пленного.
Немец молчал, делал вид, что не понимает.
– Что, уши заложило? – сурово спросил Кондрат Карпович.
– Я имею рану, перевязку требую, – сказал немец.
– Слыхали: требую, – иронически протянул генерал.
– Режьте сапог, – застонал немецкий майор.
– Что? Портить обувку. Ишь, неженка, – сдернул казак сапог. – Есть перевязной пакет? Нет. На свадьбу, что ли, ехал? – достал он свой индивидуальный пакет. – Мы, ополченцы, и то запаслись, – перевязывал он пленного. – Скажи теперь свою службу генералу. Только правильно.
Кондрат Карпович как будто заколдовал немца. Пленный посмотрел на генерала и заробел. Врать боялся – дрожал за свою шкуру.
– Моя служба конфиденциальная, – сказал он.
– Тайная? Гестапо? – спросил генерал. – Предпочли плен сопротивлению?
– Превратность судьбы. Тигр и тот попадает в руки дикарей.
– Слыхали, земляк? – обратился генерал к Кондрату Карповичу. – Тигр в ваших руках.
– Который мышей ловит, – сказал старый казак. – Угостить бы этого тигра черным табаком, и свято.
– Это успеется, – заметил генерал. – Мы не изверги. Если заслуживает наказания, – глянул он на золотые вещи, – передадим в трибунал. Пока отправьте его в отдел разведки на допрос.
Все вышли в вестибюль. В три ряда стояли немцы. Элвадзе считал пленных. Он был без шапки. Увидев генерала, поспешно схватил с полу каску убитого бойца, надел ее, отдал рапорт.
Елизаров-младший повел подразделение дальше, продолжать бой в центре города.
От Дона поднимались свежие части, полк народных ополченцев. На театральной площади, исполосованной чугунными когтями гусениц, застыли немецкие танки. Из некоторых еще изредка стреляли, но в этих последних попытках было что-то безнадежное. Советские танки и подвижная артиллерия в упор расстреливали «тигров» и «пантер». Немцы сдавались. Одни выбрасывали белые платочки, другие – полотенца, третьи разувались, брали в руки портянки и выходили из подбитых машин. Пленных долго не держали – они мешали. Их угоняли за Дон. Советские танки разворачивались и устремлялись на улицу Энгельса. За ними ринулось подразделение Елизарова-младшего.
В окнах кирпичных домов, в просветах подвалов торчали хоботы немецких пулеметов, брызгавших раскаленной сталью. Прижимаясь к стенам, казаки подкрадывались к смертельным очагам огня, забрасывали их гранатами.
Взвод Михаила, усиленный ополченцами, добрался до Среднего проспекта. Сдав пленного майора в отдел разведки, Кондрат Карпович поспешил в подразделение сына. Он гордился, что Михаил – один из первых освободителей города.
Отец и сын перебежали от углового дома до двухэтажного здания, в котором до войны молодежь училась музыке. На стене дома висел немецкий плакат. На нем был нарисован солдат. Он держал автомат и кричал: «Не верьте слухам! Мы не уйдем из Ростова». Михаил поднял головешку и начертил на плакате: «Выбросим». Совсем рядом раздался грохот. Пыль и пороховой дым ударили казакам в лицо. Немцы взорвали здание радиокомитета. Елизаровы нырнули в коридор и оба подумали: «Еще три квартала до переулка, где наш дом, наша родная старая казачка».
На Большом проспекте немцы решили дать бой. Они загородили путь бронированным заслоном: с Мало-Садовой улицы вышли новые «тигры» и «пантеры», завернули на улицу Энгельса – навстречу русским частям. Первый танк поравнялся с парадным, в котором были Михаил и Кондрат Карпович.
– Пройдут, черти, – встревоженно сказал Елиразов-старший.
– Не пройдут, папаня, теперь есть вот эти штучки, – он бросил противотанковую гранату.
Немецкий головной танк громыхнул, вроде подпрыгнул вверх, одна гусеница растянулась на мостовой.
– Добре рубанул, сыну, – восхищался Кондрат Карпович. – Умная штучка.
На другую немецкую машину налетел тот самый тяжелый танк, который смял вражеские мотоциклы во дворе правления железной дороги. Он ударил броневым лбом гитлеровскую «пантеру» и вывернул гусеницу.
Перебегая от дома к дому, присоединились к подразделению Михаила гранатометчики из уральской дивизии.
– Прибыли в ваше распоряжение, – сказал старшина-уралец.
Молодой Елизаров словно вырос на целую голову, а Кондрат Карпович вдруг оробел. Сумеет ли его Мишутка командовать сразу двумя взводами? Но сыну сомнений не высказал, наоборот, подбодрил как мог:
– Не посрами, Мишутка. Командуй.
Враг остервенел. Он чувствовал, но не хотел верить, что русские победят. Битва продолжалась. Гитлер, уверенный в силе крепости, запретил уходить из Ростова немцам, и военным и штатским. Поэтому за сохранение «ключа к Кавказу» сражались не только кадровые полки, но и отряды полевой жандармерии, гестапо, представители грабительского концерна Геринга, разные служители нового порядка и даже фрау, нахлынувшие сюда за пожитками. У них в одном кармане были помада и пудреница, в другом – пистолет. Ночью они валялись с офицерами, днем – обирали гардеробы, туго набивая чемоданы.
К вечеру подразделение Михаила Елизарова, ожесточенно сражаясь, добралось до Почтового переулка, где стоял небольшой двухэтажный дом, в котором осталась мать Михаила.
Стоят на углу Елизаровы – отец и сын, видят знакомую акацию под окнами родной квартиры.
– Заскочить бы, Мишутка, – скрывая волнение, проговорил Кондарт Карпович.
– Сбегайте, обрадуйте маманю, и назад.
Елизаров-старший, обычно спокойный, неспешный, в эту минуту разволновался, и его охватила детская торопливость. Он побежал как на пожар. Расстояние небольшое – один квартал, а ему казалось, что оно растянулось на версту. Вот он перед дверью, рывком открыл ее, крикнул:
– Настя!
Ответа не услышал. В квартире все перевернуто вверх дном. Где же дорогая казачка? Жива или нет? Кондрат Карпович обошел перевернутый стол, стулья, осмотрел разорванные, с отпечатками сапог бумаги. Все понял.
Михаила он нашел уже на речке Темерничке. Шел бой за вокзал. Немцы отчаянно защищались. Укрывшись в зданиях, стреляли из окон, с крыш. На привокзальной площади, на перроне, на платформах вздымались жерла орудий, хоботы танков. За вокзал уже несколько дней бились бесстрашные освободители-пехотинцы.
Казаки вместе с народными ополченцами по речке Темерничке пробрались к товарным складам, открыли огонь. Немцы ответили ливнем пуль и мин.
– Что делать дальше? – спросил Михаил командира эскадрона.
– Выполнять приказ, чего бы это ни стоило, – спокойно сказал Пермяков.
Солнце опускалось за дымящийся город. С Дона подул холодный ветер. Сумерки сгущались. Раздалось громкое «ура». Казаки ринулись по перрону к вокзалу. Первым» вбежали в зал ожидания Михаил, Элвадзе и Тахав, бросили гранаты в гитлеровских пулеметчиков. Затрещали русские пулеметы-пистолеты. Первым этаж был захвачен, но во втором оставались вражеские солдаты. Немцы начали бить с площади в окна первого этажа. Из помещения камеры хранения выбегали фашистские солдаты, стреляя из автоматов. Звенели стекла, рушилась штукатурка. Немцы пытались оцепить вокзал. Кольцо сжималось. Штыками и прикладами опрокидывая немецких солдат, ворвавшихся в помещение, бойцы выскочили наружу, на перрон и опять укрылись в товарных складах. Незаметно подступили сумерки.
Ночью не смолкал грохот боя. Вспыхивали изжелта-красные языки у пулеметов, вылетали клочкастые огоньки из автоматов и винтовок, взлетали брызги разорвавшихся мин. С запада в восточную часть и в центр Ростова с воем летели снаряды. С глухим грохотом падали на землю кирпичи, стекла, двери.
По набережной Темернички прискакал связной. Передал приказ: кавалеристы, к коноводам!
– Останься, отец! Маманю поищи…
Обнял Михаил отца, крепко поцеловал его и побежал. Кондрат Карпович смахнул слезу шершавой ладонью. Это был первый случай, когда старый казак заплакал. Не мог сдержаться: двух сыновей унесла война, третий – пошел навстречу смерти… Елизаров-старший, с тоской смотревший вслед сыну, вдруг тихо, но твердо сказал:
– В добрый час. Да сохрани тебя Родина!
Эскадрон Пермякова, воевавший три дня бок о бок с пехотинцами, примчался в свой корпус, стоявший на исходных позициях. Казаки ждали. Вот-вот раздастся команда: «По коням!» Тревожное ожидание длилось недолго. Два этих слова, наконец, были произнесены. Стояла вьюжная февральская ночь.
Михаил вскочил на своего Бараша, натянул поводья. «Куда теперь?» – многозначительно спрашивал он самого себя.
Пермяков примчался от командира полка.
– Дрогнул Гитлер, – сказал он взводным, – бегут немцы. Наша дивизия должна перехватить врата в Безымянной балке.
Пермяков, Елизаров, Элвадзе, Тахав мчались впереди. Лавина конников катилась сзади. В степи шумела метель, февральский ветер жег закопченные пороховым дымом лица казаков. Но каждого грела мысль, что час победы на этом участке фронта пришел.
Рассветало. Метель утихла. В донской степи было бело и пусто. Только на невысоком кургане недвижно темной точкой замер коршун. Заметив мчавшихся казаков, он попытался взлететь, но не мог – кто-то перебил ему крыло.
– Что за пустота в степи? – спросил Михаил Пермякова. – Где немцы?
– Они изволят катить по шоссе, километрах в десяти от нас.
– Впереди нас или сзади?
– Командующий, пожалуй, впереди. Но мы должны встретиться с ним на Безымянной балке, через которую проходит шоссе.
Всадники скакали во весь опор, вздымая снежную пыль. Казалось, что по полю катится черная река.
Вот и балка. Конники свернули вправо, пришпорили коней. Впереди было видно, как мелькали немецкие легковые машины, видимо штабные, катились под уклон грузовые, обтянутые брезентом. На подъем они шли медленно, но выбраться им из балки не пришлось.
В воздухе загудели моторы, шум нарастал. Советский бомбомет прямым попаданием разбил переднюю машину. Остальные сгрудились беспомощно, сворачивали в стороны, садились в обочины, буксовали. Бомбы падали вдоль дороги. Самолеты сделали еще круг, на бреющем полете обстреляли колонну и скрылись за курганом.
«Летчики свое сделали, – радовался Елизаров, подскакивая в седле. – Наконец пришел и наш черед». Лошади неслись к шоссе. Блеснули в серой утренней дымке клинки. Морозный воздух колыхнулся от нетерпеливого «ура». «Надо проскочить через немецкую колонну, отхватить голову хоть одному фрицу», – в азарте думал Михаил. В небе опять загудели самолеты. «Ничего. Свои не брызнут сталью – осведомлены», – мелькнула у него мысль.
Немцы заметили конницу, но пока они из-за разбитых машин наводили пулеметы и автоматы, казаки тут как тут. Взводу Елизарова повезло: он налетел на колонну первым – немцы еще не успели открыть огонь. Храпя, Бараш перепрыгнул через обочину, смял грудью растерявшегося солдата в каске. Немцы спрятались под обломки, иные сумели развернуть машины назад. Видя, что рубануть здесь никого не пришлось, Михаил дал шпоры коню.
– За мной! – крикнул он, протянув клинок вперед.
В порыве один за другим выскакивали казаки из балки, пускались в погоню. Кавалерийский наскок не терпит перерыва. Но наскок был не без урона. Нет-нет да слетит кавалерист с седла или кувыркнется на карьере конь, подбитый вражеской пулей. Елизаров догнал высокого немца. Такой верзила, что даже неудобно заносить клинок. Михаил подался вперед, приподнялся на стременах и со всего размаха рубанул длинноногого…
Казаки гаркнули «ура», увидев на горизонте танки и самоходки, врезавшиеся в середину катившейся немецкой колонны. Вслед за танками неслась конница. Немецкая колонна была разрезана на две части, раздроблена на куски.
Лес рубят – щепки летят, сражаются – падают. Падают и при отступлении и при наступлении. Недосчитались казаки многих своих однополчан. Но задание выполнили.
2
Конники, устав от похода, сделали небольшой привал. Желтое солнце светило тускло, негреюще. Кругом белым полотном лежала степь. Комсорг Элвадзе созвал комсомольское собрание. Сидели прямо на снегу, на мешках. Элвадзе вытащил несколько листков, встал.
– Один вопрос: разбор заявления младшего лейтенанта товарища Елизарова Михаила Кондратьевича, рождения 1920 года, занимаемая должность-командир взвода. Рекомендует его в комсомол член партии Пермяков. Какие будут суждения?
– Почему раньше не вступал? – спросил Тахав.
– У нас на хуторе не было организации. А потом война…
Михаил волновался. Примут ли товарищи? Хотя он теперь считал себя воином с незапятнанной совестью, но мысли о первых шагах фронтовой жизни тревожили. Вдруг не примут? Михаил крепко сцепил пальцы. Как он ни пытался внешне держаться спокойно, не удавалось: сердце билось все сильнее и сильнее.
– Пусть фронтовую биографию расскажет!
Михаил снова поднялся в рост, но помолчал, подумал. Не совсем гладким был военный путь. Конечно, он спотыкался, ошибался, но друзья поправляли его, помогали. И он заговорил начистоту:
– В моей фронтовой биографии есть два темных пятна. Первое – трусость во время боевого крещения. Старожилы подразделения все знают. Командир эскадрона хотел отдать меня под суд. Почему помиловал – не знаю…
– Потому, что кровью искупил вину, – сказал Пермяков.
– Второе, – продолжал Михаил, – тоже трусость. В разведке я испугался живого немца-связиста. Когда он был в трех метрах от меня, я, дрожа, просидел в кустах.
– Вы об этом не говорили, – заметил Пермяков.
Михаил вспыхнул лицом: стыдно и горько стало.
Он должен был рассказать Пермякову, рекомендующему его в комсомол.
– Да, надо бы рассказать вам, – согласился Михаил, – моя ошибка. Я думал, что раз схватил связиста – нечего и говорить. Но все равно за трусость в разведке до сих пор стыдно.
– Хорошо то, что хорошо кончается, – сказал Элвадзе.
Командир эскадрона испытующе посмотрел на него.
– Тут и моя вина, – сказал комсорг. – Елизаров рассказал мне тогда. Я думал, что не надо было еще раз говорить о его трусости, и так он сильно переживал.
– Сколько гитлеровцев убил? – спросил Тахав.
– Поодиночке с десяток набил, да еще прохвостов пятнадцать отправил на тот свет, когда из пулемета или автомата шпарить приходилось.
– А в кукурузе которых гробанул, считаешь? – вспомнил Элвадзе.
– Тех нет – двоих уложил тогда.
– Михаил Елизаров спотыкался, – сказал Пермяков. – Мы учили его, критиковали. Он исправлялся, мужал, вырабатывал характер. Похвально и то, что не обижался за наказания.
– Чего обижаться, ежели сам виноват, – тихо отозвался Елизаров.
– Точно. Кто сам упал, тот не плачет, – подхватил Элвадзе.
– По-моему, достоин быть в комсомоле. Я рекомендую, – сказал Пермяков, посмотрев на Михаила.
– Возражений нет? – спросил Элвадзе. – Нет. Поздравляю, – пожал он руку товарищу.
Ждать было некогда. Люди шумно поднялись, разминая отекшие ноги.
– По коням! – скомандовал Пермяков.
Поход продолжался. Вскоре ехавшие впереди заметили на горизонте смутные очертания строений. Это оказался совхоз, недавно освобожденный от немцев. В нем решили на время остановиться.
Елизаров расхаживал по саду возле хаты, в которой расположился на житье. С удовольствием и гордостью вспоминал слова Пермякова: «Достоин быть в комсомоле». Он с ненавистью посмотрел на следы немецких подошв, еще не стершиеся с садовой дорожки.
Елизаров зашел в оранжерею. Ходили слухи, что старый садовник не испугался немцев. Даже при них ухаживал за цветами и растениями. Немцы перед уходом бросили бомбы в оранжерею, был убит и старик садовод, но жизнь здесь не замерла. Кое-где зеленели саженцы. В одном месте цвел кавказский сетчатый ирис. Михаил сорвал мечевидный листок. Ему хотелось сохранить его, как память об освобождении этого цветущего южного сада.
Елизаров сел на раму одной клетки, хотел записать в свою книжечку приятное, волнующее событие-освобождение Ростова. Но вдруг вспомнил Веру. «Была бы она жива – ей послал бы этот цветок, а теперь кому?»
Михаил перечислил в памяти своих знакомых. Адрес нашелся. Пусть этот цветок будет подарком за шелковую розу, которую на память дала ему свердловчанка. Он начал писать письмо, прямо на коленях разложив листок бумаги, чудом сохранившийся в нагрудном кармане.
«Дорогая Галина Николаевна!
У меня сейчас свободная минута и хорошее настроение – приняли в комсомол. У нас привал. Погода прохладная, но на душе весна, тепло, радостно. Посылаю цветок ирис. Он только что распустился. Пусть этот подарок будет памятью о нашем военном успехе, хотя много еще впереди и цветов с увядшими лепестками, затоптанных немецким сапогом. Но я верю, что бы ни произошло, мы и люди нашей земли не дрогнут, выдержат, дождутся. Мы освободим их, обязательно освободим.
Вы, наверное, обиделись на меня за то, что я еще не писал вам. И еще больше обидитесь, если скажу, что не выполнил вашего наказа: не поцеловал за вас Виктора Кузьмича и не показал ему вашу розу. Первое поручение желаю осуществить вам самой, второе – совместно с вами. Один боюсь, как бы не надрал мне уши. Ну, вот пока и все. Будут новости – напишу. С фронтовым приветом! Михаил».
Прошла неделя после освобождения Ростова. Привал конников в совхозе затянулся. Младшего лейтенанта Елизарова вызвали в политотдел дивизии – получить комсомольский билет. Он поехал на широкой и длинной, как баржа, черной машине, оставленной немцами. Управлял сам – война всему научит.
Ехал километрах в тридцати от Ростова. «Эх, заскочить бы хотя на минуту, узнать, нашел ли отец маманю», – взволнованно думал Михаил.
В политотделе дивизии разговор был короткий, но памятный. Начальник политотдела Свиркин, поднявшись из-за стола, вручил Михаилу комсомольский билет.
– В вашей жизни, товарищ Елизаров, произошло сегодня важное событие. Вы получаете комсомольский билет. Дорожите им. В начале фронтовой жизни у вас, как вы сами пишете в своей биографии, было темное пятно. Но ваша самоотверженность и честная служба Родине дали вам право быть в рядах ленинского комсомола. Надеюсь, не опозорите, а подтвердите великое звание комсомольца…
Михаил от волнения ничего не мог сказать: все произошло не так, как он думал. Готовился произнести речь, сказать обо всех своих грехах, а тут все за него сказал начальник политотдела.
Свиркин пристально посмотрел на кудрявый чуб Михаила, спросил;
– Отец есть?
– Так точно. Донской казак Елизаров Кондрат Карпович.
– A-а, вспомнил. Это он первым в разведку пошел с левого берега? Поздравьте его. За отвагу при освобождении Ростова ему в приказе командующего объявлена благодарность. Бравый казак. Да и сын не подкачал. – Свиркин улыбнулся – Ну что ж, бей врага, как отец. Ясна задача?
– Ясна, товарищ начальник политотдела, – козырнул младший лейтенант.
Неожиданно решил спросить о том, что давно волновало:
– Товарищ комиссар, разрешите вопрос… Я в училище изучал материалы о боевых действиях нашей кавалерии в эту войну, об ее взаимодействии с другими родами войск. А почему наша дивизия так часто действует в пешем строю?
– Где нужно и можно было – сверкали и сабли. Беда в том, что на моторы не пустишь конницу. И все-таки кавалерии за храбрость памятник поставить надо. Например, Ростов без конницы взять было бы труднее. При наступлении немцев она дробила фланги, а при отступлении – настигала их, истребляла. И очень успешно. Так что кавалерия еще свое слово скажет.
Свиркин помолчал, потом неожиданно переключил разговор на другую тему.
– Такое дело, товарищ Елизаров, – начал он, – политотдел наметил провести лекции, беседы в частях. Может, и вы примете участие?
– Я никогда не читал лекции. Не умею выступать.
– Всякое умение начинается с неумения. Мы проведем инструктивные занятия с лекторами, а потом сами они проведут беседы в подразделениях. Сумеете?
– Побеседовать могу, – тихо ответил Михаил.
– Отлично. Главное, взяться за дело. Мысли будут – слова найдутся.
Свиркин много хороших слов сказал. Михаил как-то иначе стал представлять себе роль командира. Значит, он, как командир взвода, должен много знать, быть не только исполнителем приказаний, но и сам проявлять инициативу, конечно, в пределах своей службы.
Дослушав начальника политотдела, Елизаров поинтересовался;
– Товарищ начальник политотдела, разрешите спросить. Как обстановка? Нельзя на часок в Ростов заехать – домой?
– Можно. Вы на машине? Хорошо. Только захватите одну фронтовичку. Она из вашей части.
В соседней комнате, куда они вошли, у кожаного черного дивана стояла девушка в короткой шинели, подпоясанной брезентовым ремнем с тонкой пряжкой, и смотрела на них. На голове у нее лихо сидела серая ушанка из цигейки, на ногах топорщились кирзовые сапоги с широкими голенищами. Михаил посмотрел на девушку, чуть пошатнулся, будто искры брызнули от нее. Неужели правда? Вера, живая!
Михаил глянул на начальника политотдела, на мгновение смутился было своего желания броситься навстречу девушке в шинели, но не выдержал.
– Вера! – рванулся он вперед, попав в объятия вытянутых ждущих рук.
– Миша, дорогой, жив, – прошептала она, прижавшись к нему.
Свиркин отвернулся, чтобы не смущать их. Но они и без этого забыли про все на свете. Вера немного очнулась, пришла в себя.
– Миша, жив! – повторила она нежно. Они присели на диван, Свиркин дипломатично смотрел в окно.
– Партизаны мне сообщили, – рассказала Вера, – что тебя и Якова Гордеевича удалось отправить в самолете. А меня партизанский врач выхаживал. Потом была ранена, попала в госпиталь…
Начальник политотдела невольно думал о молодости, которая мужает и крепнет в громе боев.
– Какая радость! Мы опять вместе! – воскликнул Михаил. – Как здоровье? Костюшка жив?
Вера опустила голову. Что ответить? Ей больно говорить об этом. Она никогда не забудет этого горя, этой утраты – ведь мальчик погиб за нее.
Когда девушка подняла голову, Михаил увидел в ее глазах слезы. Он все понял и не стал больше спрашивать.
Начальник политотдела пожелал им счастливого пути и вышел.
…Машина мчалась по ухабистой дороге, безжалостно подбрасывая пассажиров. Вера, вцепившись в руку Михаила, думала, что теперь уж не расстанется с ним. Она смотрела на виноградники, на яблони с выбеленными стволами.
– Как чудесно здесь! – промолвила Вера.
– Не то что ваши болота – волчьи могилы, – усмехнулся Михаил, обняв одной рукой девушку за плечи. Другой он легко и уверенно управлял рулем.
– Ты не видел красот Белоруссии, – в голосе Веры прозвучали ноты гордости. – Там у нас такие виды есть, что Дон побледнеет перед ними.
– Сож, наверное, с топкими берегами, – с легкой иронией протянул Михаил.
– Да, и Сож живописен. Пройди летом по его берегам – опьянеешь от одного аромата малины и земляники. А какие сады! Яблони, груши, сливы, вишня…
Михаил не хотел сдаваться:
– Посмотрела бы ты на Ростов летом. Несешься по шоссе – кругом сирень, акации. У Сельмаша – роща, густая, зеленая. Меж деревьев газоны, как зеленые коврики. Роща опоясана детской железной дорогой, по которой несется малюсенький паровоз. Мчишься дальше. Навстречу – липы, стройные тополя, кленовый бор. От кустов тянутся вверх струйки дыма – рыбаки варят на костре рыбу. Ну, красота? – он показал на пригородные дачи, утопающие в заснеженных садах.
– Рада за тебя. Летом, наверное, красиво здесь, – сказала Вера.
Они въехали на окраину Ростова. Тревожно оглядывались по сторонам. Окна в домах разбиты, рамы висят, качаются от ветра. Вот изувечено огромное каменное здание – новостройка с развороченными углами и раздробленной крышей. На тротуаре, среди обломков валяются каменные фигуры, сорвавшиеся с карнизов многоэтажного дома. Вдоль улицы бредет женщина. Впереди она катит тачку, в которой труп мужчины. Тачку подталкивают мальчик и девочка, вероятно дети убитого.
Машина остановилась в переулке перед небольшим двухэтажным домом с балкончиком. Вблизи никого. Тревожно забилось сердце. Ставни наглухо заколочены: окна без стекол. Колкий озноб охватил Михаила, когда он посмотрел на забитые окна. Он молча помог Вере выйти из автомобиля и вошел во двор.
Михаил не узнал знакомую квартиру. Рамы выломаны: на подоконниках во время боев стояли немецкие пулеметы. Пол выжжен. Шкаф – пустой. Где книги?
Вошел Кондрат Карпович, осунувшийся, грустный. Прошло немного дней, как он отстал от сына. За это время он постарел еще больше, похудел.
– Какой ты молодец, Мишутка, что приехал. Места не нахожу без тебя, – не выпускал казак сына из своих объятий.
– Вера, сестра Костюшки, парнишки, который спас меня, – сказал Михаил.
– Жива, дочка, ну и слава богу, – поцеловал старый казак девушку в лоб.
– Где маманя? – не выдержал Михаил. – Неужели убили?
– У соседей. Здесь холодно. Нездоровится ей, плачет все время – о тебе скучает. – Отец подошел к уцелевшей печке, потрогал руками. – Зараз принесу угля, натопим и мать позовем.
Вера сняла шинель, начала убирать комнату, Вынесла сор, вымыла пол. Кондрат Карпович растопил печь. Вера по-хозяйски застелила стол газетой, развязала вещевой мешок, достала свой паек: банку консервов, сало, хлеб.
– Вот она, женская рука в доме, – одобрительно сказал Кондрат Карпович. – Теперь пойду позову мать.
В комнату вошла Анастасия Фроловна, всплеснула руками, бросилась к Михаилу.
– Мишутка! – воскликнула она, щекой прижавшись к груди сына. – Мишутка, жив! – Слезы радости потекли по лицу.
– Не надо плакать, мама, не надо. – Михаил обнимал ее, осыпая поцелуями.
– Сыночек, думала, не дождусь, – Анастасия Фроловна дрожащими руками обнимала Михаила.
– Мама, успокойся, исхудала совсем, бедненькая.
– Горе только рака красит, – старушка смахнула слезы углом платка. – Пошла по воду на Дон: водопровод замерз. На Дон немцы не пускают. Я стала просить, а они меня ружьем по спине. Упала. Добрые люди подобрали. Три дня у чужих лежала.
– Жена? – ласково и внимательно посмотрела Анастасия Фроловна на Веру.
Михаил неизвестно почему слегка смутился:
– Фронтовой друг.
– Садитесь за стол. Что я, старая, обычаи забыла.
– Да, да, маманя, угощай. Как-никак, а гости, – обнял Михаил мать. – Мама, не найдется ли для тепла?
– Сама об этом думаю. Отец, поди в сарай. Тихонько копай землю. Не разбей.
Перед уходом старик сказал:
– Да, знаешь, Мишутка: Яков Гордеевич поправился. Здесь, у соседей, греет кости. Сейчас позову.
Кондрат Карпович вернулся быстро. За ним вошел Яков Гордеевич. Он обнял Веру, поцеловал в лоб.
– Как здоровье, Яков Гордеевич? – спросил Михаил.
– Спасибо. Ничего. Несильно немец со страху ударил. Полежал я дня два в том доме, куда вы меня отправили. Потом Кондрат Карпович перевез сюда, выходил.
– Прошу за стол, – пригласил всех хозяин. – На счастье и зелье нашлось. – Он поставил на стол бутыль настойки.
Анастасия Фроловна не отрывала глаз от сына, угощала Веру.
Девушка достала маленькую баночку варенья – гостинец, который берегла для Михаила.
– Кушайте, мамаша, в штабе корпуса дали, подарок кавказских колхозников.
– Спасибо, дочка, малиновое. Хорошо от простуды, – заметила хозяйка. – Сколько варенья у нас было: вишневое, алычовое, клубничное. Все, подлые, забрали, чтоб им почернеть от него…








