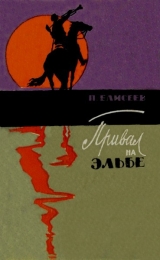
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
17
Комендатура перешла в другое, в меньшее помещение, предоставив большой особняк под Дом пионера.
После приказа о передаче внутренних дел немецким самоуправлениям в комендатуре мало осталось работников: одни уже уехали на Родину и взялись за мирный труд, другие собирались уезжать. Нагостилась и Галина Николаевна. Она и радовалась и грустила. Радовалась тому, что скоро вернется в институт, защитит диссертацию, возьмется за новые большие дела, съездит на Урал, к отцу и матери Виктора, которые теперь станут и ее родными. И когда вернется Виктор, она уже будет матерью. А грустила она при мысли, что приближается расставание с Виктором. Ее тревожило будущее Пермякова. Сколько еще ему придется быть здесь, на чужой стороне? Пуще всего пугала Галину Николаевну мысль о новой войне, которую прославляют и благословляют по ту сторону Эльбы.
Ей надо бы еще спать и спать, но она проснулась и не могла уснуть. Невольно разбудила и Виктора. Раньше бы он запретил ей разговаривать в такую рань, а теперь похвалил ее, даже спасибо сказал и нежно обнял за то, что разбудила: последний день вместе. Пермякову тоже грустно было думать об ожидающем его одиночестве в чужом краю. Хотя и тягостна новая разлука, но не так, как во время войны.
– Нескладно получается, Витя, – упавшим голосом говорила Галина Николаевна. – Родится ребенок, а у нас нет свидетельства о браке. Не зарегистрируют на твою фамилию. Прав был старый казак, отец Михаила, что жениться и замуж выходить надо только на родной земле.
– Приеду, сразу пойдем в загс и сыграем свадьбу.
– И крестины сразу? Не хорошо. Мне и ехать как-то стыдно в Москву.
– Ну вот, нашла о чем думать, – Пермяков гладил ее мягкие волосы. – Я надеюсь, вскорости получу вызов в академию. Сдам экзамен, и будем вместе всегда.
– А если не сдашь? Теперь большие требования предъявляют к поступающим в академию.
– Сдам. Три года готовлюсь. Усни, ягодка, еще…
Раннее воскресное утро. Первым посетителем комендатуры в новом помещении был инженер Штривер. На улице уже раздавались гудки автобусов, а изобретатель еще не ложился: под воскресенье он всегда работал до утра. Пришел он в рань раннюю, чтобы сказать одно слово коменданту. Дежурил капитан Елизаров.
– Если мне нельзя передать это слово, – спросил Михаил Штривера, – я разбужу коменданта.
– Нет, нет, не будите! – Штривер замахал руками. – Я хотел сказать: спасибо! Видите ли, я рассказал тот случай с Пицем и его деньгами отцу.
– У вас жив отец? – с изумлением посмотрел Михаил на седые волосы изобретателя.
– Да. Восемьдесят лет ему. Отец говорит: «Иди и скажи коменданту спасибо. Посадят в тюрьму, доказывай тогда!»
– Преступник должен быть наказан, а честному человеку нечего и думать о тюрьме.
Михаил сказал эти слова безотносительно, но Штривер вздрогнул. Не фраза, а будто пощечина поднесена. «Выходит, я нечестный!» – стукнула мысль в голову. Штривер хотел сказать: «Не имеете права так говорить», – но, подумав, выразился легче:
– За честность свою я спокоен, но каверзное стечение обстоятельств…
– Посмотрите нашу будущую фотовыставку, – показал Елизаров на кипы снимков.
В одной пачке были фотографии о разгуле гитлеровцев на чужой земле. Штривер выругался и сказал:
– Нацисты не только злодеи, но и дураки. Сами себе создали памятники проклятия. Все поколения будут проклинать их за такие зверства. Потрясающие виды. Как удалось вам собрать такую ужасную коллекцию фактов?
Факты всегда были верой Штривера. Эти факты потрясали его. Фотографии будто стреляли, кричали, плакали.
– Гитлеровцы вели фотодневники. Мне удалось один из них сохранить на память, – Елизаров протянул пачку снимков. – Узнаете?
– Вы? – воскликнул Штривер. – Что они делают?
– Выжигают звезду. Вот она, – расстегнул капитан пуговицу на груди.
– Позвольте мне эту карточку показать отцу… Он тоже… – Штривер хотел сказать, что и отец не верит словесной пропаганде, но повернул иначе, – он тоже любит факты…
Штривер вернулся часа через два. Он рассказал Елизарову, что фотография побывала у всех соседей.
– Одна фрау признала эту личность. – Он у ка? зал на снимок. – Это капитан Роммель. Мой старик назвал этого субъекта инквизитором.
– Да, Роммель. Капитан Роммель, – повторил Михаил. – На карточке он уже майор. А кто такая эта фрау?
– Она хорошая пианистка. Ее до войны приглашали в избранное общество играть на фортепьяно. Видимо, в доме Хаппа она и познакомилась с Роммелем.
– Что делает теперь пианистка?
– Живет соответственно своему женскому назначению. У нее двое детей. Муж инженер. Она хорошая хозяйка дома.
– Хорошая пианистка в соответствии со своим назначением превратилась в домохозяйку? Мне хочется поговорить с ней.
– Она очень рада будет – позвоните ей, – сказал Штривер и назвал ее имя, телефон.
Пианистка Гильда Клейнер пришла сразу. Она была в бальном платье, которое раньше надевала на вечера тузов города. Гильда Клейнер много слышала о капитане Елизарове, о его шефстве над артистами и музыкантами, над такими, как она, застрявшими в кухне и детской комнате. Оттуда он вытаскивает их на сцену. Гильда Клейнер развязала язык и рассказала все, что знала о капитане Роммеле. Приезжал он к Хаппу с другими военными редко, но регулярно, через три месяца. Где служил Роммель, Гильда Клейнер не знала. Не скрыла она и того, что капитан Роммель настойчиво ухаживал за ней – красивой пианисткой. И пока она не вышла замуж, писал ей письма. Разглядывая фотографию истязания военнопленного, фрау Гильда заметила с сожалением:
– Неэстетично и несолидно капитану имперской армии Роммелю заниматься таким кровопусканием. Я искренне разочарована…
«Красивая немка, – подумал Михаил, – хорошая пианистка».
– Почему вы бросили искусство? – спросил он. – Почему не идете на сцену?
– Детей нажила… – разоткровенничалась пианистка. – Да и боюсь, что теперь не примут меня.
– Наймите няню. На работу вас возьмут, бояться нечего.
Вскоре пришел Пермяков.
Штривер поклонился коменданту необычайно любезно. Майор не понял отменную вежливость упрямого и нелюдимого немца. Хотя после возвращения из Москвы Штривер стал более общительным, но заискивающим, каким он показался теперь, Пермяков не мог бы даже представить его. Штривер повторил свое признание:
– Я пришел сказать вам спасибо за то, что вы поверили мне.
– Вы меня простите, господин инженер, за вопрос: откуда у вас взялась эта заискивающая вежливость?
Штривер опять сбился с панталыку: комендант осуждал его за самолюбие и замкнутость, а теперь упрекнул за излишнюю любезность. Если бы не скверные стечения обстоятельств с пакетом и деньгами, Штривер ответил бы грубостью на это очередное нравоучение.
– Моя любезность – долг вежливости и благодарности, – признался Штривер. – Факты – пакет, деньги – позволяют подозревать меня во враждебной деятельности. А я хочу уверить вас, что совесть моя чиста.
– Когда у человека совесть чиста, ему нечего доказывать это, – заметил комендант, перебирая газеты.
– Выходит, опять сказал не так, – досадливо махнул рукой Штривер. – До свидания!
– Не обижайтесь. Храните свое достоинство. Как творчество? – спросил Пермяков.
– Хвалиться нечем. После злополучной встречи с тем субъектом ни на йоту не подвинулось.
– Напрасно. При любых неприятностях надо находить расположение к творчеству и труду. Вы же обещали дать модель и рабочие чертежи на этой неделе…
Пермяков вскрыл пакет. В нем была газета, но незнакомая. Такую газету не получала комендатура. Прислали ее не зря. На первой странице был портрет Штривер а и его автобиографическая статья. Штривер вцепился в газету дрожащими руками, стал читать ее. «Попробуй теперь доказать, что совесть чиста», – горестно подумал он. Ведь в статье как бы его собственной рукой написано: «Передаю свое изобретение фирме…» Дальше шли слова, от которых у Штривера волосы поднялись дыбом. В газете сообщалось, что его изобретение хотят присвоить русские, которые заставляют его работать принудительно.
– Можете арестовать меня. Факт из ряда вон выходящий, – ответил Штривер и опустился на диван – ноги его подкосились.
– Детский разговор – признак политической незрелости, – вразумлял Пермяков перетрусившего изобретателя. – Продажа творчества иностранной державе– дело совести. Вы продали не государственную тайну, а свой ум и честь.
– Честь свою я не продавал! Опутала меня та ведьма – Гертруда, – оправдывался Штривер.
Он рассказал, как она угощала его, но как была написана эта статья, не помнил.
18
Дом, в котором квартировала Гертруда Гемлер, после ее ареста пустовал. Ставни закрыты наглухо и заложены на внутренний запор. Двери были заперты на автоматические замки. Ключи от них хранились в магистрате.
Дом не охранялся. Формы ради поручили старому дворнику Хейнеману присматривать. В первые дни старик вроде пекся о нем, подходил рано утром к дверям, пробовал запоры, потом стал забывать, а в последнее время поглядывал только издали. «Никто не откусит угла», – подумал он, махнул рукой и забыл, что ему надо присматривать.
Когда Любек по секрету рассказал Хейнеману о побеге Гертруды, старик опять стал присматривать за домом. Он даже насторожился, когда Любек сказал, что где-то скрывается партнер Гертруды.
На третью ночь после безуспешного побега Гертруды из тюрьмы Хейнеман, посасывая трубку в парадном одного дома, услышал шелк автоматического замка в особняке Гертруды. Об этом он сказал Любеку. Тот несколько раз подходил к дому, прислушивался, но никаких признаков жизни в нем не уловил. Хейнеман доказывал свое.
– Какая дверь щелкнула? – спросил Любек.
– Не мог определить.
– Вышел кто или вошел?
– Не видел, я только слышал, – повторял старик.
– Что же нам делать? – посоветовался Любек.
– Зайти в дом. Может, кого потянуло туда.
– Потянуло… Ты, старик, точно мыслишь, – с ухмылкой проговорил Любек. – Надо только сообразить, как войти, и подумать, как выйти. Может и так случиться, что на пороге дышать перестанешь. Без следователя и понятых в дом войти нельзя, да и ключей нет…
Любек пошел к Пермякову и предложил выпустить из тюрьмы Гертруду. Выдумка молодого милиционера хотя и проста, даже наивна, но комендант одобрил ее и приказал Елизарову заняться этой операцией.
Капитан и Любек, назначенный помощником следователя, вызвал Гертруду. Вид старой разведчицы был грустный. После неудачного «освобождения» она опустилась, обрюзгла. Что ждет ее? Суд, тюрьма, смерть? После того как поймали ее с фальшивыми документами и возвратили в тюрьму, Гертруда пала духом, ослабла, присмирела. Она уже не задирала голову, сидела перед обвинителями с осоловелыми глазами, как укрощенная тигрица.
Допрашивать Гертруду не нужно было – все ясно. Елизаров лишь напомнил ей:
– Вы хорошо знали пианистку Тильду Клейнер? А капитана Роммеля?..
У Гертруды совсем упало настроение. Она и не думала, что здесь узнают о ее прошлых проделках. Сказать правду она не хотела, а врать не было сил: опустилась не только нравственно, но и физически. Она предпочла молчать.
Елизаров продолжал:
– Можете не говорить, что вы с капитаном Роммелем до войны встречались на вечерах и обедах у Хаппа, что пианистка Гильда Клейнер назвала вас сводней за посредничество между ней и капитаном– это нас мало интересует. Нас теперь, занимает– ваша судьба. Мы намерены облегчить ее. Хотите пожить до суда дома, под надзором Любека, или предпочитаете оставаться в тюрьме?
Гертруда повернулась всем туловищем, будто шея у нее окаменела, и мутными глазами уставилась на капитана Елизарова.
– Хотя и ослабла, но ума не лишилась, чтоб предпочесть тюрьму…
Гертруду Гемлер привезли в ее квартиру. Вместе с ней в дом вошли Елизаров, Любек и понятой. Гертруда переходила из комнаты в комнату, все обнюхивала, даже солонку с солью поднесла к носу. Покопавшись в матраце, Гертруда завыла:
– Нет колец, венчальных колец!..
– Много их было, фрау? – с нарочито сердобольным тоном спросил Любек.
– Тринадцать.
– Тринадцать мужей? Чертова дюжина! – сострил Любек. – Не надо бы с последним венчаться – не было бы несчастья.
– Не смейтесь!.. – огрызнулась Гертруда, но, спохватившись, что проболталась, процедила: – Можно и без венца кольца брать, – и медальонов нет!
– Много ли было? – спросил Любек.
– Тоже тринадцать.
– Роковая цифра! – язвил Любек. – Кошмарная ошибка. Надо бы кольца – на пальцы, медальоны – на шею нанизать, и все было бы цело.
– Господин капитан, – обратилась хозяйка к Елизарову, – прикажите замолчать зубоскалу.
– Не надо расстраивать фрау Гемлер, – проговорил капитан, – у нее и так большое горе – пропала память о тринадцати любимых. Пойдемте, Любек, фрау Гемлер нужен покой.
– Удивительное дело! – развел руками Любек. – По фрау Гемлер скучает замок с решеткой, а ее оставляют дома.
Гертруда осталась одна. Она потянулась и с наслаждением прошептала: «Как хорошо в своем доме!» Не раздеваясь, она легла на кровать, но уснуть не могла: мерещились всякие кошмары, будто кто-то душил ее. Она вскрикнула, поднялась, зажгла свет – в комнате никого.
В страхе и тревоге она провела три ночи. На четвертую, перед рассветом, она услышала тихий стук в окно. На цыпочках Гертруда подошла к окну и шарахнулась в сторону – незнакомый человек. Как ни страшно, а надо узнать, кто он. Может, кто из своих «оборотней»? Решила открыть дверь, иначе сойдет с ума до утра. Вошел Пиц. Гертруда не узнала его. Бороды у него не было, белые волосы стали рыжими, брови подбриты, подкрашены.
– Неужели не узнаешь, тетя, Марта? – назвал Пиц кличку Гертруды. – Я Пиц, – шептал он.
– Нет, ты теперь по-прежнему майор Роммель – вздохнула Гертруда. – Оказывается, капитан Елизаров знает тебя.
– Ослы мы! Не могли, за столько лет убить этого Елизарова! – обозлился Пиц и начал ходить по комнате. «И как я тогда промахнулся, вместо него жену убил!» – ругал он себя, вспоминая убийство Веры.
Пиц оглядывался, с тревогой спрашивал Гертруду, почему она очутилась дома. Надзирают ли за ней? Что говорят о нем – о Пице?
– За моим домом, конечно, следят. И я удивляюсь, как тебе удалось пробраться сюда. Впрочем, они считают, что ты улизнул. Я тоже так считала, думала, ты уже в Берлине, в каком-нибудь «институте» шифровки пишешь разведчикам. Какая красота там под американским крылышком. Почему же ты оказался здесь? Почему не бежал?
– Я тут присматривал за твоим домом. Вроде не охраняют его. От шефа получил приказ– не бросать города до замены.
– Кто же заменит? Никого нет здесь из наших.
– Пришлют кого-то из Берлина, обещал мне шеф.
– А все-таки наше дело идет к закату, – проговорила Гертруда. – Ни одного порядочного немца не осталось. Все предают нас.
– Нет, не все, – со злостью прошептал Пиц. – Инженера Штривера мы запутали? Запутали. Следователь Квинт служит нам? Служит. Он и дело Курца смазал и тебя освободил…
Хотя Пиц и похвалился, что он не одинок, но у самого коршун сердце клевал, а душа в пятки ушла, когда он увидел Гертруду. Может, это ловушка, а не благодушие коменданта? Стоит только внезапно кому-нибудь зайти в дом, как Пиц окажется захлопнутым.
– Ты золотые вещи не брал? – спросила Гертруда.
– Нет золота? – беспокойно произнес Пиц. – Иваны забрали. Надо об этом грабеже сообщить всему миру. Тогда и суд над тобой можно повернуть по-другому. Пиши: «Похитители драгоценностей».
– Не буду писать, – отказалась Гертруда. – Не хочу строить новые козни. Начнутся опять допросы, я не выдержу…
– Пиши, моя милая тетя, – прикидывался Пиц ласковым.
– Довольно, не раздражай. Уходи. Спасись хоть ты.
– Пиши, тебе говорю, – сердито сказал Пиц. – Пиши, черт возьми! – выхватил он пистолет.
Гертруда вытаращила глаза. «Вот тебе и «милая тетя Марта», – зазвенело в ушах. Ей хотелось отдыха, а «племянник» толкает ее на новую авантюру. У него своя цель – сделать хотя бы еще один ход перед матом. Но она, Гертруда, теперь не помощница, а помеха. По правилам волчьей защиты мешающих убирают. Пиц решил убить ее, но не без выгоды. Письмо Гертруды о похищении золота будет расценено шефом как хороший номер антисоветской пропаганды, а ее труп приведет в замешательство коменданта и его помощников. Но что выгоднее: убийство или самоубийство? Эта мысль только что пришла ему в голову. Убить и растрезвонить– «русские ограбили и убили», или повесить и пустить по свету утку – «русские довели до самоубийства»? Убийство уже было – Курц. Для разнообразия сотворить самоубийство… После недолгих размышлений Пиц приступил к делу.
– Пиши; тетя Марта, считаю до трех, – водил Пиц пистолетом. – Раз, два…
Позеленев от страха, Гертруда стала писать под диктовку Пица. Он обвел глазами комнату. «На чем же повесить?» Его взгляд остановился на крючке, вбитом над окном. Пиц, стоя за плечами Гертруды, засунул пистолет в карман, взял бельевую веревку, закинул за крюк и вдруг, накинув петлю на шею своей «тете Марте», дернул изо всей силы. Вскрикнула «милая тетя Марта», рухнула со стула, повисла, забилась… Пиц бросился в дверь, но убежать не пришлось. Любек стукнул его в голову рукояткой пистолета. Надежные дворники схватили «оборотня», скрутили ему руки. Гертруду вытащили из петли.
Сообщили в комендатуру. Прибыл капитан Елизаров.
– Поняли союзника? – осведомился Елизаров у фрау Гемлер, указывая на Пица.
– Вы подлец, Роммель, – прохрипела Гертруда и отвернулась, даже заплакала со злости.
Роммель готов был перегрызть всех. Зубы его ляскали. Елизаров пристально смотрел на перекрасившегося врага, припоминая страшные минуты плена, когда Роммель выжигал ему на груди звезду.
Любек обыскал Роммеля, достал из его карманов золотые вещицы и, разглядывая, приговаривал:
– Радуйтесь, фрау Гемлер. Нашлись кольца и медальоны ваших тринадцати мужей.
– Жулик, а не разведчик! – со злостью проговорила Гертруда и плюнула.
Роммель ударил «тетю Марту» по лицу. Ударил не в отместку за оскорбления, а чтобы спасти свою шкуру. Он решил свалить все на Гертруду. Выйдет – не выйдет, теперь уж все равно.
– Я хотел своими руками удушить эту фашистскую волчицу, – обратился он к Елизарову. – Но… я не могу сказать всего при них… – показал он на Любека и Гертруду.
Елизаров удалил остальных в другую комнату, стал напротив Роммеля и предупредил:
– Не шевелиться – застрелю.
– Я работаю на советскую разведку, – шепнул Роммель.
– Дешевый маневр, господин майор, – недобро усмехнулся» Елизаров. – А когда вы выжигали звезду на моей груди, тоже работали на советскую разведку?
– Тогда давайте говорить начистоту, – пустился на новую хитрость Роммель. – Да, я причинил вам неприятности. Но меня принуждали тогда начальники. Вы ведь тоже сделали преступление – выступили с заявлением в нашей газете.
– Клевета! – выкрикнул Михаил.
– Не возмущайтесь, – вкрадчиво возразил Роммель. – Убивать по вашим законам вы не имеете права. Дело дойдет до суда, и я докажу, что именно так все и было. Потребую достать подлинники ваших писаний. Архивы, к вашему сведению, сохранились. И вам никто не поверит, что ваше выступление в газете – подделка.
– Чего вы хотите достичь этой провокацией? – вздрогнул Елизаров от гнева и чуть не нажал на спусковой крючок.
– Никакой провокации, – старался Роммель подкупить противника. – Я хочу полюбовно предотвратить грозящую нам обоим опасность. Что я хочу сказать? Вы меня сейчас отпустите, и никто не будет знать…
– Наши люди знают о том, что вы подделали мое заявление. Мне хочется застрелить вас. Но я вынужден доставить вас в комендатуру, – с ненавистью выдохнул Елизаров. Он терял самообладание. – Выходи, – указал он пистолетом на дверь.
Рядом с дверью была уборная. Роммель сделал болезненную гримасу, извинился за нескромную надобность, попросил разрешения и шмыгнул в уборную. Там он закрыл дверь и вылез в окно. Но убежать не успел – догнала пуля Любека, попавшая в ногу.
Жидкий белесоватый туман, наплывший с Эльбы, рассеивался. Небо прояснилось. Сторож выключил уличные лампочки. Разом заревели гудки двух заводов. На улицах появились рабочие.
Любек с дворником внесли стонущего Роммеля обратно в дом Гертруды.
– Фрау Гемлер, спросите своего «племянника», за что он хотел удушить вас? – потребовал Елизаров.
– Не знаю. Я ничего плохого не сделала ему, – оправдывалась Гертруда, как перед судом.
– Вы, фрау Гемлер, отлично знаете гитлеровский кодекс: мешающих и ненужных разведчиков убивают. Вы для Пица-Роммеля теперь не нужны, стали помехой.
– Ради бога, если вы хотите оставить его здесь, меня лучше отвезите в тюрьму, – простонала Гертруда.








