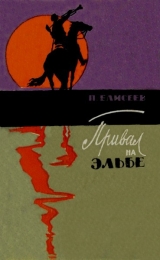
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Докладывает старший лейтенант Елизаров, – начал он.
Кратко и точно, как положено военному, рассказав историю своего ранения, Елизаров заключил:
– После проведенной операции я совершенно здоров. В санаторий, как меня принуждают, ехать не собираюсь. Хочу скорей вернуться на службу. Если можно, отправьте к отцу и невесте в Германию.
Услышав ответ, Елизаров вдруг присмирел и, пристукнув каблуками, покорно произнес:
– Есть явиться в управление кадров.
Галина Николаевна, слушавшая разговор Михаила с министром, рассмеялась.
– Значит, руки по швам. А что насчет Германии? Поедете?
– Не знаю. Решат в управлении кадров. Министр говорит, что кого попало на службу туда не посылают, отбирают достойных. Галина Николаевна, не откажите в просьбе – пошлите меня в Большой театр за билетами и прикажите купить шампанского.
– С удовольствием. Только и маме возьмите билет. После оперы поднимем бокал за ваше здоровье.
– За ваши золотые руки. За всех, кто принес победу.
Часть третья

1

Почему именно майора Пермякова назначили комендантом Гендендорфа? На этот невольный вопрос казаки и офицеры полка отвечали себе по-разному, но все сходились ада том, что именно он, Пермяков, с его твердостью в отношении воинского порядка и внимательностью к людям, соответствует этому новому мирному посту.
Самому Пермякову некогда было задумываться, почему выбор пал на него. На плечи ему и его комендатуре взгромоздили небывалое дело – наладить мирную жизнь разбитого войной немецкого города.
Улицы еще пестрели белыми флагами. Пермяков и старшина комендатуры Кондрат Карпович Елизаров стояли перед большим темно-коричневым особняком, обнесенным высоким железным забором, и смотрели, как Тахав Керимов поднимает на вышку трехэтажного дома с чугунным балконом красное знамя Затем старый казак Елизаров деловито прибил над парадным входом вывеску «Советская комендатура» и поставил часового.
Пермяков зашел в свой комендантский кабинет, осмотрел его. За стол ему не хотелось садиться – непривычное занятие. С какой радостью он склонился бы теперь в отчем доме над своим письменным столом с одной тумбочкой, в которой хранились его толстые тетради – черновики диссертации «Пятилетки Урала»… Пермяков походил по кабинету, вышел в коридор, взял Кондрата Карповича под руку и пошел с Ним осматривать картины, выставленные в большом зеленом зале особняка, покинутого хозяевами, бежавшими за Эльбу. На стенах висели портреты генералов в тяжелых резных и лепных рамах с тусклой позолотой. На самом видном месте – Гитлер, напутствующий свои войска. Над рядами солдат змеился неоновый транспарант «Нах Остен!»[18]18
На восток
[Закрыть].
– Портретная галерея германских милитаристов, – сказал Пермяков. – Видно, хозяин особняка свято чтил эти кровавые традиции немецкой военщины.
Зашли и на кухню бывшего хозяина. Здесь не только посуда, но и приготовленный обед остался нетронутым – настолько быстро нагрянули в город казаки.
Кондрат Карпович и Пермяков сели за длинный стол, накрытый для обеда. На столе – бумажные салфетки с типографскими знаками «Нах остен!».
– В ответ на ихний «Нах остен!» мы можем написать: «Наш привал на Эльбе», – усмехнулся Пермяков. Но мысли его теперь были заняты не военным походом, а мирными делами. Комендант думал о том, как бы найти общий язык с жителями города, различить недругов от будущих друзей, затопить печи пекарен.
Старшина Елизаров тоже думал о своей службе.
Ему поручили открыть столовую при комендатуре. Дело как будто несложное: продукты будут отпускаться из военного склада, хлеб – из пекарни. Старого казака тревожило другое: Пермяков приказал пригласить на работу в столовую «немцев. А можно ли довериться вчерашним врагам? Хотя за несколько дней жизни в Гендендорфе Кондрат Карпович почувствовал, что горожане не очень-то чураются советских армейцев, но сердце его все-таки не лежало к немцам. Старый казак не верил, что от и могут жить мирно. Он думал, что за свои злые деяния немцы и после войны будут наказаны. А что выходит? Вместо наказания русские сами заботятся о хлебе-соли для немцев. И ему, старшине комендатуры, предложили завести дружбу с жителями, пригласить немок на работу, да еще куда – в столовую!..
– Как со столовой? – словно подслушал Пермяков его мысли.
– Насчет кадров сомнение берет, товарищ майор, – откровенно признался Кондрат Карпович. – Опасаюсь брать немцев, как бы белого перца не подсыпали в котел.
– Бдительность прибавляет век, – напомнил ему Пермяков, – но никому не верить – это уже слабость духа.
– Я верю, но не немецкому зверю, то бишь фашисту. И еще раз скажу свой совет: взять пока своих поваров и девушек из частей.
– Ничего. Мы вреда не сделали немецкому народу. Присмотритесь к честным людям, пригласите кого-нибудь из бывших кухарок, прислуг, беднячек.
Кондрат Карпович не допускал пререканий с начальством. Для него слово коменданта – закон. Он только открыто высказал свои опасения.
– Искру тушат до пожара, о беде думают до удара, – этими словами он и закончил разговор об открытии столовой.
Первыми пришли в комендатуру немецкие рабочие, среди них были и коммунисты, их руководитель Больце спросил: «С чего начать?» Пермяков посоветовал провести регистрацию коммунистов и выбрать комитет.
Робко открыл двустворчатую дверь профессор Торрен в военном кителе без погон. Лицо его было землисто-бледное. Глаза ввалились. В последнее время он исхудал: недоедал и недосыпал, дрожал от страха… Месяца полтора до конца войны его вместе с другими тыловиками отчислили из штаба, в котором он был писарем, и отправили на передовую. Воевал он не за совесть, а за страх. Старался ниже держать голову, глубже прятаться в землю, не попадаться на глаза начальству. Эта тактика спасла его от смерти и плена. Накануне падения Гендендорфа Торрена настигли советские конники. Он заранее поднял белый платок, и казаки проскочили мимо, а он с миром добрел до своей старухи.
Профессор Торрен отрекомендовался коменданту и, ничего не тая, рассказал свою жизнь. Он старый социал-демократ. При фашистской власти отошел в тень, оторвался от своей партии, лидеры которой тоже стали молиться нацистскому богу. Ему предложили кафедру философии – согласился. По указке министра пропаганды он вычеркнул из программы одну часть формулы Гегеля – «все разумное действительно» и перепевал перед студентами только вторую ее часть – «все действительное разумно».
– Многое передумал я за время господства нацистов. Тяжело было, – вздохнул Торрен. – Судя по вашей прокламации (так он назвал обращение коменданта к жителям города), и у нас, наконец, восторжествуют свобода и разум.
Вошла в кабинет женщина с седеющими волосами. Пермяков попросил ее сесть. Немка опустилась в кресло, широкое и глубокое, как кузов автомобиля. Пермяков перевел взор с нее на профессора. Что ответить ему?
– Свобода по-разному понималась у вас в Германии. Боролись за нее Карл Либкнехт и Роза Люксембург и поплатились жизнью. Погиб за свободу и Эрнст Тельман. Теперь несет знамя свободы Вильгельм Пик. Какое же ваше мнение о свободе? – Пермяков обвел глазами посетителей.
Немка достала из потертой сумки газету и, волнуясь, сказала:
– Вот она, моя свобода. Ее описал сам Геббельс. Прочитайте, пожалуйста.
Пермяков стал читать: «Эта изменница Гертруда Гельмер, выученица Клары Цеткин, продалась Советской России и подрывала наше государство, предавала интересы новой Германии».
– То есть нацистской Германии, – пояснила Гертруда. – Десять лет я мучилась за колючей проволокой. Сидеть бы мне до смерти, если не подул бы ваш ветер с востока.
– Подул ветер с востока, собирают плоды на западе, – проговорил пожилой рабочий, коммунист Больце.
– Правда, правда! – подхватила Гертруда. – Плоды налицо: и над нашей Германией зардело знамя свободы…
Пермяков, беседуя с первыми посетителями, пригласил их в зал. Все стали рассматривать портреты.
– Это Фридрих Второй? – спросил комендант, показав на большой портрет.
– Да, Фридрих Великий, – добавил профессор Торрен. – Выдающийся полководец, герой семилетней Силезской войны.
Майор Пермяков, изучавший историю в Московском университете и освеживший свои знания на недавних курсах, почувствовал в словах профессора фальшивую гордость. Он посмотрел на него, и, как бы уточняя ответ ученика, поправил:
– Фридрих Второй – жестокий колонизатор. Он отнял у Польши Силезию, затопил в крови силезское восстание ткачей.
Гертруда сочувственно произнесла:
– Правильно…
Профессор Торрен поморгал воспаленными веками, откашлялся. Слишком уж резкая оценка дана Фридриху Великому этим русским офицером. Но спорить с ним не решился. Торрен посмотрел на Пермякова, на портрет Фридриха и подумал: «Разные взгляды на вещи». Не вдаваясь в спор, он решил примирить эти взгляды:
– Силезское восстание – это лишь эпизод истории.
– Эпизод памятный: взрыв народного гнева, – заметил Пермяков. – Помните, как описывает его Гауптман в драме «Ткачи»?
– Великолепная драма! – заметила Гертруда. – Ее очень хвалила Клара Цеткин.
Профессор Торрен почувствовал, как пошатнулся его довод. Драма «Ткачи» – действительно суровый приговор немецким завоевателям. И чтобы как-то выйти из затруднения, пояснил:
– Хранитель этой коллекции портретов – генерал Хапп. Он прославлял вместе с Геббельсом то, что было на руку Гитлеру в походе на восток.
– А это генерал Людендорф, – показал Больце на другой портрет. – Этого палача я лично помню.
– Зачем же так резко? Людендорф был крупным военно-политическим деятелем, – заметил Торрен.
– Людендорф? Он был главой контрреволюционного заговора 1920 года, – возразил Больце и, посмотрев на другой портрет, спросил: – А что вы скажете о Носке?
– Я часто слушал его выступления на социал-демократических собраниях, – не без гордости сказал профессор Торрен. – Носке был символом коалиционного сотрудничества…
– С буржуазией, – добавил Больце. – Носке социал-предатель, душитель свободы, получивший от нас кличку «Кровавая собака». Он затопил в крови пролетарский Берлин и матросский Киль. По его милости были убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Не зря Гитлер назначил ему пенсию.
Пермякову стало ясно, как относятся к свободе первые посетители комендатуры.
На стенах висело еще десятка два портретов ревнителей германского империализма.
– А портретов поистине великих немцев – Гёте, Бетховена, Гейне, Маркса, Энгельса нет, – заметил Пермяков с сожалением.
– Не по нраву пришлись они Гитлеру, Геббельсу и их приспешникам вроде владельца этого дома генерала Хаппа, – проговорила Гертруда.
– Не по духу, – добавил Больце. – Мы, коммунисты, в тайных кружках иногда говорили и об учебниках, фальшиво написанных нацистскими историками.
– Да, они фальсифицировали историю, – заметил Пермяков. – Честные ученые Германии напишут ее заново.
– Господин майор, – как бы спохватился профессор Торрен, – почему вы не назвали в числе наших великих людей Гегеля?
– Гегель, конечно, великий философ. Эпигоны даже считают его «абсолютный дух» венцом человеческой мысли. Мы на семинаре разбирали книгу одного немецкого философа «Диалектика понятий Гегеля». Он называет учение Гегеля вершиной разума…
– Позвольте, это же мой труд! – воскликнул профессор.
Пермяков удивился, встретив автора-идеалиста, но не стал говорить о его книге, не хотел огорчать философа при первой встрече.
Больце посмотрел на свои карманные часы и заговорил о насущных делах. В городе нет хлеба, не работают магазины, школы, молчит радио. Беседа затянулась. Под конец Больце сказал:
– Господин комендант, мы уполномочены рабочими – коммунистами и социал-демократами сообщить вам о нашем желании действовать совместно…
– Я искренне удивлен, – перебил его Торрен. – Я лидер социал-демократов и считаю, что вы, господин Больце, неправомочны делать такое заявление.
– Я говорю, господин профессор, от имени коммунистов и тех социал-демократов, с которыми мы более пятнадцати лет вместе работаем на заводе. Они высказались за объединенные действия.
– Этот вопрос является компетенцией нашего руководства, – настойчиво возразил профессор Торрен.
– Не спорю, – спокойно отвечал Больце. – Но воля рядовых членов может быть хорошей предпосылкой для такого разговора.
– У нас с вами нет общей платформы, – отрицательно покачал головой Торрен. – Чья программа будет принята? Кому будет принадлежать лидерство? – Он посмотрел на Пермякова и замолчал.
Гертруда внимательно слушала этот спор, но не вмешивалась. Ей хотелось знать мнение коменданта. В тревожном молчании ждал ответа и профессор.
– Этот вопрос решайте сами, находите общую платформу, – сказал Пермяков. – Наша комендатура будет приветствовать и поддерживать демократические решения рабочих, их передовых организаций – словом, народную демократию.
– Если так – идеально! – восторженно произнес профессор. – Я так и передам своим единомышленникам.
– Передайте всем жителям города, – продолжал Пермяков, – пусть они проводят собрания, митинги и решают, какую программу принять для возрождения демократии. Советское командование – за неограниченное волеизъявление трудового немецкого народа.
– Мы так и ожидали! – обрадовался Больце. Он был уверен, что именно такой образ жизни и установится в его родном городе, обновленной стране. Когда товарищи посылали его к коменданту, они просили сказать, что коммунисты засучивают рукава, чтобы возродить свободную жизнь, и надеются на помощь советских властей.
– У нас с вами полное совпадение планов действий, – отвечал ему Пермяков.
Профессор Торрен, наоборот, сомневался в помощи победителя: «Какое дело завоевателю до того, есть хлеб или нет его у народа – вчерашнего противника». О власти народной и мысли не допускал профессор. Он рассчитывал только на просветительную деятельность социал-демократов под контролем советских властей. Теперь ему стало ясно, что русские не держат камня за пазухой. Профессор протянул руку Пермякову и сказал, что легло на душу в последнюю минуту:
– Я благодарен вам.
Надо бы уже уйти, но он опять опустился в глубокое кресло. Ему хотелось еще поговорить, и он спросил коменданта:
– Следовательно, понуждений к объединению наших партий не будет?
Пермякову показался этот вопрос излишним. Ведь он четко и ясно сказал об этом.
– Наш принцип – убеждать, а не понуждать, – терпеливо разъяснял он. – Я могу только сказать: коммунисты правы, что борются за единство рабочего класса. Двупартийная система всегда раздробляла пролетариат и приводила к историческим несчастьям. Последним из них был фашизм.
– Я с вами согласен, господин комендант… – проговорил Торрен.
– Так в чем же дело? – спросил его Больце. – От добра добра не ищут. Соберемся за круглым столом, посовещаемся, созовем объединительную конференцию и обратимся с предложением к высшему руководству.
– Я согласен в том, что фашизм – наше историческое несчастье, – пояснил Торрен, – но я за многопартийную систему как основу демократии.
Профессор Торрен стал смелей и искренней. «С русскими, пожалуй, можно во весь голос говорить», – подумал он, взглянув в открытые глаза Пермякова. Комендант показался старому немцу чрезвычайно любезным. Профессору хотелось еще побеседовать с майором. Но о чем? Нашлась мысль – о своей книге. У Пермякова, наоборот, не было желания пускаться в философию. Но профессор неумолимо расспрашивал его о своей книге.
– Детально мне, признаться, некогда разбирать вашу книгу, – оговорился Пермяков. – Могу лишь сказать, что в учебной практике мы пользовались вашей книгой как образцом современного идеализма. Книга антинаучная и, если хотите, вредная, разумеется с нашей, коммунистической точки зрения.
Профессор никогда не слышал таких резких слов о своем творчестве. Суровое суждение советского офицера он принял как выпад против него и с раздражением ответил:
– Я высоко ценю вашу компетенцию в области истории и политики, но ваши философские взгляды не внушают мне симпатии, а суждение о моей книге по меньшей мере некорректно.
– Такова уж судьба противников материализма. В этом мы не знаем компромиссов, – спокойно полемизировал Пермяков. – Вините Карла Маркса. Он первый выступил против идеализма.
– Вы, господин комендант, не Маркс, – уже гневно выпалил профессор.
– Конечно! – улыбнувшись, воскликнул Пермяков. – Я лишь рядовой ученик Маркса. Вы, профессор, не обижайтесь. У нас, в Советском Союзе, так говорят: друг спорит, недруг поддакивает. Я не хочу быть вашим недругом.
Больце сдержанно, без всякого злорадства, ухмылялся. Ему нравилась прямота Пермякова, сказавшего горькую правду о философии социал-демократа. А Торрену показалось, что комендант разбранил его за несговорчивость.
– Вы решили скомпрометировать меня, – проворчал профессор, – за то, видимо, что я не принимаю предложения коммунистов.
Пермяков крайне удивился; профессор оказался эдаким большим ребенком, неправильно понимающим критику.
– Самое правильное дело, господин профессор, смело говорить правду, – тем же дружеским тоном продолжал майор. – В этом наша сила. Эту силу мы, советские люди, называем критикой.
– Я не советский человек. Ваш метод жизни не может относиться ко мне, – в голосе Торрена уже послышались нотки неприязни. – Критика – бич, она применима только к нерадивым.
Эти слова еще больше удивили Пермякова. Какое неправильное понимание истины! Он хотел махнуть рукой, подумав, что вразумлять старого идеалиста так же бесполезно, как поливать высохшее дерево. Это сравнение напомнило Пермякову высказывания гения о критике, и он сказал об этом:
– Вы знаете, что ваши великие соотечественники Маркс и Энгельс сказали о критике? Они говорили, что каждый принцип и каждое направление становятся тем сильнее и неотразимее, чем беспощаднее освобождают их путем критики от ненужных наростов и экстравагантностей, подобно тому как дерево становится крепче и приносит лучше плоды, когда вовремя срезают его отсохшие ветви.
Слова «сильнее и неотразимее» врезались в сознание Торрена. Может ли он, седовласый профессор, считать себя сильным и неотразимым? Философ глубоко задумался. Он почувствовал в словах русского полемиста правду. Однако же примириться с его критикой он тоже не мог заставить себя, как не мог бы переродиться, перечеркнуть свое творчество. Признать, что майор в чем-то прав, значит поднять белый флаг; возразить – не находил точки опоры. В таком случае лучше промолчать. И, ничего не говоря, он направился к двери.
– Профессор, до свиданья, – сказал Пермяков вслед Торрену. – Заходите побеседовать.
– Расхолодили вы философа, – заметил Больце.
– Будет теперь примочку класть на голову, – протянула Гертруда.
– Садитесь, товарищи, – сказал Пермяков коммунистам. – Подумаем вместе о начале начал. Мне кажется, перво-наперво надо подобрать работников редакций, газеты, радио и призвать народ восстанавливать жизнь в городе, обратиться к специалистам. Без населения мы ничего не сделаем.
– Специалисты забились в норы, – с обидой сказал Больце. – Я разговаривал с одним крупным инженером. О работе и слушать не хочет.
– Как его имя? – спросил Пермяков.
– Штривер.
– Попросите его зайти ко мне. До свидания.
Поздно вечером в кабинет коменданта вошли два молодых человека. Один из них поздоровался, назвал свое имя – Любек. Другой, чем-то возбужденный, сразу стал возмущаться. Лицо его было красное, потное, будто он только что выскочил из горячей бани.
– Безобразие, товарищ комендант! Когда же нам, рабочей молодежи, дадут права, – выпалил он как из пулемета. – При Гитлере нас, рабочих парней, держали в черном теле, частенько дубасили. И сейчас закрывают нам дорогу.
– Во-первых, здравствуйте. – Пермяков подал руку и назвал свою фамилию.
– Извините, сгоряча получилось. Вальтер, – назвался посетитель.
– Садитесь, пожалуйста, господин Вальтер.
– Называйте меня «товарищ», как члена Союза свободной молодежи.
– Есть уже такой союз?
– Есть. Сегодня я организовал. Меня выбрали председателем.
– Как это вы организовали?
– Собрали мы с ним, – указал Вальтер на Любека, – рабочих парней, выработали манифест и подписали все.
– Манифест?! – удивленно воскликнул комендант. – Что же в нем написано?
– Вот что. – Вальтер достал листок. – Принимать в союз только рабочих и никого из членов гитлерюгенд.
– А молодых крестьян принимаете?
– Нет. Они частные собственники…
– А девушки могут вступить в ваш союз? – спрашивал Пермяков.
– Нет. Ненадежные люди: будут в церковь ходить.
– Скучно будет в вашем союзе, товарищ Вальтер. Вы знаете, что такое комсомол?
– Знаю. Комсомольцы – все бедняки, не ходят в церковь, без разрешения милиции не имеют права жениться.
– Нет, не бедняки, – улыбнулся Пермяков. – Они имеют свои издательства, газеты, журналы, театры, стадионы. И всем этим пользуются коллективно.
– О коллективности я знаю, – перебил Вальтер коменданта. – Коллективно и с женами спят.
– Эти ваши басни идут от Геббельса, – покачал головой Пермяков. – Надо бы вам послушать правдивый рассказ о комсомоле.
– А вы расскажете? – спросил Любек. – Мы соберем парней.
– Хорошо. Только приглашайте всю молодежь.
– И членов гитлерюгенд?
– Да, пусть и они послушают.
– Ни за что! По одной улице я не хочу с ними ходить. В тюрьму их! – заявил Вальтер.
– За что?
– За то, что они наши враги. Что получается? Сегодня они забрались к нам на собрание и освистали меня, когда я читал манифест.
– Свистали и нечлены гитлерюгенд, – вставил Любек.
– Что вы сказали им в ответ?
– Выгнали с собрания.
– Послушались?
– Не сразу. Пришлось кое-кому поднести тумаков.
– Это предусмотрено в вашем манифесте? – подметил Пермяков.
Вальтер почувствовал, что комендант не одобряет ни наскока на бывших членов гитлерюгенд, ни манифеста. Он стал оправдываться:
– Иначе с ними нельзя. Вот факт. После собрания я шел домой. Они в переулке дали мне «темную». Я считаю это политическим делом: побили за манифест.
– А по-моему, тумаки за тумаки, и виноваты вы, что попросили с собрания кулаками, – пояснил Пермяков. – Я советую вам на первом же собрании признать свою ошибку и извиниться.
– Ошибку? – протянул Вальтер. – Нет, извиняться перед гитлеровскими типами не буду, хоть убейте.
– Тогда придется мне сказать, что товарищ Вальтер ненавидит фашистов, а сам применяет их методы.
– Я говорил: надо их правдой бить, – заметил Любек.
– Товарищ комендант, почему вы защищаете их честь? – с болью и обидой спросил Вальтер.
– Я хочу защитить вашу честь. Вы должны быть морально выше гитлеровских выучеников. Драться не надо. Мы и так отучим их свистать. Пригласите их на собрание.
– Нет, нет. Это не моя политика. До свиданья!
– Подождите, – Пермяков достал из стола книгу. – В этом романе рассказывается об одном упрямом рабочем парне, который тоже бросался с кулаками на своих противников – господских сынков. Ему один коммунист сказал: «Биться в одиночку – жизни не перевернуть». И тот коммунист научил рабочего парня Павла Корчагина, как бороться с классовым врагом.
– Это как понимать: классовый враг? – Вальтер уставился на коменданта.
– Созовите собрание – я расскажу.
– Полезно было бы почитать эту книгу, – промолвил Любек.
– Не умеем читать по-русски. Не учили нас этому, – сказал Вальтер.
– Всякое умение начинается с неумения. Было бы только желание. До свидания, – простился комендант с молодыми немцами.
Пермяков остался один. Он был доволен, что люди потянулись в комендатуру. Только достал общую тетрадь, чтобы начать летопись своей новой работы, но записать ничего не успел: в кабинет вошел высокий сутулый человек лет пятидесяти. Лицо у него небритое. Поздоровался он с комендантом еле заметным кивком и словно по принуждению сказал:
– Инженер Штривер. Явился по вашему приказанию.
– Здравствуйте, – Пермяков протянул руку. – Только я не приказывал, а просил зайти ко мне. Не скучно вам жить после войны без дела?
Не такого вопроса ожидал Штривер. Он думал, комендант спросит: чем занимался при нацистах, состоял ли в их партии? На неожиданный вопрос он не ответил, а только пожал плечами. Какое дело коменданту до его чувств?
Пермяков понял неприязнь немца, не стал добиваться ответа, задал ему другой вопрос:
– У вас дома есть радио?
Штриверу показалось это допросом. Во время войны нередко гестаповцы интересовались его радиоприемником, следили за ним, не слушает ли он советские передачи. Тогда была война – фашисты боялись правды о ней, запрещали пользоваться приемниками. Штривер аккуратно подчинялся. «Война кончилась, Геббельс умолк, а эфир и у этих под запретом», – подумал Штривер и вызывающе сказал:
– Не беспокойтесь, господин комендант, мой радиоприемник молчит: тока нет.
– Не могу не беспокоиться, раз молчит, – сказал Пермяков. – Надо, чтоб говорил, да не только ваш, но и другие приемники, чтоб заговорила радиостанция города. Вот об этом я и хотел просить вас.
Штривер стоял невозмутимо, как будто не с ним разговаривал комендант. Инженер не хотел и думать о работе и спайке с русскими, считая их людьми второго сорта, а победу – случайной. Он был уверен, что очень скоро фортуна повернется спиной к русским.
Пермяков доказывал, как важна и дорога работа такого опытного специалиста по радио, как инженер Штривер, и просил его быть организатором и руководителем восстановления радиостанции.
– Руководство и организаторство – это не моя стихия, – проговорил Штривер. – Мой бог – техника. Хочу быть ему верен до конца.
– Никто не покушается на вашего бога, – внушал Пермяков поклоннику чистой техники, – веруйте в него и служите ему. Особенно важна ваша служба теперь, когда вашему богу не поздоровилось. Фашистский бог ранил его.
– Я служу, не изменяя ему.
– Что вы делаете теперь? – спросил Пермяков.
– Ничего. Живу праздно, если не считать домашних забот.
– Праздность – мать пороков, труд – отец счастья. Я хотел пожелать вам счастья – взяться за труд. Ведь немцы – трудолюбивые люди. Да и вы, говорят, очень любили труд.
– Я и сейчас люблю, но нет дела по любви.
Как ни старался Пермяков вызвать замкнутого специалиста на откровенный разговор, это не удалось. Штривер не верил в прочность победы русских и поэтому, не говоря об этом прямо, отказывался от сотрудничества с ними. Он сказал сквозь зубы «до свиданья» и ушел.








