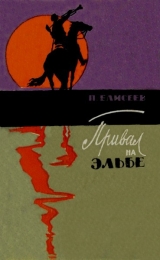
Текст книги "Привал на Эльбе"
Автор книги: Петр Елисеев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
13
Пермяков вернулся из Берлина. Он достал заветную тетрадь и писал о своей поездке: «Не в дневник, а в газету надо написать об этом. Издевательство над немецким народом. Его древнюю столицу раскололи на четыре части. Западники и слушать не хотят, об установлении единого правления. Но Берлин – не Шанхай девятнадцатого века…»
В кабинет вошли Больце и Берта. Бургомистр решил назначить старую кухарку заведующей кафе «Функе». Берта не соглашалась: говорит, куда, мол, ей, кухарке, быть начальницей.
– Не беда, что вы кухарка, – сказал Пермяков. – Ленин говорил: каждая кухарка должна уметь управлять государством. Вот и начинайте…
– Сначала надо подучиться. Что я понимаю в питейном деле? Обворуют кафе – отвечай.
– Кто будет воровать, тот и ответит, – заметил Пермяков.
– Товарищ майор, и вы против меня? – произнесла Берта эти слова, как жалобу.
– Ничуть. Я не поддерживаю это назначение, – сказал комендант. – А заведующей столовой рекомендовал бы вас. Там вы будете на месте.
– Это, конечно, рационально, – соглашался бургомистр. – Но нам надо сегодня же сменить руководство кафе «Функе». Народ требует. А Берта вполне подходит – знает кулинарию.
– Назначьте добросовестного официанта.
– Там нет проверенных людей. Хотя предприятие не из значительных, но важно, чтобы оно после отчуждения от хозяина работало не хуже, а лучше.
– Оно и будет работать лучше, – доказывал Пермяков. – Созовите собрание работников кафе, объясните требование народа. Люди поймут, будут дорожить честью своего производства, не частного, как до этого, а народного.
Бургомистр согласился с комендантом.
Пермяков спросил, как идет подготовка к открытию Дома пионеров. Больце охотно и радостно рассказал о решении магистрата по этому делу, об участии учителей, родителей, обещающих помочь в работе с детьми.
– Помещение выбрали неподходящее, – заметил комендант.
– Лучшего пока нет в городе.
– Есть. Вот оно, – показал Пермяков на здание, занятое комендатурой.
– А комендатура? – с удивлением спросил бургомистр.
– Комендатура переедет в меньшее здание. Первое время она потеснится, потом сократится, а затем упразднится.
Больце оробел. Он не представлял, как это магистрат будет работать без коменданта, который для него, бургомистра, был и арбитром, и консультантом, и помощником. Больце вздохнул и не без тревоги проговорил:
– Германия похожа на сильно истощенного человека, которому нужна серьезная поддержка. Вы помогли нам встать на ноги, но мы еще не окрепли. А на западе новые тучи собираются…
Пермяков хорошо понимал беспокойство бургомистра. На западе действительно сгущаются тучи. И это тревожило советского офицера не меньше, чем немецкого рабочего. Но у Пермякова было больше уверенности в победе и силе правды.
Вошла Гертруда. Она поздравила Пермякова с приездом, осведомилась о его здоровье и спросила:
– А как гнутся наши братья в Западном Берлине?
– Я не сказал бы «гнутся», – ответил Пермяков. – Немецкий народ терпит лишения, но не чистит сапог генералу доллару.
– Это определенно! – подхватила Гертруда. – Наш народ умеет хранить свое достоинство.
Она детально, с чертежами в руках, докладывала о комнатах для кружковых занятий и кабинетах, в которых школьники должны были бы обучаться военному делу.
– Предлагаете готовить юных милитаристов? – заметил Пермяков.
– Дух времени подсказывает, – оправдывалась Гертруда. – Для обороны. Проектируется также кабинет русского языка, – подкупающим тоном сказала она. – Расходы нужно возложить на родителей в виде целевого налога.
– Изучение иностранного языка – полезное дело, – одобрительно отозвался Пермяков. – Но почему только русского? Подрастающее поколение должно знать и другие языки. Но главное не в этом. В Доме пионеров должны быть зрительный зал и сцена, технические и педагогические кабинеты, творческие и развлекательные комнаты. И все это подчинить образовательным целям. Я посоветовал бы послать представителей в Советский Союз, посмотреть, как там работают дома и дворцы пионеров. А мы с бургомистром напишем письмо, попросим помочь Дому пионеров Гендендорфа. Согласны?
– Я с благодарностью, – сказал Больце.
– Неразумно возражать против разумного, – произнесла Гертруда. – Направьте меня в Москву.
– Это пусть решит магистрат.
Вошел профессор Торрен. Потрясая в воздухе газетой, он возмущался:
– Я понимаю, когда в желтой прессе печатают подлость. Но когда в нашей газете появляется подлость, да еще за подписью коммуниста, у меня ум останавливается. A-а, и клеветница здесь, – Торрен с презрением посмотрел на Гертруду. – Что вы этим хотели сказать?
– В статье все сказано, – с невозмутимым спокойствием ответила Гертруда.
– «Длительное, упорное сопротивление политике коммунистической партии, – вслух читал Пермяков, – неприятие марксизма-ленинизма, клевета на советскую комендатуру в реакционной печати, затаенная дружба с агентом американской разведки Курцем являются красноречивым доказательством подозрительной деятельности профессора Торрена…»
– Злопыхательская статья, – положил Пермяков газету на стол. – Автор или не разобрался в идейных сдвигах профессора, или его заклятый враг.
– А я и не считаю его другом. – Гертруда резко покачала головой. – Об этом я говорила на объединенном собрании. У меня нет доверия к социал-демократам. Они боготворят идеи оппортунизма. А профессор Торрен так легко отказался от своих убеждений, что курам смешно. Погулял по улицам Бонна – и сжег мосты.
Пермякову не нравился заскок Гертруды.
– Я расцениваю действия профессора Торрена иначе, – сказал Пермяков. – Бонн открыл ему глаза. Профессор увидел правду в американизированной Германии.
Слова Пермякова совпали с мыслями Торрена.
Гертруда била в одну точку – затравить профессора Торрена, довести его до самоубийства, свалить на него убийство Курца, скомпрометировать Больце, стать руководителем партийной организации и бургомистром города. Больце считал Торрена честным немцем, но статья и слова Гертруды все же насторожили его. Не рядится ли этот профессор в тогу союзника? Надо заглянуть поглубже в его душу, обсудить на заседании партийного комитета статью о нем.
Больце посоветовался с комендантом. Пермяков не возражал вынести сочинение Гертруды на обсуждение коммунистов.
Комендант проводил друзей, а Гертруду попросил остаться. У нее мурашки побежали по спине. Не узнал ли комендант что-либо о ней в Берлине? Нет. Там никто не знает ее. Не рассказал ли милиционер о случае на базаре? А может, Эльза наболтала? Не должно быть! Эльза ничего не знает о ней. Пермяков спросил совсем о другом:
– Как работает Штривер? Закончил ли он свое изобретение?
– Засучив рукава работает. Отлично руководит конструкторским бюро завода.
В кабинет влетел Елизаров и громко сказал:
– Летит, товарищ майор, летит! Через час приземлится. Поедем на аэродром.
– Через сорок минут, – засек время Пермяков.
– Есть! – выбежал Михаил в радостном волнении.
Пермяков спросил Гертруду о смерти Курца. Она объяснила свое отношение к убийству Курца таким образом, что возвела поклеп на профессора:
– Логика подсказывает, да и чувствую, что это дело рук Торрена…
Комендант очень внимательно выслушал ее поспешные доводы и аргументы, нет они не убеждали его. У Пермякова своя логика: сложные дела решать спокойно, а торопливость приводит к ошибке. Почему произошло это событие? Как стекались обстоятельства? Слушая Гертруду, он невольно подумал: «Беспристрастно ли она обвиняет профессора»? Но никаких фактов о пристрастии Гертруды не было. Душа человека – темный лес. Темной она была и у Гертруды. Пермяков посмотрел на часы. Гертруда поняла, что надо идти. Она улыбнулась и протянула руку.
Открылась дверь. Галина Николаевна, сдерживая волнение, спросила:
– Можно войти?
Пермяков, не успев распрощаться с Гертрудой, бросился к своей долгожданной подруге.
Вошел Елизаров и ахнул, увидев дорогую гостью. Он приложил наручные часы к уху – идут.
– Как же так получилось? – Пермяков тоже посмотрел на свои часы.
– А так, самолет шел с попутным ветром, – улыбаясь, Галина подала руку Михаилу и стала рассматривать его пальцы.
Гертруда делала вид, что очень рада приезду гостьи, что ей очень приятно находиться при этой встрече. Другая бы в этот момент ушла, но не такова Гертруда. Ей надо было узнать, что за особа прилетела. Не удастся ли вплести и ее в какую-нибудь интригу. В темной игре все может пригодиться. Чтобы узнать хоть что-нибудь, она поклонилась и приветливо заговорила:
– Простите за любопытство, вы прямо из Москвы?
– Нет, не очень прямо, – уклонилась от ответа Галина Николаевна.
Гертруда не обиделась и не смутилась. Продолжая извиняться, она спрашивала приезжую, долго ли она намерена пробыть, не собирается ли съездить куда-нибудь, не может ли порадовать здешних людей какой-либо московской новостью, нравится ли ей Германия и что бы хотела гостья узнать из жизни немцев?
Галина Николаевна отвечала, что ее все интересует: хватает ли жителям продуктов, товаров, есть ли в городе театры, выпускаются ли газеты, как одеваются женщины.
– У вас прекрасная прическа. Видно, хорошие здесь парикмахеры, – заметила гостья, пристально посмотрев на локоны Гертруды. – Вы красите волосы?
Вопрос невинный, но для Гертруды был не из приятных. Немка с крашеными волосами редкость. Надо объяснить любовь к косметике, чтобы не заподозрили в маскировке. Объяснение было готово тогда, когда еще не было советских властей в Германии. Как заученный монолог Гертруда прочла:
– В гестаповском застенке я начала седеть. А теперь, при новой жизни, хочется быть моложе… Но… Извините, может я помешала вам? До свидания!
– Что за статс-дама? – Галина Николаевна кивнула на дверь, за которой скрылась Гертруда.
– А почему ты так назвала ее?
– Шикарная внешность. Редкая любознательность – хочет все знать: откуда я, цель моего приезда, мои интересы.
– Заместитель бургомистра; склонна к интригам. – Пермяков коротко охарактеризовал Гертруду.
– Товарищ майор, – перебил его Елизаров, – вам не кажется, что к нам приехала гостья? Пойдемте в столовую.
– Нет, – возразил Пермяков. – Пообедаем у меня в квартире. С радости приглашаю всех сослуживцев и кое-кого из немецких друзей… Пошли.
На пороге столкнулись с профессором Торреном.
В дрожащей руке он держал сложенный лист бумаги. Пермяков дружески воскликнул;
– Профессор, вы легки на помине! По случаю приезда моей невесты я хочу пригласить друзей на обед. Прошу вас ко мне на квартиру.
Торрен растерялся, не знал, что сказать. Он думал, что после газетной статьи Гертруды комендант прикажет арестовать его, а он приглашает в гости.
– Благодарю за честь и дружбу, – взволнованно сказал Торрен. – Я к вам с прощальным визитом. Меня только что допрашивал следователь в связи со статьей. Он подозревает меня в убийстве Курца. Как понял я, меня арестуют… Я ухожу в отставку.
– Почему? – удивился комендант.
– Я скомпрометирован, как говорят Больце и другие члены комитета партии.
– Опрометчиво поступили. Я советую вам не уходить. С Больце – он должен сейчас прийти – поговорим вместе с вами. Вот он и сам. Товарищ Больце, мне кажется, вы неправильно решили…
– Лучший вариант. Профессор подаст в отставку по болезни. Об этом будет опубликовано в газете, – объяснил Больце.
– Овцы целы и волки сыты? Это не марксистское решение, не принципиальное. Надо глубже разобраться. Если профессор виноват, накажите его. А если прав – накажите автора статьи за клевету. Результаты проверки опубликуйте в газете. Словом, или реабилитируйте имя профессора, или подтвердите выдвинутое против него обвинение. Тогда уж и следователь может заняться. А вы не разобрались, кто прав, кто виноват.
– Профессор Торрен сам предложил этот вариант, – сказал Больце. – В газете помещать противоречивый материал, как вы советуете, не стоит. Авторитет печати надо ценить.
– Исправить ошибку в печати – это и есть авторитет.
Профессор Торрен, окрыленный словами русского друга, пожал его руку.
– Спасибо, товарищ майор, – впервые употребил он эти слова, показавшиеся ему самыми теплыми. – Я вроде сильнее стал. Теперь без боя не сдамся. Заявление об отставке прочь! – порвал он свое писание. – Напишу другое, потребую тщательной проверки дел. Я не боюсь. Ведь «Принципиальная политика…» – как это дальше у Ленина?
– …единственно правильная политика», – подсказал Пермяков. – Итак, договорились. А теперь идемте обедать.
Пермяков открыл дверь своей комнаты, сморщил лоб – и попятился назад. В коридоре он осмотрелся вокруг, думая, что ошибся, не в свою комнату вошел. Но комната была та же, только выглядела по-новому. Кто-то поставил большой раздвижной стол, покрыл его вышитой льняной скатертью. На кровати взбитые подушки, покрытые тюлевыми накидками. Туалетный столик покрыт голубой скатеркой.
– Не сон ли я вижу? – проговорил он.
В преображении холостяцкой квартиры коменданта Галине Николаевне принадлежала главная роль. Она привезла все, что создает уют. Елизаров предложил устроить сюрприз Виктору Кузьмичу. Мысль всем понравилась, и, пока Пермяков рассуждал в кабинете с Торреном и Больце, друзья хозяйничали в его квартире. Нашелся другой стол, диван с высокой полированной спинкой. Тахав принес трельяж на точеной подставке, стулья. Когда все было сделано, Тахав стал на караул. Он должен был подать сигнал, когда Пермяков покажется во дворе, через который он будет идти из служебного крыла здания. Сигнал был подан. Все вышли из квартиры и спрятались. Галина Николаевна выглядывала из соседней комнаты, еле сдерживая смех. Она видела, как Пермяков сначала постучал в дверь, потом тихонько открыл ее, тряхнул головой, заморгал и попятился назад.
Друзья-выдумщики прыснули и закатились смехом. Сквозь хохот Галина Николаевна сказала:
– Шел в комнату – попал в другую. Так и быть заходи, разрешаю.
– А, это ты, проказница-чародейка, – поцеловал Пермяков руку невесты и познакомил ее с немецкими друзьями.
Галина Николаевна радовалась, что у Елизарова совсем здоровая рука. Хотя она знала об этом из писем, ей хотелось самой убедиться в удаче своей первой редкой операции. Протянув Елизарову руку, она по профессиональной привычке сказала:
– Сожмите… сильнее… изо всей силы.
Михаилу жаль было причинять боль дорогому человеку, но он не мог не повиноваться хирургу, вернувшему его в строй, и сжал нежные пальцы Галины Николаевны изо всей силы. Она вскрикнула и присела.
– Что ты делаешь, зверь! – подскочила к нему Вера.
– Ну и медведь! – полушутя сказал Пермяков.
– Простите, пожалуйста, Галина Николаевна, не учел силенку своей подновленной руки. – Михаил поцеловал ее побелевшие пальцы.
– Ничего, хорошо, очень хорошо, – лепетала потерпевшая. – Теперь я вполне уверена, что операция оказалась удачной.
Профессор Торрен понял все, что происходило. Он вспомнил свой тост: «За самодвижение советской медицины!» Тогда он представлял знаменитого хирурга седовласым ученым мужем. И вдруг прилетела эта девушка в босоножках, в легком платье, с завитыми волосами, веселыми, улыбающимися глазами.
Профессор Торрен подошел к этой жизнерадостной русской девушке, попросил разрешения прикоснуться, как он сказал, к ее драгоценной руке:
– Я благоговею перед вами, ибо вижу такой идеал женщины – такого хирурга в вашем возрасте.
Лицо Галины залилось краской, смех скрылся в ее глазах, исчезли ямочки со щек, слегка насупились брови. Ей неловко стало от необыкновенной похвалы профессора. Хотелось сказать ему, что таких девушек, как она, много у нее на Родине, но, посмотрев на старого немца, отшутилась:
– Вы, профессор, соблазняете меня лаврами, чтобы я почила на них?
– Да, да, профессор, не хвалите ее, – подхватил Пермяков. – Мы и так отклонились от порядка дня, – добавил он, расставляя стулья.
– Прошу к столу! – пригласила гостей молодая хозяйка. Она живо расставила тарелки, рюмки, вилки, ножи, принесенные Бертой из столовой. Передав управление винами и напитками Пермякову, она села и стала расспрашивать профессора Торрена о жизни, свободе и демократии в американизированной зоне Германии.
– «Там вместо демократа два солдата: один боннский, другой вашингтонский», – привел профессор новую поговорку.
– «Два сапога на одну ногу», – добавил Больце.
– Я бы сказал: «Два седока на одной немецкой лошади», – разливая вино, заметил Пермяков.
– Правда, – согласился профессор. – Здорово они оседлали народ!
– Надолго ли? – пытливо спросил Пермяков.
Вошел Вальтер. На нем был новый костюм. Ступал он осторожно, будто шел по тонкому льду. Он не хотел выдать скрипа только что купленных туфель. Пермяков налил ему штрафную рюмку за опоздание.
В комнату вошла Эрна. На ней были длинные спортивные брюки, куртка, на голове кожаный шлем. Она примчалась на мотоцикле. Эрна по-мужски сдернула с руки шоферскую перчатку, поздоровалась и сказала, что завтра у них в селе вечер дружбы и мира и что она приехала пригласить представителя комендатуры. Пермяков поблагодарил Эрну, пригласил ее к столу, усадил между собой и Вальтером. Тахаву не по душе пришлось, что знакомая девушка оказалась не рядом с ним, но ничего не поделаешь: гость – невольник, где посадят, там и сиди. Тахав не стал унывать.
– Хоть за другим концом, но за тем же столом.
Разрешите эту рюмку спрятать в сумку, – весело сказал он и выпил.
Постучался и вошел инженер Штривер. Он был без пиджака, с расстегнутым воротником, засученными рукавами.
– Чем могу служить? – спросил он.
– Прошу за стол, – пригласил его Пермяков.
– Не могу. У меня и после работы рукава засучены: изобретение не ждет. Если другого дела нет, кроме, – указал Штривер на стол, – до свидания.
– Есть и другое дело, – Пермяков подал брошюру, привезенную Галиной Николаевной.
– Телевизор?! – обомлел Штривер, уставившись в книжку. – Фирма?
– Советская. «Ленинград», – сдержанно, но. с гордостью сказал Пермяков. – Нельзя ли ускорить выпуск вашего телевизора? Построили бы в Гендендорфе телецентр.
Штривер молча листал брошюру о русском телевизоре. Он придерживался прежних своих взглядов. На собрания и лекции не ходил. Разговоры о советской технике считал пропагандой. После работы он сразу бежал домой, обедал, сорок пять минут отдыхал, садился за стол – чаще всего становился на стул на колени – и до устали молился своему богу– «чистой технике»: изобретал цветной телевизор. Теперь он подошел к столу, выпил русской водки и проговорил:
– Вы, господин комендант, сказали: нельзя ли ускорить выпуск моего телевизора? Для этого не хватает кое-чего: аппаратной, студии, времени, денег, – в голосе Штривера слышался упрек.
– Это для нас уже не проблема, – возразил Больце. – Как ни туго с бюджетом, все идет на восстановление на такое дело найдем средства. Призовем народ, построим телецентр, студию – все, что нужно.
– И напишете на моем изобретении: «Народная»? – с иронией произнес Штривер последнее слово.
Пермяков, как всегда, взвешивал каждое слово, прежде чем ответить этому ревнителю индивидуализма. Сколько крови пришлось испортить, пока Штривер пошел работать на завод! Но засучив рукава инженер закрывал глаза на все новое и работал по старинке, как при хозяине, формально.
– Не иронизируйте, господин инженер, – урезонивал его Пермяков. – Никто не присвоит ваше изобретение: на телевизоре будет красоваться ваше имя. Но власти народной вы обязаны подчиняться. Бургомистр предлагает вам помощь, а вы с насмешкой относитесь к этому, игнорируете интересы народа. Бургомистр хочет, чтобы жители города, население Германии имели телевизор. И чём скорее, тем лучше.
– Телевизор изобрести – не бутылку шампанского раскупорить. – Штривер кивнул на стол. – Вы что-нибудь изобретали?
– Her, но я знаю, как творят наши, – советские изобретатели. Они не замыкаются в скорлупу. Почитайте хоть эту брошюру, – сказал Пермяков.
– Я не читаю по-русски, – процедил Штривер.
– Мы вам поможем, – вклинился в разговор Вальтер. – На кружке русского языка переведем. И вы будете иметь перевод.
– Я бы ответил на ваше предложение, Вальтер, но не любитель словесности. До свидания. – Штривер круто повернулся и проворно вышел.
Он был огорчен и до злости расстроен. Комендант отчитал его за привычный образ жизни, бургомистр упрекнул за индивидуализм, вожак молодежи кольнул за равнодушие к русскому языку. Штривер шел по тротуару, никого не замечая. Почти вслух он осуждал их. «Какое им дело до меня? Работаю по правилам, по инструкции – все восемь часов. Что дома делаю, как делаю или ничего не делаю – мое право».
– Добрый вечер! – схватила его за локоть Гертруда. – Никогда не видела вас таким расстроенным.
– Вызывал комендант. Мораль читал, – упавшим голосом проговорил Штривер и стал объяснять спор с Пермяковым.
– Это очень интересно. Мы с вами друзья, – пустила Гертруда щупальца в ход и стала тащить обиженного к себе в гости.
Штривер отпирался, не хотел идти, терять время, но не выдержал натиска этой женщины.
Гертруда не жалела ничего. Угощала Штривера, как теща любимого зятя. Она все время вздыхала, жаловалась на коменданта, на бургомистра, притеснявшего, по ее словам, всех старых специалистов.
– Я ли не стараюсь? Пустила все предприятия. А меня травят, как гончие зайца. Вот и ваше положение. Ночи не спите, изобретаете, а пустите в серийное производство свое многотрудное творчество, и оно пойдет в Москву на репарационные платежи. По секрету скажу: есть такой план у советских властей, – наговаривала Гертруда. – Но мы патриоты своей земли и не дадим русским ваше открытие.
– Они уже выпустили свой телевизор, но убогий. Радиус действия тридцать пять километров, – рассказывал Штривер.
– Ну и пусть топчутся на этом радиусе, – подбадривала Гертруда охмелевшего инженера. – А вы не давайте им свой проект.
– Когда наступает срок, то хочет не хочет женщина, ребенок появляется на свет, – заплетался язык у Штривера. – Через пару недель мое творчество надо выпускать в свет.
– Выпустим, – Гертруда положила растопыренные пальцы на руку Штривера и опять налила вина. – Получите столько, сколько русские во сне не дадут. Я вице-бургомистр, и я устрою все. Пишите, – стала она диктовать: – «Согласен на производство моего телевизора…»
Штривер уткнулся в стол, уронил ручку. Гертруда натерла ему уши докрасна. Инженер очнулся, опять стал писать. Диктуя, Гертруда не упустила случая щелкнуть фотоаппаратом.
Гертруда узнала от Штривера, что капитан Елизаров приглашен в деревню Кандлер на вечер дружбы и мира. Закончив свое дело, она побежала к Пицу.
Пермяков со своими друзьями продолжал веселиться. Это был единственный вечер за время службы в Германии, который он провел праздно.
Берта весь вечер молчала, с завистью смотрела на Веру и Галину Николаевну. «Какие счастливые матери этих девушек, – сокрушалась она, стараясь не выдать своих переживаний. – Могла бы и Катрина принести мне счастье теперь, когда стало все доступно: и учиться и работать».
Галина Николаевна уловила затаенное волнение немки и попыталась спросить ее по-немецки:
– Почему вы не очень веселы?
– Я уж такая буду до могилы, – как ни старалась скрыть свое горе Берта, но платок к глазам поднесла.
– Облегчили бы ее горе, товарищ комендант, – с сочувствием сказал Торрен. – Освободили бы ее дочь Катрину. Хотя она на всю жизнь нанесла мне боль, – вспомнил он свою супругу, – но я Катрину прощаю. Она была мышкой в когтях у кошки.
Пермяков молчал, не хотел с кондачка решать тяжелый вопрос. Получилась пауза. Все ждали ответа.
– Надо подумать, – наконец проговорил Пермяков.
– Я очень уважаю тетю Берту, но Катрину не надо выпускать на волю. Преступник должен быть наказан, – сказал Вальтер и пояснил: – Она может опять попасться на фашистский крючок.
– Едва ли, – Торрен покачал головой. – Бессильны теперь фашисты, если они бояться открыто действовать.
– Иногда бессильные враги делают сильный вред, – косвенно поддержал Больце Вальтера.
Эрна тихонько расспросила Вальтера о судьбе Катрины и вмешалась в разговор:
– Плохо сделала эта девушка, что не сдалась в плен. Мой сосед недавно вернулся из России. Он рассказывает, что им каждую неделю показывали кино, по субботам в баню ходили, в воскресенье не работали, устраивали концерты своей художественной самодеятельности. Сосед научился в плену на скрипке играть.
– А здесь играет? – спросил Михаил.
– Скрипки нет. Но в кружок художественной самодеятельности записался в первый же вечер. Теперь у нас восемьдесят человек в кружке, – похвалилась Эрна.
– Надо купить скрипку, – посоветовал Михаил.
– Денег не хватает. Открыли клуб – все надо: костюмы, парики, краски. За концерт выручим – сразу расходуем. Да, забыла о главном, – извинилась Эрна. – Уборщицы у нас нет в клубе. Деньги есть, а человека нет. Не знаете, в городе нельзя нанять?
– Нет, – словно испугался бургомистр. – У самих не хватает рабочих.
– Отпустили бы Катрину, – не успокаивался мягкосердечный профессор. – Она охотно согласилась бы и на такую работу.
– Нет, нам таких не надо, пусть сидит за свое преступление, – сказала Эрна.
– Вам, наверное, очень тяжело? – спросила Галина Николаевна Берту.
– Мой отец был добрый, – разговорилась Берта. – Никогда – не обижал нас. Один раз мой старший брат принес полмешка муки, стащил у хозяина. Отец велел отнести обратно. Брат отказался. Поднялся шум, спор. Отец говорит: «Вон с моих глаз и никогда не появляйся!» Брат ушел. Мать плачет. Отец молчал-молчал и сказал: «Зуб человеку дорог, но когда он приносит вред, его вырывают». Моя дочь, – заплакала Берта, – приносила вред людям, я отказалась от нее.
Слова матери растревожили Пермякова. Честь оказалась сильнее материнских чувств. Он мог бы освободить дочь Берты. Но справедлива ли будет эта жалость? Пусть народ скажет свое слово на суде… Он посмотрел на часы.
– Время не признает ничего: ни радости встреч, ни горя разлуки – идет и идет. Сегодня у меня два приглашения: на открытие больницы и на учительскую конференцию.
– А я приглашаю вас на концерт, – сделала реверанс Эрна. – Нашу художественную самодеятельность привезли к себе на вечер машиностроители.
– Везде надо бы побывать, но мудрено, – задумался Пермяков.
– Я думаю, этот радостный вечер вы подарите гостье, перевел глаза профессор Торрен с Пермякова на Галину Николаевну.
– Найн, найн! – запротестовала Галина Николаевна. Ей тоже хотелось везде поспеть, все узнать: что учителя будут говорить, как выступает художественная самодеятельность, чем живут врачи.
– Мы можем побывать на учительской конференции: там заключительное заседание. Потом поедем на концерт этой девушки-маэстро. – Пермяков улыбнулся, кивнув на Эрну.
– Ты хочешь лишить меня самого главного – встречи с врачами? Я ведь немного медик, – упрекнула его Галина Николаевна.
– Тогда на концерт не поедем.
– Вы обидите наш коллектив, – проговорила Эрма.
– В другой раз. Приедем к вам в деревню, в ваш клуб. Скрипку привезем вам, – как ребенка утешал комендант молодую руководительницу художественной самодеятельности.
– А вы, капитан Елизаров, поедете? – спросила Эрна.
– Нет. Я дежурю.
– Хоть этого беглеца пошлите, – Эрна обожгла Тахава взглядом.
– Почему он беглец? – удивился комендант.
– Как же! Он был недавно в нашей деревне. Переночевал у нас. А утром вскочил, схватил фуражку и бежать. Я кричу: «Подождите, кофе вскипячу!» А он скрылся. За такое бегство уши надо надрать ему, наказать.
– Стоит. Накажем сегодня же. Будет дежурить, а капитан Елизаров поедет на концерт, – сказал комендант.
– Heт, лучше не наказывайте, пусть и старшина поедет. – Эрна заступилась за Тахава.
– Товарищ майор, – напомнил бургомистр. – Пора на открытие больницы.
– Желаю успеха! Идите. Мы придем позже.
– Как? – воскликнул бургомистр. – После митинга надо ленту перерезать.
– Перерезайте, открывайте двери, сажайте директора на место.
– По плану вам будут поданы ножницы.
– Нет. Этого в плане не было, – возразил комендант.
– Магистрат решил позже. Больница построена по вашей инициативе, – доказывал бургомистр. – Нехорошо, товарищ комендант. Городская больница. Все население соберется на митинг.
– Митинга тоже не было по плану, – заметил Пермяков. – Поскромнее надо бы. Объявить по радио, в газете, и все узнали бы.
– Решение магистрата.
– Я сначала пойду на учительскую конференцию: обещал.
Гости разошлись. Тахав проводил Эрну на улицу, тряхнул ее руку и с горькой обидой сказал:
– Убила ты меня: переночевал, беглец…
– Это же правда!
– Не всякая правда хороша бывает. Я тогда коменданту иначе сказал. За это, наверное, и дежурить назначил.
– Мне после концерта хотелось бы встретиться с тобой.
– Я постараюсь прийти. Ты только не говори никому.
Галина Николаевна и Пермяков наконец-то остались вдвоем. Время было за полночь, но спать не хотелось. Галина рассказывала о московских новостях и лишь в самом конце заговорила о своем. приезде, опросила, доволен ли он, Виктор.
– Что о радости говорить? – улыбнулся Пермяков.
Он даже не задумывался над этим. И так ясно. Война кончилась давно. Они остались живыми и здоровыми. Сколько лет не виделись! Настало время для большого шага жизни, – который и сделала Галина Николаевна.
Ей бы надо еще месяца три, не отрываясь, поработать над диссертацией, защитить ее, получить новый научный диплом. Но она не могла противиться силе, которая тянула ее к Пермякову.
– Мне порой кажется, что я несчастна, – тихо проговорила Галина. – Мои сверстницы живут с мужьями, детишками. Их жизнь мне кажется веселей, богаче. Иногда мои подруги называют меня старой девой. Я смеюсь над этим старомодным словом, а в груди колет. Хочется жить вместе. И я приехала узнать: неужели у тебя не возникают такие мысли?
Пермякову неловко стало: сильный упрек. Значит, он виноват в чем-то. Хотя они дружат лет десять, но о совместной жизни серьезно не говорили. Сперва были слишком молоды, учились, потом – война… А теперь?
– Конечно, думаю, Галочка, – обнял ее Пермяков. – Я все время рвался к тебе, но не получалось. Война-то кончилась, а борьба продолжается. Наш большой шаг жизни я иначе хотел сделать. Поехать на Родину, стать с тобой перед отцом и матерью и оказать: «Благословите». Но жизнь приятно поправила меня. Второй случай в этом доме. Михаил с Верой скрепили свое счастье, теперь мы.
– Свадьба была у них? – спросила Галина, прижавшись к Пермякову.
– Нет. Старик – отец Михаила – испортил все дело. Он сказал: «Репетицию можно и здесь проводить, а сам спектакль (то есть свадьбу) должны на Дону. Не благословлю, дескать, в чужой стране…» Ты вроде загрустила?
Галине Николаевне действительно грустно стало. Чистые, от всего сердца сказанные Виктором слова о том, что он хотел начать совместную жизнь на Родине, и строгий наказ старого казака своему сыну на-сторожили ее. «В самом деле, красиво ли так-то – любить в чужом краю?»








