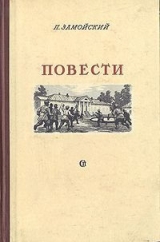
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
– Молодец! – похвалил я его. – Павлушка, во внутреннем кармане ключи. Пригодятся. Самого задерживать не будем.
Павел подошел к начальнику почты и, держа наган в левой руке, правой полез в карман. Я стоял сзади. Вдруг Павел, даже не вскрикнув, отлетел к стене, наган, выбитый у него из рук, упал у ворот, и начальник почты в два прыжка очутился у калитки. Это было так неожиданно, что в первый миг я растерялся. Ангелов дернул сгоряча дверь, но она была на засове.
– Сто–ой!
Видя, что ему не убежать, Ангелов метнулся к нагану, быстро схватил его…
Грохот выстрелов в утренней тишине огласил пустынный двор. Сквозь дым я видел, как Ангелов, схватившись за правый бок, согнулся и рухнул, ударившись головою о ворота. Выбежали сторож и Степка. Сторож испуганно раскрыл рот, увидев начальника почты.
– Это… кто его? – едва выговорил он.
– В городе стрельба. Шальная пуля. Давай уберем его куда‑нибудь. Вот и часового тоже… – указал я на Павла, – рикошетом.
– Куда же теперь, в больницу?
– Вынь у него из кармана ключи, подай мне.
Ангелов был жив, но не стонал.
– Степа, иди обратно. Если телефонистки начнут звонить куда‑нибудь сами, наставляй штык. Чтобы до моего прихода никому не звонили.
Я помог Павлушке встать. Он согнулся и присел к стене. Сторож достал ключи, передал мне. Вдвоем со сторожем мы доволокли Ангелова до склада сельскохозяйственных машин. Там в пустой комнатушке уложили его. Я запер дверь. Словно в ответ на мой выстрел, с того конца города, где казармы, слышались крики. Что там сейчас идет? Крики нарастали, но выстрелов уже не было. Вдруг до нас явственно донеслось разноголосое «ура».
– Павел, гарнизон сдался!
Снова крики «ура». Кто‑то постучал в калитку. Отодвигаю засов: Филя! С ним четыре милиционера. Они притащили пулемет.
– Уговорили или сдались? – киваю на милиционеров.
– Троих заперли, а эти свои.
– Здравствуйте, товарищи. Слышали, какие дела на белом свете?
– Мы не против.
Город услышал выстрелы. Услышал и проснулся, засуетился. Выглянули обыватели на улицу, узнали, в чем дело, и мгновенно обратно в дома: в город пришли большевики. Горожан пугали не только в газетах, но и на митингах. Всюду, где только можно, эсеры и трудовики кричали: «Погромщики, шпионы, предатели!» Радовались, что арестовали большевиков, избавились от них. Особенно от Шугаева й Барышникова.
А теперь что? Тюрьма открыта, большевики на свободе, в городе стрельба, крики «ура». Нет, лучше подальше. Лучше укрыться поглубже, переждать. Мещанский, глухой городишко. Тихое захолустье. Центр крестьянского черноземного уезда!..
Утро наступило. На улицах уже светло. Дома вокруг площади – небольшие, деревянные, окруженные палисадниками: дома чиновников, духовенства, крупных и мелких торговцев. Крепкие заборы, расписные ворота, калитки.
Я отвел в сторону Филю, рассказал о начальнике почты, о пулемете.
– Возьми ключи и сними с чердака. А почтаря надо в больницу. Дернуло же его, черта, – говорю я.
Подошел сторож.
– Отец, теперь видишь?..
– Вроде, так. Вы и есть энти самые?
– Мы, мы, – подтвердил я. – А ты сразу не смекнул?
– Чуток хватился.
– Эх, старина! За чай и сахар спасибо тебе. За «штучку», – подмигнул я, – особо спасибо.
– Вот–вот, – подхватил он, – потому и намекнул, когда смекнул.
– Совсем ты молодец. Только почтарь ваш вроде не ангел.
– Выходит, дьявол, – сказал старик.
Из‑за угла, где стояло здание милиции, выехала подвода и медленно направилась по дороге, мимо церкви.
– Филя, – вглядевшись, воскликнул я, – посмотри, кто едет!
Он уставился зорким своим глазом на ехавшую подводу и рассмеялся.
– Аккурат к обедне поспел.
– Он, кажись, лежит?
– Сляжешь. Таким ковшом и пьющего сшибет.
По дороге везли уездного комиссара Временного правительства Германа Шторха.
– Пойдем, Филя, окажем почет начальству.
Мы поспешили к санкам, кучеру велели остановиться. Подойдя ближе, заметили, что кучер порядочно пьян.
– Кого везешь? – спросили его.
– Ко–омисса–ара, – ухмыльнулся он.
– Живого или мертвого?
– Ды–ыши–ит.
– Вот что, дядя, сверни на ту улицу. Видишь, народ навстречу идет? Задавят комиссара.
Филя тихо спросил:
– Куда его?
– В широкие ворота к Виктору Владимировичу.
– Дергай вправо, – распорядился Филя.
– Вправо так вправо, – согласился кучер.
В это время донеслись к нам громкое пение и крики «ура». .Комиссар проснулся, приподнялся. Лицо у него синее, нехорошее.
– Это… это что? – спросил он, увидев нас.
– Это, гражданин комиссар, временную власть свергли! Теперь… постоянная будет.
– Ка–ак? – не понял он.
Я охотно пояснил:
– Большевиков из тюрьмы выпустили. Приветствуют вас… Рады?
Комиссар запрокинулся в сани.
36Второй день идут митинги в здании театра, в гимназии. Из ближайших сел и деревень много понаехало крестьян.
Посланы приветственные телеграммы Ленину в Совет народных комиссаров и губернскому комитету большевиков.
Не однажды читалось обращение Петроградского совета «К гражданам России». От губернского комитета большевиков пришла ответная телеграмма:
«Поздравляем захватом власти держитесь стойко готовьтесь созыву съезда Советов.
Предгубкома Харитон Рулев».
Вечером с Павлом пошли на телефонную передавать телефонограммы.
Знакомые телефонистки встретили нас приветливо.
– У вас кто теперь начальник? – спросил я.
– Сами, – ответила младшая.
– Хорошо. Но чтобы вас никто не обидел, слушайтесь вот этого, – указал я на Павла. – Ему вручили вашу судьбу. А сейчас нам приказано передать в волости, – и я показал на листы исписанной бумаги. – Соединить недолго?
– Кто умеет, быстро, – ответила старшая и включила первую волость.
– Алексеевка? Приготовьтесь. Телефонограмма. Да, да, от земства…
– От какого земства? – перебил я.
– От кого же тогда?
– От кого? Просто говорите «примите» и все.
Вновь начала вызывать волости.
– Аргамаково?.. Говорит центральная. Телефонограмма. Не все ли равно, от кого? – посмотрела она на меня. Закрыв трубку, вполголоса прошептала: – Противный пьянчужка. «От кого, да что».
– Говорите: «От Совета депутатов», – сказал я.
Заработала телефонная. Надо вызвать тридцать две волости. Надо переговорить с каждой, спросить, кто принимать будет. Более часа вызывала она. Переругивалась по телефону, спорила с невидимыми секретарями. Телефонистка по голосу знала, кто говорит, и походя давала почти каждому характеристику. В большинстве секретарями были те же волостные писари, народ прожженный.
– Поим?.. Тарханы? Телефонограмма… Ждите звонка.
Я рядом с телефонисткой. На столике у меня текст обращения. Вызов идет к концу.
– Свищевка? Здравствуй, Ваня… Да, я… Некогда сейчас… Телефонограмма срочная. После поговорим.
Когда вызвали последнюю по алфавиту волость, обе телефонистки вздохнули. И я вздохнул. Дальше предстоит моя работа. Как это выйдет: говорить сразу со всем уездом!
– У вас готово? – спрашивает телефонистка.
– Крутит, – храбрюсь я.
Вновь принялась включать, на этот раз только повторяя:
– Агапово, Болкашино, Владенино…
Мгновенно представил себе, как во всех волостях уселись за разные столы разные люди. Кто приготовил карандаш, кто ручку, и вот ждут. Ждут, когда им, волостным писарям, почтенным, седым, лысым, старым или молодым, начнет диктовать телефонограмму какой‑то сельский писаришка, фамилию которого они не слышали.
Телефонистка, совершенно разукрасив коммутатор разноцветными шнурами, продолжительно покрутила ручку.
– Всем слышно? – спросила она Словно дождь в лесу зашумел. Телефонистка улыбнулась.
– При–го–товь–тесь!
Молча, почти торжественно, передала мне трубку. Рука у меня задрожала, и самого проняла дрожь. Никак трубку к уху не приложу. А когда приложил, чуть не отшатнулся. Мать родная, что там делается в ней, в этой маленькой трубке! Будто внезапно прислонился к пчелиному улью. А секретари, не теряя времени, уже начали между собою здороваться, переговариваться, расспрашивать друг друга, кашлять, хрипеть – настоящий базар! Набравшись духу, громко кричу:
– Говорит уезд!
Постепенно стихли голоса.
– Здравствуйте, товарищи!
– А–а-а, – загудело, зашумело в трубке. – «Кто передает?» «Почему «товарищи»?, «Добрый вечер», «Николай Иваныч?»
– Всем слышно? – повторяю вопрос телефонистки.
Снова разнобой голосов. Одни гудят басисто, другие тянут тенорами, а вон совсем тоненькие, как бы детские голоса. Наверное, это помощники секретарей. А вот хриплые, словно худые трактирные граммофоны. Это, наверное, сидят за столами старые, наследственные писари с картофелеобразными носами, писари, впитавшие в себя еще от отцов и дедов подлость, хитрость, мошенничество и самое отъявленное взяточничество. Для этих ничего святого нет и не было.
– Граждане секретари волостных управ, комитетов и советов, – начал я, – прежде чем передать…
– Гро–о-мче… – наверное, из самой далекой волости послышался тоненький голосок.
– Не надо громче, – пробасило рядом.
– Это ты, Василий Афанасьевич? – тут же осведомился один.
– Я, брат, я. А это вы, Сергей Петрович? Как живем?
– Помаленьку, – ответил тенорок. – У вас земство или совет?
– Слава богу, живем без совета. А вы?
– У нас уже.
– Дело ваше дря–янь.
Я отвел от уха трубку, спросил телефонистку:
– В какой волости секретаря зовут Василий Афанасьевич?
– А–а, Сурков. Мачинская волость.
И я сердито кричу в трубку:
– Сурков из Мачи… Вас слышит тридцать одна волость и тот, кто сейчас вам об этом говорит.
Все голоса вдруг умолкли. Только дыхание и чей‑то шепот, тяжелый вздох: «О–о, че–орт!»
– Всем ли известно, что Временное правительство свергнуто? – спрашиваю.
Снова молчание. Настороженное, готовое вот–вот взорваться на разные голоса.
– Туда и дорога! – раньше всех ответил молодой голосок.
И вот взорвалось, захрипело, заревело разноголосо: тут и удивление, и вопросы. Кто отвечает «нет», некоторые – «знаем».
– Дошло ли до вас обращение «К гражданам России»? – спрашиваю.
– Не–ет! – ответили единодушно.
– Записывайте. Размножите и доставите в села и деревни. Вывесите на видных местах, прочитайте на собраниях, митингах. Начинайте: «К гражданам России!»
Явственно зашуршали по бумаге карандаши и перья. Скоро понеслись одно за другим восклицания:
– Есть… Дальше… Медленнее… Быстрее… Это ты, дядя Алеша?.. А это ты, молокосос? Не научился быстро писать…
– Продолжаю. Пишите: «Временное правительство низложено». Точка.
– О–ох! – вздохнуло в трубке. – Вот так то–очка!
Я медленно, растягивая слова, продолжаю:
– «…Государственная вла–асть… перешла… в руки… органа… Петроградского… Совета… рабочих и солдатских депутатов – Военно–революционного комитета, стоящего… во главе… петроградского пролетариата и… гарнизона». Точка. Проверьте. Повторяю.
Забубнили, забарабанили, захрипели, запели, то радостно восклицая, то гмыкая от недоумения.
– С новой строки. «Дело, за которое боролся народ», поставьте двоеточие.
– А троеточие можно? – ехидно спросил кто‑то.
– «…неме–едленное предложение… демо–кра–тиче–ского мира», запятая… «отмена… помещичьей собственности на землю», запятая…
– Это верно, пока запятая, – перебил тот же ехидный голосок.
– Повторите… не понимаю! – удивленно произнес голос.
Ему быстро кто‑то ответил:
– Чего не понимать? «Отмена помещичьей собственности на землю».
– «…рабочий контроль над производством», запятая, – продолжаю я.
– Это нас не касается, – пробурчал кто‑то.
– «…создание… Советского….» Слышите: «Советского»?
– Слыши–им… «Сове–етского».
– «…правительства», запятая, «это… дело… обеспечено».
Подождав некоторое время, я громко говорю:
– Точка!
– Покорнейше благодарим за такую точку, – опять тот же ехидный голосок.
– С новой строки. «Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» Подпись: «Военно–революционный комитет… при Петроградском… Совете… рабочих и… солдатских депутатов…» Число: «Двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года». Записали? Принимайте вторую.
– Кто передал? – раздались требовательные голоса.
Что им ответить? Моя фамилия ничего им не скажет. Заявить, что я – секретарь уездного революционного комитета? Но они и о комитете ничего еще не знают.
– Это Николай Иваныч? – спросил баритон.
– Здравствуйте, – отвечаю.
– Значит, Временного нет?
– Кончилось.
– Ти–ише! – прогремел бас. – Давайте вторую.
– Пишите, – сказал я.
«Трудящиеся уезда!
Помещичье–кулацкое правление Уездной Земской Управы свергнуто. Арестованные большевики из тюрьмы освобождены. Власть в уезде перешла в руки военно–революционного комитета.
Трудящиеся крестьяне, фронтовики, народная интеллигенция! Поздравляем вас с пролетарской революцией. Немедленно организуйте советскую власть в селах, деревнях. Создавайте боевые вооруженные отряды по охране Советов.
Где еще гнездятся помещики, немедленно изгоните их. Возьмите на учет и под охрану имущество. Отныне все принадлежит народу.
О дне созыва Уездного съезда Советов будет извещено.
Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!
Председатель революционного комитета – Шугаев
Члены – Михалкин. Рахманов
Секретарь – Наземов».
– Приняли, граждане?.. Да, передал Наземов…
– Это к сведению? – спросил тот же ехидный голосок.
– К немедленному исполнению! – говорю.
– Скажите, гласных земства тоже арестуют?
– Граждане, всё! – сказал я.
– Скажите, волостные земства распустить или разогнать?
– А я снова спрашиваю. Я – гласный. Мне самому явиться или за мной приедут?
В трубке хохот, кашель.
– Объяви себя сверженным, – советует один.
– В большевики переходи!
– Господа, господа!
– Какие, к черту, «господа»?
И опять перекличка, восклицания, смех.
– А скажите, секретарь вы там или кто, какая доктрина будет у новой власти? – спросил тот же ехидный голосок.
Что ему ответить? Что за «доктрина»?
– Ничего, – отвечаю. – Лечить хорошо будет.
– Лечить? Доктрина? – послышался смешок.
Я быстро зажимаю трубку, обращаюсь к старшей телефонистке:
– Скажите, как точнее объяснить: «доктрина»?
– Наука или…
– Спасибо. – И тем же голосом отвечаю: – Да, да, хорошо будет лечить…
– Вы спутали с доктором?
– Зачем же? По советской доктрине будут лечить ожиревших буржуев, избавят от бессонницы помещиков, бедноту излечат от нищеты и голода. Чем плоха доктрина?
– Очень хорошо, – похвалил бас.
– Молодец! – подхватил тенорок и расхохотался. – Жму руку.
– У нас до сих пор большевиков нет. Как быть?
– Не торопись, вырастут, – ответили ему.
– Ленин вернулся?
– Тише. Председатель, наведите порядок.
– Открывайте митинг.
– Сло–ова–а! – прогремел голос.
Товарищи, – говорю им, – на все вопросы ответить я не могу, одно ясно: власть из рук буржуазии вырвали рабочие. Временное правительство, которое не отдавало крестьянам помещичью землю, свергнуто. Здесь в уезде земская управа посадила в тюрьму большевиков, но солдаты–фронтовики их освободили, а заодно сьергли и земство. Вот и все.
– Официальное подтверждение будет?
– С печатью? – спросил я.
– Совершенно верно.
– Да, дело революции подтвердим и печатью.
Скоро в помещение вошли Михалкин и Рахманов.
– Что случилось, товарищ Михалкин?
– Звонить своим отрядам будем, – ответил мордвин. – Человек по десять мордвы и татар вызвать. Слышал? Начальника милиции изловили, а воинский скрылся. Надо ухо востро держать…
37Комнатушка, которая громко именовалась редакцией газеты «Светоч», находилась в самом дальнем углу земской управы.
– Итак, Павел, начнем делать газету, – говорю своему другу.
– Будем, но только с чего ее начинать?
– Я знаю столько же, сколько и ты.
Сторож привел к нам человека со странным названием: «выпускающий». И сам человек тоже странный, желтолицый, с опущенными рыжими усами, косоплечий. Поздоровался он густым грудным голосом, охотно принял папиросу.
– Скажите, вы хорошо знакомы с газетным делом? – спросил я.
– Целиком, – ответил он. – Вы – редактор?
– Пожалуй, да. Но я в этом деле ничего не понимаю.
– Вы хотите моей помощи? Охотно! Как назовете газету?
– Пока не придумали.
– Эсеровская была «Светоч», а вы – «Зарево».
– Не–ет, не нравится. Назовем проще: «Большевик».
– Хорошо, пойдемте в типографию.
Во дворе, в низком каменном здании, находилась типография. В ней было человек шесть рабочих. Впервые я увидел печатный станок. Один из рабочих приводил его в действие ногой. По диску, величиною с большую. сковороду, ходил валик: печатали бланки.
В типографии холодно, мрачно, пахнет свинцом, краской, керосином. Двое рабочих стояли перед ящиками с квадратными отделениями.
– Это кассы, – пояснил выпускающий. – Только в них не деньги, а свинцовые буквы. Хотите, познакомлю со шрифтами? Их немного. Типография бедняцкая, как и полагается уезду.
Он начал показывать мне все, что тут было. Но меня терзал вопрос, как приступить к выпуску газеты.
– Пустяки, – ответил он, – только материал дайте.
– Материал соберем, но как его расположить?
– Вы мне доверяете?
– Конечно.
– Вас не смущает, что я выпускал «Светоч»?
– Хотя бы «Дым ада». Вы, надеюсь, не эсер?
Рабочие засмеялись. Усмехнулся и он.
– Видите ли, – совсем низким басом заговорил выпускающий, – я, как бы вам открыться… я особа другого характера. Проще говоря, я особа духовная.
– То есть?
– Псаломщиком кладбищенской церкви пять лет был. А свергли царизм, и я сверг себя. Судите.
– Да не судимы будете, товарищ псаломщик. Итак, работаем вместе.
– С превеликою охотой. Склонность у меня к печатному делу с колыбели, можно сказать. Семинарскую газету в подполье выпускали… воззвания. За то и был в оно время изгнан из рая.
– Ого! Вы пострадавший от проклятого царизма? – смеюсь я. – Совсем хорошо. А как насчет большевиков помышляете?
– Видите ли, – начал он, – я на все привык смотреть исторически. Знаком с программами всех партий. Читал Ленина и Плеханова…
– Словом, договорились. А вы, товарищи рабочие, как? – обратился я к ним. – Будем крутить эту дьявольскую машину?
– Эту не будем. У нас получше есть, – ответил заведующий. – Александр Петрович, – назвал он выпускающего, – покажем большевистскому редактору «королеву»?
В соседней комнате, более чистой, находился особый станок с огромным маховым колесом, валами, разными шестернями.
Они тут же показали мне, как работает эта машина. Хорошо работает. Особенно меня, не видевшего машин, поразили длинные деревянные плоские пальцы, которые подают бумагу, аккуратно кладут ее на доску набора и снова возвращаются на свое место.
Мы вернулись в редакцию.
– Теперь, Александр Петрович, скажите, какой материал труднее всего собрать?
– Вести с места. Статьи, а тем более постановления, приказы, это само потечет, а хронику из волостей, сел и деревень надо наладить, ибо хроника – соль газеты, дыхание жизни, ключ времени.
– Вон как. В чем же ее суть?
– В подборе. «Светоч» печатал только о благополучных делах в селах, об успешных выборах в земства, о том, как мужики, боготворя Временное правительство, не трогают помещичью землицу. Если же где землицу отберут, сие не прощалось, и «Светоч» грозил карой не столь небесной, сколь тюремной.
– Словом, «Светоч» надо было назвать «Тьмой»?
– У вас, предполагаю, будут затруднения с корреспондентами. Старые привыкли писать так, как я говорил. Некоторым придется повернуть свои мозги на полглобуса.
– Надо других найти, – говорю я. – Нам правда нужна.
– Для первых номеров достанем сведения по телефонам.
Через три дня вышел первый номер нашей газеты «Большевик». Нашей! Я держу этот номер в руках, как родное детище. Все в нем как будто знакомо мне у, в то же время ново. Через мои руки прошли эти статьи, писанные наспех, постановления уездного ревкома. Все было на клочках бумаги – правлено, мазано, а теперь вдруг преобразилось в аккуратные столбцы. И я читаю и перечитываю газету, смотрю и не верю. В первый раз в жизни вижу дважды напечатанной свою фамилию. Под стихотворением и в конце газеты – как редактора.
На первой странице напечатали «К гражданам России», декреты «О земле и мире», «Обращение к трудящимся уезда»; затем статьи о перевороте в Питере, о первом уездном съезде Советов, равноправии женщин; на третьей – мое стихотворение, а на четвертой – хронику с мест.
Первый номер, – дойдет или нет, – пошлем Ленину. Пусть он знает, что в нашем уезде, в одном из первых в губернии, власть перешла в руки Советов.
Завтра «Большевик» будет во всех волостях, селах и деревнях.
Завтра едут агитаторы, они повезут газету.
Завтра начинаются выборы на уездный съезд Советов.
Мы со Степкой на телефонной. То и дело звонят из волостей, сообщают, сколько выбрано делегатов на съезд; звоним и мы, если из какой‑либо волости нет сообщений. Переговариваемся с Филей. Он – военный комиссар. Настроение у нас у всех такое, будто рядом лежит снаряд, который вот–вот взорвется. Что сейчас идет там, в дальних и ближних волостях? Какие выступления, речи, крики на собраниях? Как кулаки, помещики, где они? А где‑то все еще скрывается прежний воинский начальник…
С вечера посыпала крупа, а ночью подул ветер. Несколько раз выходил я за ворота телефонной станции, всматривался в город. Горели огни, во дворе стучал движок электростанции.
Уже начало светать. Степка спит на диване. Скоро он сменит меня, и я прилягу.
Заботливый сторож вскипятил чай, принес ковригу хлеба, нарезал конской колбасы. После завтрака, когда я только закрыл глаза, Степка резко дернул меня за РУку.
– К телефону.
Я беру трубку.
– Слушаю. Что? Мачинская волость. Кто говорит?
– Секретарь комитета.
– В чем дело?
Тревожный голос молодого парня, бывшего помощником у писаря Суркова, прерывисто сообщает:
– В Маче… на базаре…
– Ну?
– Воинский и Сурков народ подняли…
– Ну?!
– Большевиков ловят… Делегатов съезда в чижовку заперли.
– Дальше?
– Убить хотят…
– Что за черт!.. Ну–ну!..
– Вот самого Шугаева ведут… Избивают… Шугаев Степан поехал на выборы в Мачу. Село это от нас всего в пяти верстах.
– Скоро будем, – ждите! – крикнул я.
Так быстро там и не ждали нас. Мы ворвались неожиданно и… во–время. Возле волости гудела огромная толпа. Прижатые к постаменту памятника Александру Второму, Шугаев и несколько мачинских делегатов, избранных на съезд, крича что‑то, яростно отбивались от наседавших. Некоторым из них связали руки. Сам Шугаев с разорванным в клочья пальто, с залитым кровью лицом, отталкивал от себя пьяного и разъяренного воинского начальника.
Мы врезались в гущу толпы. Стоявшие сзади отхлынули. Быстро окружили тех, кто был возле памятника. Вверх несколько выстрелов, снова вскрики, и уже вся толпа дрогнула и, обсыпаемая снегом, раздалась в стороны.
Гигант Филя прямо с лошади ринулся вниз на воинского и быстро подмял его под себя. Его помощник, мордвин Михалкин, уже крутил руки бывшему мачинскому писарю Суркову…
Всех, кого, мы захватили, доставили в город.
И вот теперь Шугаев, Филя и я третьи сутки чиним допросы. Более десятка разных людей прошло через меня. Главарей–эсеров решили отправить в губернский совет.
– Веди следующего! – приказал я часовому.
Распахнулась высокая дверь, и часовой ввел рыжего бородатого мужчину в добротной шубе, крытой черным сукном. Сняв лохматую шапку, вошедший колюче огляделся и встал передо мной. Мне очень запомнился этот мужик. Изо всей силы яростно хлестал он уздой по голове и по лиду хромого солдата, избранного делегатом. Мне пришлось наставить на бородатого наган, но он все продолжал бить и бить и что‑то орал. Лишь выстрел над ухом охладил его пыл. Я запомнил звериное лицо его и свирепый крик.
– Садись, – указал я ему на стул. Но он не шелохнулся. Прижмурившись, словно от яркого солнца, он косо бросил на меня злой взгляд.
– Как звать?.. Из какого села?
Он словно воды в рот набрал.
– Эсер?
Молчит.
– Не будешь говорить?
– Нет! – невольно вырвалось у него.
– Все равно узнаем, кто ты, откуда. – И я попросил часового позвать сторожа, который знал почти всех мужиков в уезде.
Едва часовой закрыл дверь, как мужик быстро оглядел все вокруг, явно собираясь бежать. Догадавшись, я сквозь зубы предупредил:
– На улице часовые, а здесь вот эта штука, – и приподнял бумагу, под которой лежал наган.
Вошел сторож, посмотрел на мужика.
– А, знакомый! Здорово, Егор, – кинул он ему.
– Я не Егор.
– Как не Егор? – отшатнулся сторож, уже осматривая мужика с ног до головы. – Что же ты от крещеного имени отрекаешься? – и, обращаясь ко мне, пояснил: – Это Полусухим, мельник из Горсткина.
– Из Горсткина? – удивился я. – За пятнадцать верст от Мачи? Что же тебя погнало в такую даль?
– С бабой на базар собрался.
– Ага, на базар. Знаем этот базар. Скажи‑ка, кто вас созывал?
Егор молчал.
– Скажи еще, за что уздой избивал солдата?
– Я супроть конокрадов.
– У тебя, что же, тот солдат мерина украл?
– Люди говорят, слышь, воровать будут.
Это обозлило меня.
– Ты кто, дядя, – враг или просто дурак? В губернию поедешь, раз ничего не говоришь, – и, кивнув часовому, приказал вывести мужика.
– На сегодня хватит, – проговорил я.
Глаза мои слипались, во всем теле ноющая боль. За эти дни я не только не спал, но и не ел. Сейчас же захотелось есть и, главное, спать. Я уже собрал было все протоколы, чтобы запереть их, как вдруг в коридоре послышался шум. Один голос часового, а второй, резкий и в то же время испуганный, какой‑то женщины. Все ближе и громче голоса. Я выслал сторожа узнать, кто там. В пререкания вступил третий голос. Скоро послышалась возня, а через некоторое время открылась дверь и вошел сторож.
– Что с ней делать? Пристала, хоть дерись. Хочет с тобой говорить.
– Кто?
– Видать, жена того рыжего. Пустить, что ль?
Не успел я ответить, как дверь снова открылась, и женщина не вошла, а ворвалась. На ней, в складках шали, в сборках дубленой шубы, еще не оттаял снег.
– В чем дело, разбойница?
Она передохнула и так свирепо глянула на меня, будто глазами разорвать меня хотела.
– У тебя тут мой муж, – резко бросила женщина.
Я невольно вздрогнул. Этот голос, и особенно эти серые колючие глаза… Чем‑то страшным и недавним повеяло на меня. Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица, сердце на момент замерло. Вмиг исчезли и усталость, и одолевающий сон. Передохнув, я сказал часовому и сторожу, чтобы они вышли.
Я узнал ее. Преодолев волнение, вынул из стола папиросу и закурил. И, глядя в окно, проговорил:
– Мужьев тут много. Какого тебе?
– Моего дурака, черта.
– Они все черти, но не все дураки.
– Выпусти, сама убью. Ишь, наглохтился самогонки и полез не знай куда.
Затем крикливо, многословно принялась говорить, за чем приехали они на базар, что купили, какой ее муж теленок, когда трезвый, и какой дурак, если выпьет.
– У кума я осталась чай пить, а он без меня. Разь бы я допустила? И как он, сила его нечистая, попал с пустыми руками глаза пялить.
– Не только пялить, и не с пустыми руками.
– Ас чем же?
– Вон та узда с чьей лошади? – кивнул в угол.
Она подошла, сняла узду, повертела и снова повесила.
– Наша, – гораздо тише призналась она.
– Ты лучше на нее погляди. Заметила, в чем она? Это кровь. Он избивал наших людей. А ты говоришь, Егор – теленок, Егор с пустыми руками. Твой Егор враг советской власти. Ему опять царь понадобился.
– Царь?! – воскликнула она.
– Да, да, не меньше, – заметил я. – И сама ты тоже… за царя.
– Чего зря‑то! Лучше отпусти моего мужика. Я тебе за него два пуда муки принесу.
– Вон как? Сразу два пуда. И не жалко? Или твой мужик стоит того?
– Нести, што ль? – не обратила она внимания на мои слова.
– Какая твоя мука‑то?
– Ржаная.
– Знаю. Не про то я. Гарнцевая она, сборная. Дрянь мука.
– А ты откуда знаешь про гарнцы?
– Я всех мельников знаю. А вашу мельницу и подавно.
Баба поняла меня так, что я не прочь взять выкуп за ее мужа, и от радости у нее даже глаза заблестели. Вот–вот повернется, выйдет и притащит. Было же раньше так, а почему сейчас нельзя? И я не особенно рассерчал на нее, так как взяток предлагали много и всяких. Курами, самогоном, пшеном, даже молоком. Но все же было противно слышать и особенно от этой бабы. Ее надо отчитать.
– Ты куда, тетя, пришла?
Она заморгала глазами и в недоумении уставила их на меня. Молчала.
– Я не старшина, не писарь и не урядник. Им ты привыкла взятки совать. Тут, чертова ты тетя, знаешь что? Тут уревком! Настоящий самый у–рев–ком!!! А ты – взятку? За это я тебя должен сейчас же посадить, вместе с твоей мукой, в кутузку, к мужу. Хочешь, отправлю?
И, не дожидаясь ее ответа, громко крикнул:
– Часовой!
Женщина сразу побелела лицом и замахала руками:
– Не надо, не надо, ну те. Я так.
– И я не за деньги.
Вошел часовой и так грохнул ложем берданки об пол, что женщина вздрогнула и перепугалась совсем не на шутку.
– Я тут, товарищ Наземов!
Я молчал и в душе радовался, видя, как эта мельничиха стоит, словно окаменелая. Теперь она поняла, что стоит мне сказать только одно слово, одно… Но я не произнес.
– Больше допрашивать сегодня никого не будем, – сказал я часовому. – Иди.
– О господи, – вздохнула женщина, – печенка зашлась.
– Скажи – дешево отделалась. Я троих таких посадил, – соврал ей.
– Спасибо, пожалел меня. Ведь и я так из жалости. Небось семья есть. Семье бы…
– Ишь, кормилица какая. И про семью вспомнила. Нет, дорогая тетя, мои ребятишки по улице не бегают.
– Аль до сих пор холостой? – вдруг поинтересовалась она.
– Тебе‑то какое дело? – говорю ей и смотрю прямо в глаза. Признает она меня или нет?
– Да так. Никакого. Вижу, в твои годы жениться пора.
– Не пойдешь ли в свахи, а? Ласковая ты стала чересчур.
– Девок много, сам любую возьмешь.
– Сватал… любую‑то, да сорвалось, не вышло.
– Не пошла?
– Шла, да сестра старшая от ворот поворот дала, дорогая тетя.
– А ты б в шею, сестру‑то.
Чувствуя, что напряженный этот разговор дальше не выдержу, я решил пойти в открытую.
– С дурой связываться не хотелось, Федора Митрофановна!
Она внезапно отшатнулась.
– Это ты откуда знаешь, как меня зовут?
– Как же не знать. Только вот я тебе, видно, не приметен.
– Нет, не знаю.
– То‑то. А мы чуть–чуть не породнились, – посмотрел я на нее вприщурку и усмехнулся.
– Ма–аму–ушки! – удивленно воскликнула она и теперь пристально уставилась на меня. И мне уже почудилось, что вот–вот вновь произнесет она страшные для меня когда‑то слова: «Жени–их? Елькин? Моей самой хорошей сестры? Ма–атушки!» И добавит как в колокол: «Нет, нет и нет». Но «Федора молчала.
И мне уже стало досадно. Можно сказать, походя исковеркала человеку жизнь, а теперь даже и не узнает. Но я решил назло ей напомнить о себе.
Отодвинув ящик стола, я достал папиросу и, придерживая коробку левой забинтованной рукой, не торопясь принялся открывать ее, сам искоса наблюдая за Федорой. И вот заметил, как по ее грубому лицу вдруг прошла как бы судорога, и вся она передернулась. Закурив, я неизвестно чему усмехнулся. В ее расширенных глазах одновременно заметил испуг и изумление.








