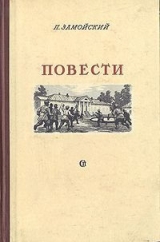
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 40 страниц)
Огромный дом священника, утопающий в сиреневых кустах, был от нас совсем недалеко. Широкие окна его пяти комнат в узорчатых, резных наличниках, как в кружеве. На окнах кисейные занавески. Высокая зеленая ограда окаймляла этот дом, в который никогда не вступала нога прихожанина, разве только – на кухню.
Мы подошли к ступенчатой терраске. Здесь на соломенных стульях сидели две девушки – дочери священника, епархиалки Зоя и Леля. Шустрая, подвижная Леля читала вслух какую‑то книгу, а Зоя, постарше, вязала кружева. Мы остановились возле, посмотрели на них. Отец мой, которого мы взяли ради его большой дружбы со священником, вынул из кармана своих порванных штанов табакерку и, отвернувшись к церкви, нюхнул с присвистом. Застеснявшийся Павлушка прошептал мне:
– Тут, что ль, войдем или через кухню?
Я взглянул на солдатку Машу. Какими сердитыми глазами уставилась она на этих девушек! Ведь не они же отказали в жнейках солдаткам, а их папаша. Он вчера прогнал солдаток со двора. Что же, теперь вот мы, уже целым комитетом, пришли. И я, сняв фуражку, раскланиваюсь:
– Здравствуйте, барышни Зоя и Леля!
– Вам что, мужики? – поднимает на нас глаза старшая и поправляет очки, которые делают ее строгой, совершенно неприступной.
– Нам, гражданка, вашего папаню нужно, – говорю я, подчеркивая слово «гражданка».
– Зачем он вам, мужички?
Зоя, конечно, поняла мое ехидство, кроме того, плохо ли, хорошо ли, но ведь она меня знает.
– Повидать его хотим, Зоя Федоровна.
– Папа просил нас не беспокоить его.
– А вы что, сильно шалите и беспокоите его?
Зоя с недоумением посмотрела на меня, а Леля сдержанно улыбнулась.
– Я не так сказала. Он просил нас всем говорить, чтобы его оставили в покое.
– Понятно, Зоя Федоровна. Где его покой?
– Зачем вам, солдатики?
– Затем, что эти солдатики – народ беспокойный, – сказал я Зое. – И мы пришли не за тем, чтобы посмотреть на вас и уйти обратно. Почему вы, образованные барышни, не ответили на наше «здравствуйте»? Вас этому не учили в епархиальном?
Зоя вспыхнула, зачем‑то сняла очки, а Леля отвернулась.
– Позовите папу, – строго сказал я. – Доложите – пришел к нему комитет.
Зоя, не оглядываясь, открыла высокую филенчатую дверь и ушла в дом. Мы остались ждать.
Через минуту Зоя вернулась.
– Пройдите на кухню, – сквозь зубы процедила она.
– На кухню? Мужички, айда на кухню. Спасибо вам, Зоя Федоровна. Простите за беспокойство.
Мы переглянулись с ней. Я снял фуражку, поклонился низко, расшаркался перед ней.
Но на кухню идти не пришлось. Когда мы. открыв калитку, вошли во двор, священник, отец Федор, в подряснике, в плисовой поношенной камилавке, уже стоял на крыльце, и, прищурив глаза под густыми курчавыми бровями, смотрел в сад. Во дворе возился его работник. По длинной проволоке от сарая до угла дома вяло таскал цепь огромный пес. Завидев чужих людей, пес хрипло брехнул и, гремя цепью, побежал к нам.
– Добрый день… – начал я и осекся.
Как его назвать? Батюшкой, как раньше, или по имени и отчеству?
Священник кивнул головой, мельком взглянул на нас и опять устремил свой взгляд в сад.
«Видать, не в духе», – решил я.
Мой отец, не мешкая, подбежал к священнику, ловко сдернул картуз, сунул его подмышку, лодочкой сложил руки и пожалуйте: уже подошел под благословение. Нехотя благословил его отец Федор, сунул для поцелуя концы пальцев и быстро отдернул.
– Вы ко мне? – спросил он, глянув на Павлушку. И, чуть повернув голову, обвел всех серыми прищуренным глазами.
Набравшись смелости, я шагнул к нему, встал так, чтобы видеть его холеное лицо, при солнечном свете удивительно молодое. И оттого, что он стоял высоко, как бы готовый раздавить меня, и смотрел на меня совсем не святыми глазами, я сказал ему прямо:
– Мы, батюшка, пришли за жнейкой.
– Кто «вы»? – спросил он.
– Вот, – указал я, – двое от комитета, одна из солдаток и мой отец от… верующих.
– Что вы хотите?
– Просим вас, чтобы вы дали комитету одну жнейку да пару лошадей. Комитет постановил помочь солдаткам и вдовам убиенных убрать рожь. В первую очередь на барских полях, чтобы не осыпалась.
– Бох–помочью! – подсказал отец и сразу смутился, закашлялся.
На его слова священник и головы не повернул. Он смотрел на меня, на Павлушку.
– Дать вам жнейку… дать лошадей, – начал он тихо, как бы в раздумье, – а вы поедете жать… разбойным путем отнятые посевы? – и как только он договорил, лицо его сразу залилось краской.
Слыша сзади тяжелое дыхание солдатки Маши, которая вчера еще была напугана священником, я сказал:
– Хлебу все равно, чей он, но сроки… господь на все установил.
– И на грабеж?
– И на то, что революция пришла.
Его как бы судорогой передернуло. Посмотрел на отца и, кивая на меня, спросил:
– Сын твой, Ваня?
– Да, батюшка.
– Спасибо. Вспоил, вскормил…
Отец потоптался на месте и ничего не нашелся ответить.
– А сам зачем пришел? – уже повысив дрогнувший голос, спросил священник.
– Позвали меня, – указал отец на нас. – Говорят: тебе батюшка, слышь, больше верит.
– Верю, Ваня. А ты разве в меня веру потерял? Ты что, тоже в этом комитете заседаешь по ночам?
Отец даже картуз снял. Ежась под пронизывающим взглядом священника, не скоро ответил:
– Нет, не хожу я… стар. А вам, батюшка, верю. Верю в состраданье ваше к сирым и вдовам. И совсем не верю, вроде вы семьям убиенных помочь не хотите. Не верю, и помоги бог моему неверю.
Так искренне и хорошо сказал отец. Он и не догадывался, как подвел своего духовника.
– Так, так, Ваня, – одобрил священник, – сирые, воины и прочие миряне, их дела… но неужели за этим только ты и пришел? Усомнился, а? Стыдно, Ваня. Ты – не Фома, я – не Христос. Не вкладывай персты в раны. Иди домой.
– Что ж, пойду, – с радостью согласился отец и уже повернулся было, но я схватил его за рукав.
– Подожди. Стой здесь. Тебя комитет уполномочил, и ты не имеешь права уходить. Знаешь революционные законы? – припугнул я.
Он остановился и стоял теперь между священником и нами, между двумя «законами» – божеским и комитетским. Ничего, сейчас узнает сам, каков его священник.
Сдержанно говорю отцу Федору:
– Мы пришли от комитета просить у вас помощи. У вас две жнейки. Мы просим только у вас, у других сами берем. Уже взяли у Гагариных, у церковного старосты, у Дериных, Блохиных, Щигриных, Козулиных. К вам вчера приходили просить солдатки, но вы им отказали. Сейчас комитет просит: помогите убрать хлеб вдовам и сиротам убиенных.
Мне представлялось, что слова мои на редкость убедительны, что священник протянет руку к жнейкам и возгласит: «Берите и пользуйтесь во имя Христа!» – но он, словно шилом его кто кольнул, вдруг соскочил с крыльца, махнув полами подрясника, подбежал к нам, ошалевшим от такого налета, сорвал с головы камилавку, бросил под ноги и с визгом начал ее топтать.
Казалось, он беснуется или притворяется, желая своими воплями созвать народ. Визгливый голос резал уши. Не только мои спутники, но и сам я порядком струхнул, однако никого не отпустил от себя, а Павлушке велел даже калитку на щеколду закрыть. Бой так бой! Меня уже взяла злоба, она схватила так, как будто я столкнулся с бешеной разъяренной собакой, роняющей пену из оскаленного рта.
– Разбойники! Грабители! Убийцы! Сатанинское исчадие! Царя сгубили! Воры!
Священник выкрикивал и такие слова, что ужасался не только мой богомольный отец, но и мы с Павлушкой оторопели. Перед нами был не священник, наряжавшийся в церкви в пышные одежды и говоривший благостные речи, а свирепый хищник, отстаивающий свою добычу.
Понял я, что совсем не в жнейках дело, – что жнейки! – а в том, что наконец‑то он нашел, на ком сорвать злобу. Воочию узрел нас – и не в духе, а во плоти. И плоть эта стоит перед ним в солдатских гимнастерках, и веет от нее пороховой гарью, непокорством, дерзкой настойчивостью.
Всему бывает конец. Постепенно и священник затих, но все еще, как медведь, продолжал топтаться.
Потом повернулся к нам спиной. И только когда совсем замолчал, мы услышали, что кроме священника ругает нас и попадья. В окно виднелось ее мясистое лицо.
– Стало быть, не дадите жнейку? – как ни в чем не бывало спрашиваю я.
– Прочь!
– Спасибо, – и, обернувшись к отцу, спрашиваю: – Видел?
Вид отца поразил меня. Он был бледен, как мел, и дрожал. Слезы стояли у него на глазах.
– Ты что? – схватил я его за плечи.
Но он не мог и слова вымолвить. И лишь когда священник направился к двери, отец вслед ему со слезой, с горечью, с отчаянием в голосе крикнул:
– Батюшка!
Священник обернулся. Отец, сверкнув глазами и попятившись, поднял свой огромный кулак и грозно, молча качнул им в воздухе.
Мы вышли из калитки. У церковной сторожки стояла группа женщин и мужиков. Там же была и моя мать. Она испуганно замахала нам. Но куда направляется отец? В лес ли, который позади поповского сада, или к Госпомилу жаловаться на священника?
– Тятька, домой! – окликнул я его.
Но он ускорил шаги, поровнялся с воротами поповского двора, повернул к двум крылатым жнейкам. Вдруг остановился, наспех вынул табакерку, второпях нюхнул, утер нос и схватился за длинное дышло жнейки; с силой дернул его, потащил жнейку за собою.
– Отец, подожди, поможем! – крикнул я, но на помощь, смеясь, уже бежали солдатки от церковной сторожки.
30Идет жнитво ржаного на барских землях. Кто может, косит своими косами, а кто не может – жнейками. Члены комитета наблюдают за уборкой. Будь что будет, а хлеб с загонов долой! Каждый день хожу на поле Сабуренкова. Ходил к кокшайским, виделся с Тарасом. Он тоже работает в комитете. В имении начался сбор яблок. Два управляющих – от нас и, от кокшайских – хорошо ладят, хозяйство держат в порядке. Машинист ремонтирует паровую молотилку.
Как‑то к нам пришел отец покойного Ваньки. Бородатый и широколицый, он был очень похож на червонного короля. Мы усадили его ужинать, и они долго говорили с моим отцом. Вспоминали, – с улыбкой и похвальбой друг перед другом, – свое детство; первые годы, когда их вместе, как и нас с Ванькой, наняли в подпаски, затем – то вместе, то врозь они ходили побираться. Вспоминали разных нищих, которых знали. Весело смеялись над своим прошлым, и чувствовалось, что им было жаль ушедших молодых лет. Видно, с годами все плохое забывается, а в памяти остаются только хорошие, светлые мгновения.
– Петр Иваныч, – громко, будто глухому, кликнул гость. – Что делать? Посоветуй.
– Давай посоветую. Теперь, вишь, какие грамоты, – указываю ему на стену.
Он неграмотный, и отец читает ему вслух: «Вся власть Советам!» И опять они беседуют. Отец в который уже раз рассказывает, как он утащил поповскую жнейку. Оба весело хохочут.
– Что же тебе посоветовать? – спрашиваю.
– Как с рожью – самому косить или отдать?
И полагая, что я все уже знаю, он не мне, а отцу поясняет:
– Маслобойщику Павлову прошлый год сдал я полдесятины под озимь. Рожь‑то хороша. Пудов тридцать пять на полдесятине будет. Семян он высеял четыре пуда, работа его… тоже пуда три… а двадцать пять пудов на бедность отдать? Чай, Иван, жирно.
– Коси сам! – вдруг расхрабрился мой отец. – Право слово, коси! И не пикнет. У тебя, мол, нужда была, сын хворал. Семена отдай и за работу отдай. Пес с ним. Ишь, глядеть теперь на них. Как, сынок?
Я смеюсь.
– А так, как и ты, – говорю. – У тебя же, отец, голова министра–бедняка!
Они переглядываются и опять смеются, эти два старика, два пастуха. А я советую Ванькиному отцу завтра же пойти на загон, скосить рожь и не отдавать ее Павловым.
И тут же думаю: комитет должен постановить, чтобы все арендованные земли с хлебом вернуть тем, кто их от нужды продал или сдал.
Едем мы с Григорием тихо. Августовское солнце даже перед вечером печет немилосердно. Всюду на полях уборка хлебов.
Трое суток продолжалось собрание уполномоченных. Теперь избрана волостная земская управа. От нашего села в управу попали мы с Григорием.
Григорию придется часто выезжать во Владенино, а может быть, и совсем остаться там работать. Но ему не хочется уезжать из своего села, и я не хочу, чтобы он уехал.
Григорий рассказывает о своих странствованиях. В последний раз был в бою на Балтийском море, где его и ранило. Рассказывает Григорий, не хвалясь, как другие. Только чувствуется – все, что он испытал, закалило его характер. Он с уверенностью смотрит вперед. И не подумаешь, что это тот самый Гришка–матрос, который когда‑то буйствовал, придя домой.
Я осторожно навожу его на разговор о домашнем. Очень интересно, как он все это пережил. Я даже на миг не могу представить себя на его месте. Пусть выдают там Лену, за кого хотят, но что если бы я, уже будучи ее мужем, пришел с войны и глядь: Лена за другим! Ревность, гадливость, отвращение охватывают меня. Нет, с таким характером лучше не жениться. Я даже Соню почему‑то начинаю ревновать. И к кому? К Павлушке! Чуть посмотрит на него или поласковее заговорит, а меня уже бросает в дрожь. Но Павлушка равнодушен к Соне. Он увивается возле Насти. А где‑то теперь Макарка, за которого ее чуть не выдали? Воюет. Пусть защищает отечество…
– Ас Дуней мы хорошо, – говорит Григорий, – ее вины в том нет!
– Знамо, нет, – подхватываю я.
И снова разговор идет о том, что волнует теперь всех, – о будущем.
Мы гадаем с Григорием – что скажет Учредительное собрание, о котором кричат газеты? Как решат вопрос о земле? Вдруг придется вернуть? Или потребуют выкуп?
Мысли текут извилисто, беспорядочно. Вспоминаю книгу, которую недавно читал, о том, как при коммунизме будут жить люди, как работать и распределять богатства. Всего будет много – и одежды, и обуви, и еды разной. Захотел костюм – бери, обувь – тоже. Только делай то дело, которое любишь. Земля велика, всего на ней и в ней много. А что человеку нужно? Зачем ему лишнее? Не понимаю буржуев. Куда они загребают про запас? Работать не хотят? Как же так… Сидеть сложа руки? Это же скучно! Другое дело, если работы мало или совсем не окажется. Тогда от безделья тоска заест. Но работы хватит. И главное, все будут равны: мужик, учитель, врач, инженер.
– Хорошо! – говорю я вслух.
– Что хорошо? – оборачивается Григорий.
Рассказываю ему.
– А ловко получается, – радуется матрос. – Но так не скоро будет.
– И лет через десять не будет?
– Рано.
– А через сорок?
– Обязательно.
– Мы с тобой, Гришка, доживем…
– Доживем, – соглашается он. – Главное, нам в первую очередь гидру капитала раздавить.
– Буржуев?
– Их. Они весь мир испакостили.
– Тут надо сразу взять, – говорю я, – огулом, и – в овраг.
Григорий смеется.
– Правильно, сразу. Чтоб океаны задрожали. Землю перевернуть и потрясти ее над самым адом.
– Чтобы туда всех буржуев?
– Их!
– Так! Но какую же силу надо иметь, чтобы трясти?
– Класс!
Он очень твердо произносит это слово. Так произносит, что чувствуешь за ним что‑то огромное, корнями вросшее в землю.
– Керенский – сволочь! – продолжает Гришка, – Ленина хотел арестовать. Смертную казнь ввел. Заодно с Корниловым. Но сметет их класс к чертовой бабушке!
Мы миновали отрубные выселки, первыми согласившиеся соединить свою землю с общественной. Вог и паше село.
Дома меня ждали ужинать. Отец и мать что‑то очень веселые. На столе – огурцы, редька, лук и, к моему удивлению, вяленая вобла.
– У вас что, праздник? – киваю на стол.
– Вроде, – говорит мать, – садись, заждались.
Когда уселись, отец посмотрел на мать, она на него, перемигнулись. Отец встает, идет за голландку.
– Что это у тебя, отец? – спрашиваю его.
– С покончанием ржаных, – смеется он, вынимая пробку из бутылки. Наливает в чайную чашку, подносит: – Пей всю сразу.
– А сами?
– Мы… чуток до тебя.
Так вон почему у них глаза блестят, – и я хватил. Хватил, и дух у меня занялся, глаза на лоб полезли. Куда там «всю»!
– На, на, скорей, – сует мне мать огурец, – протолкни.
Я действительно еле «протолкнул» и, вытирая слезы, спросил:
– Это… самогон такой?
– Чистый шпирт! – похвалился отец.
– Откуда?
– У Ладыженского цистерну вычерпали.
– И ты ездил?
– Куда–а мне! Ты допивай, а то он сразу выветрится, – посоветовал отец.
Он уже от кого‑то прознал, что спирт «выветривается».
– Что же, отец, много наших ездило?
– Господи благослови, – начали.
– «Благослови»… как бы их там солдаты не благословили.
– Нет, они стакнулись с ними.
– Опять поедут?
– Раз начали, знамо, не оставят.
После ужина я вышел на улицу. Теплая лунная ночь. Слышны песни, гармоника.
В мазанке густо пахнет сеном, дубовыми листьями. Мать заготовила на зиму веников. Они висят на перекладине и, неведомо отчего, тихо шуршат. Подо мною душистое сено. Голова слегка кружится. Ложусь, как на сеновале. И запах трав и дубовых листьев пьянит сильнее вина.
31– Читай протокол! – охрипшим голосом говорит Григорий.
Народ стоит возле нашего стола, сидит за партами. В открытые окна из учительского сада уставились ребятишки. Жара, духота. Я, охрипший от речей и крика, встаю, смотрю на Филю, – у него свирепое лицо; на Степку Ворона, – мрачные очки; на Павлушку, – как всегда, он улыбается. И я, обращаясь к вдовам, к солдаткам, начинаю читать писанный мною под шум и гвалт народа протокол. Начинается он хитрыми словами. Не только для наших богачей, мельников, отрубников я так составил его, но, главным образом, для уездной продовольственной управы. Обсуждали закон о хлебной монополии. Вчера в комитете долго думали мы о нем. Было два предложения: совсем не собирать хлеба – тогда пришлют отряд, хлеб возьмут, но уже у всех, проводить – значит, поддержать правительство, – пусть хоть бы каплей, – а наш комитет не из таких людей. Выходило – не подчинимся, комитет разгонят; подчинимся – стало быть, за Временное правительство. И все‑таки лучше, если в село не приедет отряд.
– «Чтобы не допустить в свободной России голода, которым банкиры и купцы грозят задушить революцию, считая, что армия должна быть способна бороться за свободу и землю, которая будет принадлежать всему крестьянству безвозмездно, – мы – революционное трудящееся и беднейшее крестьянство – постановляем: хлеб, учтенный комитетом в излишках, сдать по твердым ценам. Освободить от сдачи беднейшее крестьянство, неимущих вдов, сирот, инвалидов и солдаток. Освободить их совсем, согласно приложенному списку № 1. Изъять хлеб у тех, у кого он в излишестве, а именно у богатейшего населения: мельников, отрубщиков, испольщиков, у духовенства, лавочников и прочего люда согласно приложенному списку № 2, с указанием количества едоков в семье и пудов излишка».
Недолго молчал народ. Но теперь кричали те, кто сообразил, что они попадают во второй список. И когда чуть угомонились – кричал только Гагарин Николай да ему вторил раскрасневшийся лавочник Блохин, – Григорий стукнул кулаком по столу.
– Правдиво наше постановление, трудящаяся массыя?
– Чего с нас взять! – откликнулись солдатки.
– Поддерживает нас беднейшее крестьянство? – осведомился матрос и грозно посмотрел на Гагару.
– Поддержим, не упадете, – крикнул кто‑то из мужиков.
Но Григорий не унимался.
– Идет ли поперек революции наш протокол?
– Волки сыты и овцы целы, – заметил пастух Лаврей. – А теперь читай дальше, – кивнул он мне.
– «Учитывая, что в свободной России все равны и не должно быть наживы, открытого и скрытого грабежа, как именно – у одного на едоков земли больше, у другого – многосемейного – меньше, мы, трудящееся и беднейшее крестьянство, постановляем: всю землю, коя отрублена на отруба, душевую землю, коя куплена у кого навечно, землю, приобретенную в поземельных банках, а также церковную и помещичью, соединить в одно и разделить революционным порядком всем поровну, согласно едокам».
Все молчат, даже богачи. В наступившей тишине слышно чье‑то тяжелое дыхание, хруст яблок на здоровых зубах мальчуганов, треск ветвей в саду, – там ребята забрались на яблони дорывать китайки.
Вдруг кто‑то спросил:
– А мельницы?
Григорий удивленно смотрит на меня, как бы говоря: «Ты что же, забыл?»
– И мельницы, дранки, валяльник, чесалки, – добавляю я и вписываю в протокол.
Не успел дописать, как снова подает голос Николай Гагарин:
– Руки коротки!
– У кого? – кричит Филя. – Объясни, гражданин! – И поднимает длинные руки до потолка. – У меня?
– Ого, – смеются кругом, – грабли!
Николай истошно выкрикивает:
– Закон правительства… не трогать землю до Учредительного собрания… читали?
– Все законы читали. – спокойно отвечает Григорий. – Наше дело углублять.
– Погублять хотите, большевики.
– Да, мы – большевики. А вы кто? Трудовая партия кулаков?
– У власти пока наша – трудовая.
– Пока – верно, – согласился матрос, – а завтра она в преисподнюю полетит.
– Ну, это еще поглядим… Бороться будем…
Широкоплечий Григорий складывает на груди руки:
– Слыхали? Бороться! Пойдем! Не гляди, что у меня нога такая. Потрясу тебя… У них, у эсеров, лозунг: «В борьбе обретешь ты право свое!» Только в лозунге не говорят, с кем хотят бороться. Но мы знаем: не с помещиками, а с беднейшим крестьянством. А у нас лозунг другой: «Готовьтесь к новым битвам, боевые товарищи! Под знамя большевиков, угнетенные крестьяне деревень!» Вот наш лозунг, и мы буржуям головы свернем!
Он рассказывает, за что стоят эсеры, как они вместе с буржуазией расправлялись в Питере с рабочими, как хотели арестовать и убить Ленина. Филя перебивает его:
– Голосуй!
– Кто за отбор земли, мельниц и прочего?
И когда поднялись руки и Филя принялся считать, в окно школы испуганно кричат:
– Солдаты скачут!
– Ага! – радостно вырвалось у Гагары, – они сам… проголосуют!
Соня смотрит на меня пытливо и спрашивает:
– Скажи по правде, здорово перетрусили?
– Да нет же. Сначала мы подумали, что солдаты по поводу спирта к нам, глядь, мимо. Куда‑то для реквизиции.
– Давай читать, – кивает она на тетрадь, которую я принес.
– До того ли сейчас, Соня, чтобы пьесы ставить?
– Я так и знала, что ты… трус.
– Пу, это уж чересчур! – рассердился я.
Сарай в саду небольшой, плетеные стены обмазаны глиной, побелены изнутри. Здесь, проходя переулком, почти каждый день можно видеть Соню, сидящую или возле двери сарая, или под яблоней за столиком. В сарае на стенах – разные картинки, фотографии, небольшая географическая карта, фотография, где она снята с братом–офицером.
– Плохо получилось, – говорю я и смотрю на Соню, – не успел переделать.
– Вместе исправим, Чехов не обидится.
Мы решили в скором времени поставить в школе пьеску «Предложение», на наш взгляд очень подходящую, но обязательно переделать у нее конец. Конец должен быть революционным.
В ней разговор идет о земле. Конечно, в первую очередь выбросить спор помещичьей дочки с женихом о собаках. К чему тут собаки? Вот Воловьи Лужки – это дело другое. Ломов – жених – говорит: «Лужки мои», а невеста кричит: «Лужки наши». И кричат они, как цыгане на базаре. Жених даже забывает, зачем он приехал. О сватовстве знает только отец, но и он в пылу спора упустил это из виду. А чего бы проще? Раз выйдет дочь замуж, тогда и о Лужках кричать не надо. Жадность к земле! Еще показалось мне досадным, что ни жених, ни невеста друг друга не любят. Ломов хочет жениться потому, что года его уходят, а невеста потому, что ей скучно. Стало быть, дело у них выходит несерьезное. На черта же эта свадьба? Выбросить ее. Главное – в спорной земле. Чехов только намекнул, что сенокосные луга – Лужки – когда‑то принадлежали мужикам, потом их забрали помещики. И дело это было так давно, что даже сами помещики забыли, кому Лужки принадлежат. Мы решили найти этим Лужкам настоящих хозяев. Мужиков добавить.
Читаю Чехова:
« Наталья Степановна.Мне? Предложение? Ах! ( Падает в кресло и стонет.) Вернуть его! Вернуть! Ах! Вернуть!
Чубуков.Кого вернуть?
Наталья Степановна.Скорей, скорей! Дурно! Вернуть! ( Истерика.)
Чубуков.Что такое? Что тебе? ( Хватает себя за голову.) Несчастный я человек! Застрелюсь! Повешусь! Замучили!
Наталья Степановна.Умираю! Вернуть!
Чубуков.Тьфу! Сейчас. Не реви. (Убегает.)»
– Дальше идет мое, Соня. У меня чуть похуже.
– Чуть? Если чуть, это ничего, – смеется она.
И я читаю свою концовку.
Она очень проста. Пока жених с невестой спорили, мужики взяли да и скосили эти самые Лужки. Потом с «косами, вилами и прочим инвентарем направились сюда, в имение. Попался им управляющий, связали его, выбежал дурной этот Ломов и оказался в цепких руках мужиков. Смекнул Чубуков, в чем дело, бежать хотел с дочерью. Но уже поздно. Мужики – вот они. Впрочем, они не хотят чинить над помещиком расправы, а объявляют ему, что, дескать, теперь во всей России мужики забрали помещичью землю себе и что Чубуков может убираться куда хочет.
Выгнав Чубукова, мужики совсем осмелели и под крики «ура» направились выкуривать еще одного помещика, но уже не чеховского, а здешнего злыдня, пузатого Климова.
«Вытурим его, землю поделим, скот поделим, хлеб покосим, все заберем!»
И опять «ура» уже под самый занавес.
Пусть догадаются односельчане, что надо делать по нашему яростному призыву.
Пот меня прошиб, пока я читал. И невдомек было взглянуть на Соню. Только сейчас увидел, что она, припав на кровать, уткнулась вниз лицом и все тело ее содрогается. Не плачет ли? – подумал я. – Вот так конец состряпал. В слезу бросает. Соня на момент подняла голову, посмотрела на меня, хохочет, как сумасшедшая. Хватается за голову и волосы растрепала.
– Соня, вы что? Над чем?
– О–ой! – еле вздохнула она. – Ой, умо–о-ори–ил!
– Скажите, – бросил я тетрадь на стол. – Плохо?
– Че–че–хова по–пра–ави–ил, – через силу выговорила она.
– Да, поправил… а что?
– Ур–ра, м–мужики!
– А разве «караул» нужно под конец?
– И Кли–имов у… Чехова!..
– К черту! Сейчас порву!
Она быстро схватила мою тетрадь и, посмотрев на меня лукавым взглядом, улыбаясь, попросила:
– Не сердись.
– Это же, Соня, черновик, – оробел я, поняв, что конец действительно смешно звучит. – Давайте, Соня, Климова по боку… раз он вам дорог.
– Нет, пусть Климов останется. Я понимаю, зачем он сюда попал. Нет, нет, хорошо. Мы сейчас выправим. Сделаем так, что и Чехов не обидится.
– А о чем я вам говорил? Чехов, живи он сейчас, тоже по–другому написал бы. Правьте, вычеркивайте, а я домой схожу. Есть хочу.
– Никуда! Сидите здесь, – почти строго сказала она. – Или по саду походите. Потом вот что, – посмотрела она на меня, – только не обидитесь?
– За что же обижаться на вас, Соня? Вы всегда мне хорошее советуете.
– Еще вам совет: никогда не говорите при барышнях, что хотите есть.
– Понял, Соня, – покраснел я. – Ив самом деле, я и есть‑то совсем не хочу. Ей–богу, соврал.
– Врать… тоже не всегда хорошо. Идите погуляйте по саду, сорвите какое нравится яблоко и… ешьте.
Она засмеялась, встала и слегка толкнула меня к двери.
– Идите, сочинитель!
Сад у них небольшой, но яблони крупные, с широко раскинутыми сучьями. Нашел яблоко – «сахарная бель», сел на скамейку и думаю. Смутные мысли. Думаю о Соне. Умная она, красивая, образованная, а нет, не лежит к ней сердце. Может быть, потому, что слишком она мне кажется умной? И чувствую я, нутром чувствую, что нужен я ей, как забава. Скучно ей одной, вот и нашла подходящую утеху. И не могу я с ней держаться просто, говорить по душам, что вздумается. С ней говоришь, как по бритве ходишь, – вот–вот срежешься. Мне, пожалуй, жаль ее. Верно ведь, она одинока. Потому и обижается, если долго не захожу. И старается, чтобы мы остались вдвоем. Л зачем? Вот Лена, дело совсем другое. Я меньше ее видел, еще меньше говорил, но помню каждое ее слово, каждый кивок головы, помню ее тихий голос и этот взгляд… этот взгляд голубых ее, чистых глаз.
И мысли мои вновь, помимо воли, опять улетают туда, в то далекое село, под крышу того дома, где впервые я встретил ее в дождливый день. И страшная, до боли щемящая все тело мое, всю душу мою тоска, страх охватывают меня. Снова я там. Снова и в который уже раз. Тысячи дум обдумал я, сколько неслышных разговоров вел я с ней в мыслях. Нет, не забыть мне ее, не в силах моих сделать это. Ничто не заслонит ее от меня. И Федора, грозная ведьма, как призрак, как страшный сон, померкла, растаяла в моей памяти. Как жалею, что тогда растерялся, был ошеломлен и не отчитал ее. Как ругаю себя, что ушел, не повидавшись, не поговорив с Леной. Надо было преодолеть страх надо было побороть самолюбие… Но теперь поздно. Что сейчас она, моя Лена? Думает ли обо мне? Вспоминает ли? Если бы думала, написала бы. Самому писать, первому, – нет, нельзя. Вдруг получу от нее самой отказ? Пусть лучше не буду знать ничего, если не пишет, пусть навек останутся одни мои несбывшиеся, сладостные мечты о первой и настоящей, неповторимой любви, которая только один раз бывает в жизни.
Эх, Лена моя, Леночка!.. Моя ли?
– Петр! – послышался голос Сони.
Вскакиваю и, задевая за сучья, с яблоком в руках спешу. Соня стоит в дверях и смотрит, смотрит, как я иду. Догадавшись, что она наблюдает за мной, я чувствую, что ноги мои путаются, подкашиваются. Чтобы подавить смущение, я улыбаюсь во весь рот. А она все смотрит. И у меня невольно вырвался вопрос:
– Что так… уставились на меня?
– Я? Вот не думала.
– Нашел! – вдруг ни с того, ни с сего показываю ей яблоко. – Куда его?
– Ах, беда! – смеется она. – Держите покрепче, пригодится… Давайте читать!
Когда она окончила чтение, на лице у нее тоже был испуг. Не боялась ли она, что я, по ее примеру, расхохочусь?
– Хорошо, Соня!
– Честное слово?
– Правда, чисто вышло, и «ура» не надо.
– Если хорошо, переписывайте, а я пойду.
Пока я переписывал, Соня несколько раз то приходила, то уходила молча, не мешая мне. Вот снова скрипнула калитка, и Соня, гремя тарелками, появилась в садике. Подошла к столу и начала сбрасывать с него все, что мешало.
– А я… не мешаю?
– Сказала бы, да обидитесь.
– Догадываюсь, – и выхожу из сарайчика.
В саду почти темно. На западе горит заря. Стада пригнали, с улицы слышен вечерний шум. С токов и полей вернулись люди. Оглядываюсь на сарайчик. Там огонек. И дверь приотворена. Огонек виден сквозь щель, будто по двери провели огненную линию. Затем дверь тихо открывается, полоска света падает на деревья, на колодец в саду. Некоторое время Соня стоит в дверях. Это, видимо, безмолвный знак мне, чтобы я шел. И я торопливо иду к сараю.
– Ого! – невольно восклицаю я, глянув на стол.
Соня с поклоном встречает и ведет к столу.
– Пожалуйста, отведайте хлеба–соли.
– Да тут не только хлеб–соль, тут я вижу… Со–оня, что я вижу?
– Все, что бог послал.
– И вы… пить будете? – киваю ей на бутылку с какой‑то настойкой на вишнях.
– И гулять буду… А смерть придет, умирать буду, – вздыхает Соня.
На столе – маленькая, с кружевами скатерть. На ней тарелки, белая миска с чем‑то, огурцы, арбуз, куча яблок и пеклеванный хлеб. При мерцающем свете толстой свечи все в этом сарайчике выглядит иначе, чем днем: таинственнее, уютнее.








