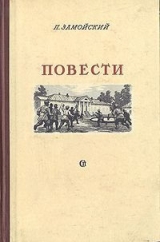
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
Поздно вечером шел десятский Филька с длинной, выше своего роста, палкой. Он что‑то кричал около каждой избы, а на него лениво лаяли собаки.
Мать стелила постели, отец был в избе, а я сидел на чурбаке, навивал кнут волосом.
– Дядя Сафрон дома? – подошел Филька к нашему соседу. – На сенокос завтра.
Потом и к нашей избе. Постучав палкой в наличник, он над самым моим ухом закричал тонким голосом:
– Дядя Иван, завтра барску степь косить.
«Завтра начинается сенокос, – подумал я. – Оживится степь, запоют на ней косы, и нам, пастухам, станет веселее». Утром, когда мы шли завтракать, слышно было, как пробивали косы. А когда гнали стадо улицей, почти возле каждой избы сидел мужик на пеньке и равномерно оттягивал пробойным молотком, жало у косы. Мой отец тоже пробивал. Он, поплевывая на молоток, бил сосредоточенно. Он плохо умел пробивать. Вот церковный сторож, тот мастер. Ему еще недели за две до сенокоса некоторые мужики приносили свои косы для пробоя.
Выезд из села на сенокос красив. Только нынешний год я его не увижу. Мы со стадом в это время будем уже в степи.
…Поднимая пыль, миновали мы последние избы, влево осталось кладбище с высокой оградой. Гоним к Варюшину оврагу, где в первый день выгона стояли коровы. Оттуда поперек яровых – неширокая полоса жесткого прогона. По краям он порос лебедой, полынью, чернобылом, сурепкой, лопухами и татарником. Все эти ни скоту, ни людям не нужные травы цветут теперь. Я подгоняю сзади. Чутко, сквозь мычанье, шарканье копыт прислушиваюсь – не донесется ли сигнальный звон косы – начало выезда. Оглядываюсь к селу – подвод и пыли не видно.
Вот и степь… При входе она вытолочена и почти сливается с прогоном. Лишь седой полынок колышется да трава душица. Стадо, не останавливаясь, идет дальше.
Наконец коровы начали пастись. Я иду медленнее. Солнце выглянуло из‑за дальней горы. Заблестела легкая роса, небольшие туманы поднялись из ложбин и медленно поплыли. Наступил день, обычный день в степи за стадом. Я прикинул, сколько еще дней до осени. Больше ста! Сейчас‑то хорошо, нет той жары, которая будет во время жнитва. Пока по утрам прохладно. Лишь к полдню разогревает.
Чу! Кажется, звон… Да, коса звенит. Вот другая. Она звенит полнее. Видно, еще новая, а вон и третья. И их уже пять, может, десять. Вот сплошной звон. Так по ночам мужики пугают волков в поле. Быстро перекинулись мысли в село. Представляю выезд, который видел не раз. Первым обязательно выехал крикливый, малого роста, Орефий Чернев. Про него говорят, что он и спит‑то на ходу. Всегда и всюду поспевает раньше других, вечно всех торопит и все посмеивается. Высох в лучинку и прозвище ему – «Жила». Вот он едет по селу на своем пегом мерине, сын Костя правит, а он держит отвесно косу и бьет по ней кнутовищем. Жена у него веселая, круглая, большая песенница. Орефий непременно выпил, и нет ему уйму. Всех взбудоражил, всех поднял на ноги.
– Эге–гей! Мужики–и, ба–бы! Эге–гей, запрягай!
За ним – Лазарь. Горячий, бесстрашный. Он мчится следом. Звонит в косу жена его, Матрена. Вон выезжает наш сосед, Иван Беспятый. И крестный мой, Матвей, выезжает, потом Евграф с сыновьями. Они гонят рысью, шумят, пылят, звенят. Бабы и девки держат косы, как хоругви. И все веселые. Даже собаки, и те радостно визжат, бегут за своими телегами. Жеребята мечутся, голосисто заливаются, ищут матерей. Кто‑то запрягает, кто‑то еще наливает в жбаны воды, кладут на телегу посуду, ведра, кошелки, хлеб, картошку. И торопятся все, как на пожар. Никому не хочется отстать. Выехать надо дружно, а отстанешь – засмеют. Неповоротливые, вялые мужики, сбитые шумом, руганью своих жен, мечутся без толку и не знают, то ли им лошадь запрягать, то ли на телегу укладывать. Представляю, как мой отец бегает из избы в сени, из сеней на улицу. То он забыл брусок положить, то молоток никак не найдет, жбан с водой не заткнул, затычку потерял. И седелка у него куда‑то запропастилась. Запасную веревку ему надо взять, а он ее не свил.
– Эх, ты, глина! – ругает его мать и торопливо укладывает в мешок хлеб, ложки, чашку, ножик, соль. В лукошко насыпает картофеля, луку.
Наконец‑то отец запряг лошадь. Только уселись, отъехали, глядь, супонь развязалась и дуга набок.
– Ох, горе, окаяищина! – причитает мать. – Кислятина ты! По–людски и запрячь не можешь.
– Молчи, ведьма! – злится отец, спрыгивая с телеги, и опять возится.
Поехали и наши. Князь–мерин, такой Же неуклюжий, как отец, пытается бежать, но с первых же шагов спотыкается. Ноги передние у него хрустят, почти не сгибаются.
…Звон все сильнее, и вот уже с возвышенности нам еидно, как запылило в улице и в двух переулках. Тремя дорогами мчались наши мужики на барскую степь. Три дороги на середине поля под раскат идут на одну большую. Бешено скачут первые подводы. Дядя Федор, и Ванька, и Данилка, и все мы застыли, смотрим. Даже коровы, заслышав шум, перестали есть и тоже стоят, нюхая воздух. Все ближе и ближе пыльный обоз. Скоро выедут в степь и промчатся мимо нас. Остановятся они у дальнего леса. Там мы со стадом еще не были.
На черном с белыми ногами жеребце едет сын Гагары Николай. У него широкая борода, он туго держит полуременные вожжи. С ним – крупнорослый, лет пятнадцати, сын и Оля, по которой страдает мой друг Павлушка. Сильный жеребец в хорошей сбруе нетерпеливо рвется, гордо задрав голову, машет хвостом, ржет, дрожит и все пытается перейти в галоп. Не будь он взнуздан, понес бы и где‑нибудь опрокинул и телегу и седоков. Страшно ехать на таком жеребце в большом обозе. За Гагариными двумя подводами, чуть поотстав, – Игнат Павлов, маслобойщик. Он тоже на хорошей, молодой лошади. Сбоку на привязи еще двухлетка–матка. Она идет косо, чуть не становится поперек дороги. Игнат покрикивает на нее, а она пугается и мешает запряженной лошади идти. Игнат идет без фуражки. Лысина его блестит, борода рыжая, редкая, волосы на ней, как попало: вкось и вкривь.
За Игнатом – Орефий Жила. Он не кричит здесь, как, наверное, кричал в селе, но пылкий характер его и тут проявляется. Он сидеть не может спокойно: то вверх посмотрит, то в стороны, то вперед, назад, и зачем‑то под телегу. Жена его держит стоймя косу. У некоторых под телегой болтаются ведра. В них песок, а в песке самолянка, брусок, отбойный молоток и бабка.
Проехал Лазарь. Он поздоровался со мной. А вот Иван Беспятый. Сидит запрокинувшись, спиной уперся в спину своей сестры. Я иду за стадом, держусь возле дороги. Подводам конца не видно, но на каждую хочется взглянуть. Я кого‑то ищу. Какую‑то одну подводу.
– Петька! – вдруг слышу.
– А–а, Павлушка! – обрадовался я. – Едешь?
– Мы отпололись. Говорят, перепелок много?
– Много! – кричу я, не подходя близко. – А ягод сколько!
– Отпросись у дяди Федора, приходи.
– Приду.
– По лесу будем ходить. К обрыву пойдем. Помнишь обрыв?
– А как же… Страшный.
И Павлушка с отцом проехали. Опять вглядываюсь в подводы. Я готов идти навстречу, чтобы скорее проводить их. И невольно, сам не замечая, начал приотставать от стада. Но три удара плетью мне о чем‑то. Смотрю по сторонам. Проклятая Бурлачиха тронулась к яровым полям.
– Э–эй, Бур… – хотел я ее окликнуть, но словно кто под сердце мне кольнул. Я оглянулся на проезжавшую подводу. На телеге ехал Бурлаков. Мужики очень сердятся, когда слышат прозвища своим коровам. Молча побежал я, хлопая кнутом. Но Бурлачиха словно нарочно не сходила с проса. Она подпустила меня на расстояние кнута, потом лениво повернула. Не будь близко ее хозяев, вытянул бы я ее по боку. Хозяйка, завидев свою корову, поманила ее, а ненавистная баловница, увидев хозяйку, подняла хитрую морду и – будь проклята! – что‑то промычала в ответ.
Теперь я шел по левую сторону дороги. По эту сторону на телегах сидят обычно бабы, девки, ребята. Подводы все едут. Уже проехал Харитон, которому я поклонился, сняв картуз, крестный Матвей, почему‑то нынче отставший, Филька десятский, староста и Василий Госпомил. А я все неотрывно смотрю на каждую подводу и кого‑то жду. Сердце бьется все сильнее. Наконец за Тимошкой Вороном показалась та подвода, которую ждал. Я отвернулся к полю. Наверное, я сильно покраснел, так загорелись у меня щеки. Но вот она, подвода, как раз напротив. Дух перехватило.
Она сидела и, свесив ноги, обутые в башмаки, болтала ими. Рядом – братишка. Отец с другой стороны. Он не видел меня. Когда поровнялись, я взглянул на нее, и сердце опять зашлось. Что‑то надо сказать, а во рту пересохло. Как‑то глупо улыбаюсь и стыжусь не ее, не братишки и не отца, а тех, что едут сзади. Да и не их. Просто мне стыдно. Она смотрит на меня тоже не так, как всегда. И вдруг, к радости своей, замечаю, что она тоже краснеет и ногами уже перестала болтать. Смотрит на меня молча, и я иду молча. Так, может быть, и уехали бы, и я бы ничего ей не сказал, но она улыбнулась как‑то хорошо и полушепотом сказала:
– Поедем?
Уже не помню, как, но, совершенно забыв, что я подпасок, я побежал и прыгнул на телегу, усевшись рядом. И сказал ей, не думая:
– А мы, Настя, послезавтра стадо туда пригоним.
– Хорошо, – сказала она.
– Веников там много, – проговорил я.
– Ох, и париться я люблю! – сказала она.
– Я тоже люблю.
Мы проехали на полстада, все еще болтая о чем‑то. На ее пальце я заметил оловянное кольцо. Вдруг она крикнула:
– Глянь, глянь, Петька!
В гречиху забралась Бурлачиха и воровато жрала. Сразу вспомнив, кто я такой, я спрыгнул с телеги и, не оглядываясь, побежал к корове. Не обращая внимания на проезжающих, я хлестал Бурлачиху по ляжкам. Когда оглянулся, подвода с Настей была уже далеко. И стало мне грустно, и противными показались и это стадо, и голая степь, и яровые, и это небо с тучами.
Подводы тронулись рысью. Пыль клубилась сзади, и некоторое время как бы еще гнулась трава, хлестала по колесам, от дегтя становилась черной, словно обгоревшей.
Стадо круто повернуло вглубь степи…
* * *
На третий день дядя Федор решил пустить стадо па дальний пар, где мы давно не были.
– Там на межах трава подросла, а на пару молочай с березкой, – сказал старик, словно оправдываясь.
Мы были очень рады. Ведь оттуда рукой подать до сенокоса. А дальняя степь и лес за ней всегда были для нас таинственными. Бывали мы там всего раз в год, во время сенокоса. Сколько неизведанных в лесу, в овраге и в степи мест! Оттуда видны три села с тремя разными церквами, из которых ни одна не похожа на нашу. Одно село совсем близко, второе дальше, с высокой колокольней. А совсем на горизонте – третье. Церковь еле видна.
На той, дальней степи пасти нам, даже по скошенному, нельзя. Она – барская, и объездчики оштрафуют. Рано утром мы спешно гоним стадо туда.
Миновали первый лес. Он остался вправо, затем второй, спустились в долок. Отсюда начинается большой овраг с ключевыми родниками. Отсюда – теперь я знаю, – берет начало река Атмис. Затем на гору, где четыре высоких кургана. Про курганы говорили, будто на них стояли сторожевые посты Пугачева. И вот уже третий лес, а когда спустились за гору, показалась и степь, и самый дальний лес. Совсем другая теперь картина. Будто страницу в книге перевернули. Все, что было сзади, вдруг скрылось, и все, что было скрыто раньше, открылось далеко до горизонта. Вот из‑за этой самой горы всегда и всходило солнце. А там, вдали, в синеве есть еще гора. Во мгле, погоре – тонкие очертания лесов. Я слышал, что за горой – огромное базарное село, в нем четыре церкви, большие магазины. Там и железная дорога, а по ней ходят поезда. Я не был в том селе и ни дороги, ни поездов не видел.
На пару, верно, много разной травы. Особенно густо заросли межи. Они словно вздулись и скрыли колеи и ямы. Земля тут хорошая и хотя далеко от села, но считается по первому жребию. Когда тут убирают рожь или яровые, люди ночуют в полях: в село ехать далеко. Коровы разбрелись и жадно набросились на траву. Мы с Ванькой, идя сзади, прислушивались – донесется до нас звон кос или нет?
– Давай закурим, – предложил он.
У него уже кисет. На кисете зеленым вышито: «На память» и две буквы: «М. К-». Он нарочно долго возился с кисетом, чтобы я увидел вышивку.
– Кто тебе шил?
Он усмехнулся, посмотрел на вышивку и небрежно махнул рукой.
– Девочка одна.
– Чья?
– Угадай, – хитро усмехнулся он.
Угадывать было нечего. Девок всех я знаю. И по буквам сразу догадался, кто вышил. Но нарочно принялся называть совсем неподходящих под эти буквы деЕОК. Ванька был доволен, что я не могу угадать, и весело хохотал.
– Нет, – отказался я, – не знаю. Ты уж сам скажи.
– И сроду не узнаешь, – обрадовался он. – И подумать па нее нельзя.
Не называя, он всячески начал расхваливать ее.
– А–а! Догадался! – воскликнул я, свертывая цыгарку. – Машка Козихина?
– А то нет?
– Ей–богу?
– Глаза лопни!
– Подрастешь, женишься на ней?
– Подумаю.
– А если за тебя не пойдет?
– За меня не пойдет? Сейчас от нее не знаю куда деваться. Проходу не дает.
Хотелось мне сказать: «Врешь ты, она и видит‑то тебя в неделю раз, – где уж тебе проходу не давать», – но не стал спорить, а все удивлялся и притворно завидовал.
Искренне же завидовал я тому, что у Ваньки были кремень, огниво и трут. Зажечь высеченный искрой трут, раздуть его и закурить – настоящее удовольствие. Ванька Стал против ветра и принялся высекать огниво. Даже днем видны были искры. Вот уже одна искра попала в трут, пошел душистый дымок. Ванька подул на трут, сначала прикурил сам, затем дал мне.
– Э–э, слышишь, звенят! – вдруг воскликнул он.
Косари показались из‑за бугра. Сначала трое, затем, по грудь, четвертый. Вон виднеется голова пятого, а там уже шестой. Было похоже, что они выбираются на крутую горку.
Увидели косарей и дядя Федор, и Данилка. Издали не заметно, как валилась подкошенная трава. И кос тоже не видно. Казалось, будто люди, став один за другим, просто машут руками. Одни махали, пригнувшись, другие держались прямо, третьи круто склоняли головы вбок, а иные словно что‑то искали внизу под ногами. Так разно они косили.
– Э, вон еще! – крикнул Ванька.
На втором месте еще косяк.
– Надо в обед у хозяина отпроситься туда, – сказал Ванька, совсем забыв про папироску.
– Не пустит.
– Пока коровы будут лежать, успеем сбегать.
Коровы, наевшись, полегли на пару в межах. Недалеко – широкая грань, отделяющая нашу землю от степи. С грани‑то и начинается степь.
Скучно сидеть в открытом поле на меже. В степи все‑таки лучше. Там сидишь или под кустом возле леса, или на стойле, где в пруду хоть покупаться можно. А тут – чистое поле, высокая местность, и ветер какой‑то едучий. Мы с Ванькой, поглядывая в степь, которая совсем недалеко, начали было проситься у дяди Федора. Но старик сердито обругал нас теми словами, которыми мы сами выучились ругать коров. От нечего делать принялись под высокой межой копать печку. Сверху дубинкой проткнули дырку. Это – труба. Сухой полыни вдоволь.
Тоскуя по степи, где теперь наши сверстники собирают ягоды и ловят перепелов, мы с Ванькой заложили в печурку траву и зажгли. Долго не тянуло. Ванька, как знаток дела, пояснил, что она «не обогрелась». Верно, скоро потянуло, и дым пошел вверх тонко, как из трубки дедушки Сафрона. Мы легли на межу под дым и вдыхали его. У нас уже кружились головы. Потом принялись играть в дубинки.
Данилка занят своим делом: он ищет клад. Его мечта – найти чугунок с золотом. Клады он ищет всюду: и в степи, и на лугах, и у себя в огороде, а теперь вот в поле. Его манят высокие курганы. Дать бы ему волю да острую лопату, он бы раскапывал эти курганы день и ночь. Ни одной норы зайца или суслика не пропускал, чтобы не засунуть туда дубинку. Особенно привлекали Данилку аккуратные неглубокие норки паука–тарантула. Он шарил в них стеблями полыни, пускал туда дым из цыгарки, взяв ее в рот огнем, и когда выползал оттуда потревоженный тарантул, Данилка убивал его и ругался.
– Я‑то думал – клад!
Вот и сейчас сидит на загоне, копается. Мы решили подойти к нему, посмотреть. Он не подпустил нас шагов за пять. Погрозился, шепнул:
– Сейчас появится.
Клад у него обязательно должен почему‑то сам «выйти», «появиться». Мы стояли поодаль, смотрели, как он то опускает в дыру палку, то вынимает и внимательно исследует ее конец.
– Брось бездельничать! – крикнул Ванька.
– Чего вы понимаете! – рассердился Данилка. – Послушайте, как звенит.
Мы подошли. Он опустил конец дубинки в дыру. Это был продух в сусликовое гнездо.
– Приложи ухо, слушай, – сказал он мне.
Я лег, прислонившись ухом к дыре. Данилка начал стучать концом дубинки.
– Слышишь?
– Да, слышу, – удивился я. Действительно, дубинка ударялась во что‑то металлическое.
– Ей–богу, тут клад.
Лег и Ванька. Тоже слушал и тоже согласился, что «там что‑то звенит». Наше подтверждение совсем взволновало Данилку. У него горели глаза. Дай ему лопату, он вырыл бы тут колодец. Но лопаты нет, копать дубинкой – все дело испортишь. Он от кого‑то еще слыхал, что клад «дается только ночью». И не просто, а с разными препятствиями. Главное – не обойдешься без чертей. Эти, прежде чем отпустить клад, порядочно поиздеваются, постараются обмануть человека, будут добиваться, чтобы он оглянулся назад. А уж раз оглянулся, тут загудит клад обратно в землю.
«Сочиню про Данилку басню», – решил я. И тут же сложил:
Наш Данилка клад искал,
Да к чертям он в ад попал.
Мы оставили кладоискателя и пошли к старику. Он навивал кнут.
– Есть хотите?
– Хотим, – ответили мы. От еды никогда еще не отказывались.
– Возьмите хлеб в кошелке.
Закусывали молча. Обиделись на хозяина. Сколько ему ни угождай, сколько пи приноси из леса лык, из ивняка прутьев, – все попусту. Куда бы пропали эти коровы! Мы и сбегали бы всего на часок. Только посмотреть и обратно.
– Даст еще четвертную и дьявол с ним, – проговорил старик, как бы продолжая с кем‑то спор.
Мы знали, о чем бормочет старик. Он продает свою душевую землю, – «душу». Всю весну ладится он, постепенно уступая. Сначала говорил о трехстах, потом сбросил с третьей сотни двадцать пять рублей, потом сорок, а дальше уже сбрасывал по десятке, по пятерке.
– Ты ровно за двести отдавай, – лукаво подмигнув мне, посоветовал ему Ванька.
– Нет, за такую цену не отдам, – уперся старик.
– Бери, пока дают, – серьезно заметил Ванька.
– К Гагаре схожу.
– Гагара пять душ нахватал. Не справится с работой.
– Не уступлю, прохвосту, за двести.
– Уступи, дядя Федор. Десятку набавит, и уступи.
– Не пойду на красненькую. Разь вот на двадцать…
– Тринадцать даю, уступишь?
– Нет.
– Пятнадцать?
– Нет.
– И не надо, – отказался Ванька. – Даю двести пятнадцать, а ты ломаешься.
Тут дядя Федор понял, что Ванька смеется над ним. Но не обиделся и рассмеялся.
– Ах, идол! Ну, и купец! Тебе‑то я свою душу за сто рублей отдал бы, только где вы с отцом денег Еозьмете?
«Душу» старик продает Карпу Устинову. При каждой встрече отчаянно с ним торгуется.
Мне как‑то страшно слышать об этом. Так и кажется – продаст дядя Федор свою «душу» в три десятины навечно, и словно останется без ног. Ни к чему будут ему ноги. Кто даст ему право ходить по чужой земле, есть хлеб и вообще жить на свете? Ну, мы, безземельные, это дело другое: на нас просто царь не дает наделов. А дядя Федор? У него есть «душа». Пусть лучше отдаст ее своим сыновьям. Но дядя Федор поругался с ними и решил: «Лучше пропью душу, сдохну, а им не оставлю».
Продажа «души» напоминала мне повесть об отчаянном пане Твардовском. Правда, тот продал дьяволу не землю, а именно душу, зато на этом свете повеселился как следует.
– Вот что, ребята, – сказал старик, – на сенокос я вас не пущу нынче. Делать там пока нечего. Пущу после. И каждого на целый день.
От радости мы чуть хлебом не подавились. А дядя Федор добавил:
– Завтра хошь с вечера, хошь с утра иди ты, – указал он на меня. – Послезавтра он, а там и тот дурак, – кивнул он на Данилку, который все еще сидел над норой.
– Спасибо, дядя Федор, – сказал я.
– Спасибо, – отозвался и Ванька. – Лык тебе принести?
– Веников наломайте. Сноха, черт, брюхата. Пятого родит скоро.
Пока лежали коровы, дядя Федор и Ванька отправились осматривать второе стойло в овраге. Я остался караулить коров. Данилка, совсем забыв про еду, все копал, добираясь до клада.
Коровы лежат. В поле не так жарко как в степи. Косари совсем недалеко. Они теперь идут наискось, выстроившись, как гуси. Некоторых узнаю по манере косить. Почти у каждого своя манера. Послезавтра буду там. Весь день и всю ночь.
Я лег на межу, смотрю в небо. Мужики поговаривают о недороде. Надеются, коль рожь подведет, то хоть яровые выручат, если будет дождь. Так, глядя В небо, я заснул. Проснулся от громкого фырканья.
– Тпрусь! – вскрикнул я.
В сторону метнулась Бурлачиха. Она подбиралась к кошелке с хлебом.
Из‑за горы показался старик с Ванькой. Данилка все сидел. Возле него уже огромная куча земли. Стадо поднималось. Скоро оно опять начало пастись. В обед погнали его на новое стойло, в овраг. Я отпросился пойти в степь, на старое пастбище, взять из пещеры свои книги и тетради. Мне хотелось читать. Я только что начал «Детство» Толстого. Идя обратно, сочинял басню про Данилку. Останавливался, садился и записывал. Завтра или послезавтра прочту ее Павлушке на сенокосе. Шел между яровыми. Загоны овса, проса, чечевицы, гречи, кое–где картофеля плохи. Земля просила дождя.
Вот и наш овес. По краям он густ, уже выбились кисти, но к середине становился все реже.
«А рожь небось совсем плохая», – подумал я. Хотелось сходить, посмотреть. Ведь на ржаное поле вся наша надежда. Надолго ли хватит нам хлеба – до рождества или до масленицы? И я подумал, что будь хоть какой урожай, все равно на нашу ораву хлеба не хватит. А нынешний год и подавно. И всячески гнал от себя страшную мысль, как бы не пришлось пасти стадо и в будущем году.
«Нет, нет, лучше побираться пойду! Завяжу глаза и скроюсь», – как говорит наш отец.








