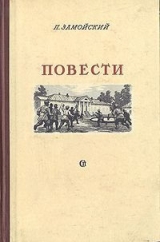
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 40 страниц)
С непривычки к работе болит сгиб локтя, зудит чуть затянутая рана. Но я доволен: кое‑как могу помочь. Вот только поджила бы рука совсем, окрепла. На кисти цел мизинец, половина указательного, – на что‑нибудь они все‑таки оставлены при операции! Уже сейчас могу делать цыгарку.
Мастерю потихоньку колодку к граблям. Никто не видит, каких трудов мне эго стоит, как я ловчусь. Но колода отесана, буду строгать ее шершебкой. Доску приладил вместо верстака. Много надо разных поделок сделать для дома. Когда‑то я все это ловко мастерил. Многое могу делать и сейчас… Только бы не жалели меня, не смотрели, как на беспомощного.
Зашел как‑то навестить бабушку Агафью. Поведал ей, какую работу могу делать. Старуха обрадовалась.
– Ты бы письма от солдаток мужьям на войну писал, – сказала она. – Ты писучий, шибко писучиё.
– Письма писать мне – плевое дело.
– Вот и трафь по этой части. А сопьется писарь, – больно здорово пьет! – на его место ты. Такая тебе планида будет.
Случилось, что к ней пришла мать одного солдата. Разговорились. Она расспросила, как на войне, я сказал, что не так страшно, как думают. Она попросила написать письмо сыну. Письмо вышло «складное», а вечером баба принесла моей матери ведро огурцов да половину пирога. Украдкой пришла девка писать письмо парню на фронт и ничего не может сказать, что она хочет, о чем письмо. С трудом допытался от нее признания: девка любит парня крепко. Тогда такое письмо ему написал, что девка смеялась, плакала и глаза у нее загорелись.
– Зря я не училась буквам, – вздохнула девка. – Чего тебе дать за письмо?
– С девок не беру, – засмеялся я, – а будет свадьба, позови.
– Рядом с крестным отцом посажу.
Поболтали, и она охотно рассказала про девичьи секреты, кто с кем гуляет.
Оказалось, что Филя Долгий вновь посылал сватать Катьку Гагарину, но ему на это ни «да», ни «нет». Катьку, слышно, сговорено отдать за Ваньку Павлова, сына маслобойщика.
– Что бы ей за Филю не пойти? – говорю я. – Парень здоровый, а она не такая уж красавица.
– За кривого, дура, не хочет.
– Л ты бы пошла, если бы твоему милому ногу оторвало?
– Хоть без рук, без ног, все бы мой.
Я внимательно посмотрел на решительное лицо этой девки. Да, такая не бросит. Мы распрощались как друзья.
Праздник Успения. Утро солнечное и удивительно свежее. Вчера вечером лил дождь, прибил пыль, очистил воздух. Улицы оживлены. Возле церкви, училища и церковной сторожки – народ. Мать просила, чтобы я сходил в церковь. Собираюсь в мазанке: начистил ботинки ваксой, крепко накрутил обмотки, нарядился в чистую гимнастерку. Чем не парень! Причесался, посмотрелся в зеркало. Сойдет!
Колокол звонит и звонит. Я туго подпоясываюсь, охорашиваюсь.
За мазанкой знакомые голоса; идут мои товарищи. Спрятался за дверь. Смотрю сквозь щель: впереди, чуть пригнувшись, шагает Филя, как жираф. На нем – почти новая гимнастерка, брюки хорошие и обут в сапоги.
– Где солдат окопался? – кричит он хрипловатым голосом. – Гляди, братцы, какой у него блиндаж.
Сзади него – Илюшка, Ванька и еще трое. Все сни вырядились, кто как мог.
– На парад, что ль, собрались? – смеюсь я.
– Смотр в церкви будет, а девичьи глаза – хуже пулеметов.
Ванька хотел что‑то сказать, но закашлялся. Один он не в солдатском, а в своем.
– Зачем штатский? – киваю на него.
– И мы говорили, – зря. Весь вид испортит.
Илюшка смотрит на мои начищенные ботинки, ухмыляется. Одет и обут он, как и я. Ба, да откуда у него вдруг кудри взялись?
– Заходите в окоп, – приглашаю гостей.
Они входят пригнувшись. Я пододвигаю только что сделанные мною скамейку и табуретку. Они садятся, и я рад, что они сели на мои изделия.
– Папиросы есть, – вынимает Филя пачку «Кузьма Крючков». – Угощайтесь.
Беру пачку, смотрю на лихого казака и, кивая на Илюшку, говорю:
– Тут надо написать: «Илья Крючков».
Илюшка поправляет чуб, смеется.
– Чем это ты? – указываю на кудри.
– Они сами вьются.
Мы хохочем. Ванька, задыхаясь, еле выговаривает:
– Вчера… на лампе… калил… гвоздь…
– Ну, ты, дохлый. Сам… гвоздь, – притворно сердится Илюшка.
Затрезвонили. Кое‑кто снял фуражки, перекрестился по привычке.
– Русское воинство, на молитву, ша–агом арш! – скомандовал Филя.
Еще раз принялись охорашиваться. Филя вынул карманное зеркальце, посмотрелся, поправил черную повязку.
– Ничего? – уставился на меня единственным глазом.
– Хорош, Филя, ей–богу, хорош.
Пошли. Филя вышагивал впереди всех величаво, медленно. Узнал ли, что Катьку просватывают? Для нее ведь он так вырядился. Илюшка почти не хромает, а я засунул руку в карман, будто что‑то держу там.
Шли мы в ногу. Особенно четко «дали ногу», входя в ограду. Все уставились на нас, как на заморских зверей.
В церкви только что началась служба. Гуськом прошли серединой церкви. Наше появление вызвало шепот. Сколько пар глаз уставилось! Будто сквозь строй проходили.
Филя победоносно поднял голову, повернул направо и встал как раз напротив девок. Я рядом с ним. Филя волнуется, мнет фуражку. Боковые двери открыты, в церкви светло, весело. Через некоторое время Филя начинает поглядывать в сторону девок. Ему это удобно с левого глаза. И мне хочется посмотреть туда же. Я начинаю молиться, низко нагибаюсь для поклона, а сам нет–нет и взгляну. Девок много, но все больше незнакомые. Видимо, подросли новые за эти годы, и не узнаешь – чьи.
В церкви движение: это вошел помещик Климов с женой. Они пробираются вперед, к алтарю. Там, за перегородкой, около правого клироса, постоянное их место. Сзади них идут два сына в офицерских погонах: старший – подпоручик, младший – прапорщик. Обмундирование с иголочки, вычищенное, выутюженное. Климовские сынки устроились у воинского начальника в канцелярии.
Идти им мимо нас. Я с усмешкой шепчу Филе:
– Не мешало бы честь им отдать.
– Отдадим, придет время, – отвечает Филя.
Глыбой движется Климов. Не пройти ему, если Филя не посторонится. Но Филя, хотя и видит девятипудовое чудовище, а уступить и не думает. Климов задел его плечом, Филя, как бы нечаянно, дал ему сдачи. Оба офицера искоса посмотрели на нас. Ни улыбки на их лицах, ни презрения, – как деревянные.
Пользуясь суматохой, я успел приметить Настю. Она меня тоже увидела и усердно принялась креститься. Усмехнувшись, я последовал ее примеру. Так всю обедню. Едва только сзади какой‑нибудь шум, я, Филя, Илюшка смотрим в сторону девок. Один Ванька ко всему равнодушен, он даже не крестится, а все пытается сдержать кашель.
Служба идет. Мы не обращаем внимания на нее. Голоса священника и дьякона знакомы с детства. Но вот началось поминовение усопших, за ними – «убиенных воинов». Убиенные выделены особо, и священник читает торжественно.
– Об убиенном воине Александре господу богу помолимся, – нараспев тянет священник.
«Санька–кузнечонок», – догадываюсь я.
– Об убиенном воине Петре господу помолимся…
«Пепка. Погиб в Мазурских болотах. Ни в школе, ни на улице никто его не мог побороть. Теперь этот здоровяк утоп. Помолимся о Пепке».
Священник все читал и читал. В церкви уже всхлипы, вздохи. Вот пошли «убиенные» из соседних деревень. Такие же молодые, как и мы.
В наступившей потом тишине, еле–еле слышно затянул хор «Со святыми упокой», и в церкви уже не одно тронутое сердце прорвалось в плаче.
Вот о нас так же мог прочитать священник. Когда начался молебен о здравии царствующего дома, мы молча переглянулись и, не сговариваясь, четко зашагали из церкви. Впереди – Филя Долгий, за ним – я.
7Долго я убеждал старосту, что нужна подвода в город, что поеду хлопотать о пенсии себе и товарищам, что Ваньку нужно показать врачу; упрямый староста ссылался на рабочее время и советовал запрячь нашу Карюху в счет очереди. До города сорок верст, а на Карюхе – только горшки продавать. Пугал старосту всячески: смертью Ваньки, жалобой старшине, – ничто не помогало.
– Хорошо! Пойду и напишу в полк командиру, как ты издеваешься над воинами. После не пеняй, – отвернулся от него.
– Постой, куда? – испугался он. – Погодь чуток. За день обернешь?
– Запоздаю. Ночую в Горсткине.
Утром рано подвода была уже готова. Постелили соломы, положили Ваньку, усадили его мать и тихо тронулись.
В дороге Ванька то вставал, то ложился, кашель Сил и бил его. Довезем ли?
К обеду приехали в город. Широкий двор больницы. В приемной обдало меня знакомым запахом йодоформа.
Дежурной сестре сказал, что привез умирающего, раненного в грудь. Сестра обещала выслать санитаров с носилками.
Я вернулся к подводе. Ванька сидел и был даже весел. Я ему наказал, как только выйдут с носилками, лечь и стонать.
– Иначе не положат в больницу. Без тебя много.
К моей радости, Ваньку оставили в больнице. Ванькина мать залилась слезами, а я принялся уговаривать ее, что тут ему будет лучше. Впрочем, плакала она не так уж долго. Наши матери теперь долго не плачут: слишком много пролито за эти годы слез. Предупредив Ванькину мать, чтобы пришла к воинскому присутствию, мы тронулись со двора.
По скрипучей лестнице вошел я на второй этаж воинского присутствия. Запах портянок, кухни, табака и карболки. Вверх и вниз сходят люди; кто пришел на переосвидетельствование, кто хлопочет о пенсии; солдатки – видимо, с жалобой о невыдаче пособия.
Не скоро нашел «стол пенсий». «Стол призыва» найти было легче. К нему дорога шире. В углу за столом – два писаря, мордастые, здоровые. Им бы только со штыком «за веру и царя», а они тут. Один из них нехотя принял мои заявления.
– Надо всем лично подавать, – сказал он не глядя.
Мне на это хотелось ответить, что он – жирная свинья, не нюхал пороху, что его работу с успехом выполнил бы и я, но промолвил вежливо:
– Мои товарищи больны. Одного сейчас в больницу положили. Видимо, умрет.
– Хорошо, – сказал писарь.
Что хорошо? Ванька умрет – хорошо? Эх, морда! Он просмотрел заявления, свидетельства о ранениях и передал их второму. Только сейчас рассмотрел я, что у второго посеребренные погоны. Прочитав, он уставился на меня пытливыми глазами из‑под очков.
– Куда ранен?
Я показал руку.
– Разрывной?
– Осколком, господин военный чиновник!
Видимо, я неправильно его титуловал. Помедлив, он сердито крикнул, не глядя на меня, а обращаясь к стоявшим кругом инвалидам:
– Что вас, – то в руку, то в ногу? Нарочно подставляете? Самострелы!
Наступила тишина. И в этой тишине тихо, но четко и злобно я произнес:
– Те, кого ранят в голову или в сердце, остаются там, ваше благородие.
– Вызовем на комиссию, – сказал он и бросил заявления.
Я откозырял и вышел из сумрачного помещения.
Домой мы приехали на второй день. Ко мне пришел Илюшка и сообщил новость: накануне вечером Катьку Гагарину просватали за Ваньку Павлова.
– А Филя как? – спросил я.
– Когда сказали ему, он бросился было бежать к Гагариным. Насилу удержали. Грозится зарезать и Катьку, и Ваньку. И он, черт отчаянный, зарежет. Утешь его. Ты ведь утешитель наш, безрукий.
– А меня кто утешит?
– Тебя? – уставился Илюшка удивленно. – Мне бы твой характер…
Он помолчал, повздыхал, закурил, в затылке почесал. И понял я его, нехитрого. Но пусть сам говорит. Выпустив клуб дыма, он пробормотал:
– Чего же теперь, друг ситный, нам‑то? – и умолк.
– Не понимаю, о чем ты, друг ржаной.
– Чего же, пойдем и мы… сватать.
Тут я всерьез посмотрел на Илюшку. Голос его дрожал. Видно, парень не шутил.
– Илюша, послушай, – начал я тихо, – что тебе сейчас далась женитьба? Девок, что ль, на твой век не хватит? За такого молодца, как ты, за сапожника… любая пойдет. Но в том‑то и горе, что ты пока еще не молодец и не сапожник. Выздоровей сначала да как следует ремеслу научись, тогда и сватай! А Козулю не отдадут за тебя. Она из богатой семьи. У вас же избенка чуть получше нашей. Охлопочем пенсию, сразу получим за полгода, купим по срубу, тогда и молодых жен можно привести.
Но он и бровью не повел. Помолчал, тряхнул головой и произнес коротко:
– Хочу жениться.
– Ну, женись, пес с тобой! – рассердился я. – Мне‑то что! Ты, наверное, думаешь так: вот женился, сапожничаешь, стучишь, а она, Козуля, сидит против тебя, смотрит–смотрит ца твою рожу, потом подойдет, погладит твой чуб и скажет: «Илюшенька, миленький, как я тебя люблю!» Так, что ль?
– Ага! – растаял Илюшка и поправил свой чуб.
– Не «ага», а жена тебе будет, как баба–яга. Работать в поле можешь? Нет. Земля есть? Нет! Изба есть? Нет! Дети пойдут? Обязательно! Э, у вас такие атаки начнутся, что от жены ты ни в одном блиндаже не скроешься. У вас даже мазанки для этого нет.
– Ничего нет, – согласился Илья, – а жениться все равно охота.
– Ладно, чучело гороховое, чтобы ты перестал мне надоедать, пойду сватать за тебя.
– Когда? – привскочил Илюха.
– В это воскресенье. Только опять говорю: не отдадут – не обессудь.
– Увидим, – сказал Илюшка и вскоре ушел.
– Петька, Петька, сынок, – слышу сквозь сон.
Я открываю глаза. Передо мной стоит мать, лицо у нее испуганное.
– Ты что?
– Чего тебе скажу, – таинственно оглядывается она: – Гришка Семакин заявился.
– Гришка? Матрос? Постой, – вспомнил я, – да ведь он… без вести… Нет, писали, утонул. Давно еще.
– Теперь, вишь, вроде вынырнул.
– Эх, обожди‑ка, а жена‑то его…
– Ну, видать, совсем ты проснулся. Послушай‑ка, что идет. Глянь чуток из мазанки.
После того как Авдотья Семакина получила письмо о том, что муж ее утонул в каком‑то море, она ушла от его родных и стала жить у своей матери. Детей не было. Работая в имении Сабуренкова, она познакомилась с одним чужедальним батраком и взяла его к себе в щом. Словом, нынешней весной батрака взяли на войну, а у Авдотьи родился сын. И вот теперь… как мать говорит, «вынырнул» матрос, буйный Гришка, гармонист… По нем даже священник панихиду служил, за упокой его беспокойной души…
Наскоро одевшись, я приоткрыл дверь мазанки. До меня донеслись отчаянные вопли, хриплая ругань, стук и треск.
– Как бы не поджег, – шепчет мать, – в одну чась сполыхнет улица.
Осторожно выглядываю. Мимо торопливо идут люди, пробегают ребята.
Мать нетерпеливо подталкивает меня. Раньше не пускала, если были скандалы, а теперь… ей и самой, конечно, хочется пойти, да стыдно – стара стала. Если бы кума Мавра подвернулась… И мать осматривается, нет ли где неразлучной ее подруги, но она уже, наверное, там. Разве любознайка Мавра пропустит такой случай!
– Иди и ты, – говорю я матери. – Возьми ведро, за водой будто, а сама задержись у колодца.
Вой, крики, ругань и грохот все усиливались. Я зашагал вдоль изб. Пришел в самый разгар свирепого буйства Гришки–матроса. Он топором ломал и коверкал худые дощатые сени своей тещи. Трухлявые доски летели от Гришкиных ударов мелкими щепками в разные стороны. Он все бил и бил в них то лезвием, то обухом и все ругался, рычал, ревел. Рубаха, на нем была располосована: видимо, он с нее и начал. А потом уже, – переколотив посуду, выбросив самовар из окна, – принялся за эти сени.
Что он кричал, не разобрать. Слышалась одна матерщина, сложная, матросская. Вблизи Гришки никого. Один воевал.
Скоро от сеней остались лишь верхние доски.
– Все вдребезги расшибу! – грозил он кому‑то. – Все сожгу! Спалю этот… – и он выкрикивал такое слово, которое немногим было понятно.
Кроме ребятишек, никому не было весело от этого зрелища… Взрослые угрюмо и настороженно наблюдали издали за Гришкой и, видимо, опасались, как бы он, обезумев, в самом деле не подпалил избенку.
Насмотревшись на его буйство, я пошел к мазанке, возле которой сидели бабы и мужики. К моему удивлению, в мазанке я увидел Дуню, жену Гришки. Она сидела на ступе, перед раскрытым, почти пустым суп–дуком. Возле нее – куча рваного и рубленого тряпья. Оказывается, Гришка успел поработать и тут.
Дуня не плакала, – она сидела неподвижно, как окаменелая. Загорелое лицо ее теперь было синее, как кремень; на щеке царапина, глаз подбит. Отделалась легко. При своей силе Гришка мог бы одним ударом свалить ее и, пожалуй, убить, но, очевидно, рука у него не поднялась на Дуню. Она, стиснув зубы, смотрела куда‑то в сторону и на все утешительные слова, па которые так щедры бабы, ничего не отвечала. О чем она думала? Как ни велико было ее несчастье, она, видимо, не осуждала Гришку в душе: нет–нет, да и взглянет в его сторону, и в глазах ее сострадание и жалость. Кто‑то советовал ей уйти от греха подальше, но она молча качала головой…
Я помню их свадьбу, помню, как они жили. Крепко любили друг друга, жили хорошо. И сколько бы радости принес он, воскреснув из мертвых! Но вот… карты перепутаны.
Гришка все буйствовал. Он рубил угол сеней – дубовое бревно. В бревне много гвоздей. Он бил, не разбирая, и по гвоздям. Лишь искры да щепки сыпались.
Говорят, мальчика унесла куда‑то Дунина сестра. Его Гришка не тронул. А ведь ребенок был у матери на руках. Они мирно сидели за столом, завтракали. Вдруг вваливается Гришка. О том, что случилось с его Дуней, он, вероятно, узнал еще раньше, иначе не ворвался бы в избенку разъяренный, не опрокинул бы стол. Тихое мирное житье сразу нарушилось грохотом, бранью, побоями…
Подходит Илюшка, усмехается. Мне он противен сейчас. Чего щерит зубы? Он заговаривает со мной, я не отвечаю. Я весь поглощен тем, что вижу.
Не переставая, Гришка все еще бьет и рубит. С него давно льет пот, на лбу кровь. Видимо, ударило щепкой. Нет, кажется, уже притомился. Удары не так сильны и яростны. Иногда остановится, отдохнет и как бы ищет, куда ударить, но опять бьет по одному месту, почему‑то по сучку. Топор звенит, дубовый сучок мелко крошится, а сверху сыплется мусор, содома, пыль и гнилушки.
– Э–эй! – закричали ребята, которые ближе всех стояли к Гришке, – топор слете–ел!
Сгоряча Гришка не заметил этого. Он бил одним топорищем, от которого скоро почти ничего не осталось. И только тут Гришка в недоумении остановился. Что такое? Руки в крови, держит какой‑то обломок. Посмотрел на изуродованные, обнаженные сени, где виднелись куриные соломенные гнезда, на грабли, лопату, – посмотрел на все это матрос Гришка, и вот топорище выпало из рук, он зажмурился, тихо опустился на землю, низко склонил голову и беззвучно зарыдал, затряс курчавой большой своей головой.
– Плачет, – тихо сказал кто‑то сзади меня.
Я обернулся и взглянул на Дуню. Она тоже услышала это слово. Широко открытыми глазами она смотрела теперь на Гришку. Вижу, как, не сводя с него глаз, она медленно встает, поправляет кофту и, забыв про растрепанные свои волосы, идет. Ей уступают дорогу, провожают испуганными взглядами, и никто – ни слова. Даже ребята замерли. Страшная нависла тишина. Гришка сидел попрежнему, все еще вздрагивая плечами. Каждого проняла дрожь, пока Дуня подходила все ближе и ближе. Многие затаили дыхание, отвернулись…
Не дойдя шагов трех, она бросилась перед ним на колени, и душераздирающий вопль огласил улицу:
– Гриша, Гришенька!.. Прости ты меня, миленький мой!
Она ползала, обхватывала его ноги, прижималась к пропыленным ботинкам и вот уже склонила голову к нему на колени, продолжая причитать.
Но Гришка попрежнему сидел, только плечи еще сильнее поднимались. И вот уже взяла она его окровавленные руки, целовала их.
Сначала всхлипывания, затем тихий плач, затем рев раздались вокруг меня. Это заголосили, не выдержав, наши бабы. Горячие, тугие клещи схватили меня за горло, и непрошенные слезы застлали глаза. И я, солдат, не однажды видевший смерть, тоже плакал. Мне не было стыдно. И никому не было стыдно.
8Два грамотея – отец и я – сидим в амбаре. У меня на коленях давнишняя, старая тетрадь отца. В нее он записывает приход и расход. Страницы, где записан расход, давным–давно обогнали страницы прихода, так что левая сторона пуста. Удивительно ровным почерком, без нажимов, записывает отец все до копейки. Все расходы по хозяйству, в пудах, фунтах, мерах картофеля. Долги у него разнообразные. Вот графа – подати и недоимки, графа – в кредитное товарищество, графа – в лавочку Блохину и Бурушкину, еще графа особая – разным лицам, чужим и родным: кому деньгами, кому рожью, мукой, пшеном и даже чечевицей. Чечевицу брали у Гагары. Долг священнику за что‑то, долг дьякону – брали пуд яблок, еще старому дьякону за поношенные сапоги. В кузницу долг, за пастушшо, за страховку… А это что? Это «необходимые покупки» записаны. Надо купить сбрую, начиная с хомута, колеса, – все четыре, дугу, станок телеги. Еще тут разная посуда, обувка, одежда и прочая, и прочая. Голова у меня закружилась.
Отец взял у меня тетрадь, медленно ее листает, подолгу думает, и видно, что ничего у него не получается. Посмотрев на меня узкими глазами, улыбается и предлагает:
– Понюхаем, сынок?
– Что ж, тятя, только и остается понюхать, – и я киваю ему на сусеки.
Он понимает меня и говорит свое вечное «ничего». Стукает по широкой, толстой от мозолей ладони горлышком пузырька из‑под эссенции и протягивает мне табак. Нюхаем: отец медленно, с отдыхом, а я сразу. И тут же, к великому удовольствию отца, я начинаю чихать.
– Мышей распугаешь, – говорит отец, – будь здоров!
Кладет на счетах, сколько намолотили ржи, записывает, множит на рубли, потом сколько овса, проса. Вычисляет, кому отдать долг, весь или «попросить подождать», а там неотложные подати с недоимками, кредитка, страховка. Лавочникам – не весь долг, упросить можно, попы тоже подождут. Седелку и дугу надо купить обязательно, кузнецу отдать – в другой раз лучше не суйся. И пошло, и пошло…
– А изба? – спрашиваю его.
– Что изба?
– Она же вот–вот придавит нас. Надо ее чинить или новую.
Отец безнадежно вздыхает и даже улыбается. Ви димо, изба ни в какие его планы никогда не входила.
– Корову по боку? – спрашивает он.
– Зачем корову!
– Телку? Ее и так продавать. Она в кредитку замычит.
Отец качает головой и опять, теперь уже один, нюхает и нюхает поспешно. Стало быть, волнуется.
– Пенсию мне будут выдавать, – утешаю его. – Мишке напишу, он писарем в штабе, – поможет. Там на себя где‑нибудь займу, – мне‑то дадут, – вот и сруб.
Отец оживился. Думает: «Слава богу, сын взялся». И уж сам расщедрился:
– Куда ни шло, сынок, две четверти овса при ложу. Изба у нас… до первого ветра, – снесет.
И начались наши мечтания. Домечтались до того, что и телку надо «пихнуть» в избу, а избу поставит нам дядя Федор, брат матери, плотник. Только где готовый сруб подыскать?
Начали гадать, сколько будет стоить новый, если купить на станции, и сколько, если попадется где‑нибудь у мужика. Я пошел дальше. Как ни плоха наша изба, из нее три стены, гляди, выйдет. Поставить на глину.
– Вот и пятистенка у нас, – торжествую я и уже представляю свой дом.
– На глину можно. Глина удержит, – соглашается отец. – Глина, она, сынок…
Но он не договорил. Дверь в амбар распахнулась, и показалось испуганное лицо матери.
– Эй, ты, чего сидишь? Не слышишь, что там идет? – и она указала по направлению к улице.
– Пожар, что ль? – вскочил я первый..
– Похуже, Петя. Скотину на войну забирают. Рев‑то слышишь?
Рев действительно слышен. Я и раньше его слышал, но думал – стадо пригнали.
Идем с матерью домой, отец торопливо запирает амбар и спешит за нами.
– Ведь у нас‑то не отберут? – говорю матери.
– Телка так и ухнет. Я Ваське велела ее на гумно гнать. Вон она, – указала мать.
Телка была не на гумне, а в коноплях, в борозде. Туда загнал ее Васька.
– Что же, даром они отбирают? – спросил я, так как при мне еще не было этого.
– Казенна расценка, – сказала мать, а у самой зуб на зуб не попадает.
Вообще‑то мать боится всякого начальства, а тут даже, как она говорит, «два с ружьями».
– Да не бойся ты! – успокаиваю мать, но меня тоже трясет.
Вдоль улицы ехали две подводы. Сзади к телегам были привязаны несколько коров и телок.
Двое военных, староста, писарь, еще один в штатском и двое понятых шли вдоль изб. Впереди – писарь. В руках у него список.
Останавливались не у каждой избы. Сейчас задержались у Никишиных. Старик вышел босой и сразу начал что‑то кричать, размахивать руками, но со двора уже выводили телку. Ее начал ощупывать незнакомый толстый человек.
– Сколько? – спросил его военный.
Не задумываясь, тот ответил:
– Семнадцать.
Старик снова принялся размахивать руками, кричать. Но военный тихо и ласково ответил ему:
– На войну берем, старина. Солдат надо кормить!
– У меня двое воюют, – прохрипел старик.
– Вот им и пойдет.
– Мне тридцать дает лавочник.
– То лавочник, а то казна.
– Дурак – не отдал! – воскликнул старик со слезой.
– Не умен, выходит, – согласился тот.
И оба военных весело рассмеялись.
Мать стоит в двери и дрожит, будто ее лихорадка треплет. Отец рядом со мной. Он без шапки. Лысина его блестит на солнце.
– Тятька, – шепчу ему, – я буду с ними говорить.
Быстро бегу в мазанку, надеваю на шею косынку, кладу в нее руку.
Вот они все ближе, ближе. Пройдут или остановятся?
– Здорово, солдат, – не доходя, говорит писарь. Я отвечаю. Он кивает на руку: – Болит?
– Да, не заживает.
Еще что‑то хотел он спросить, но уже подошли все. Я смотрю на военных. Один из них унтер, второй – прапорщик.
– Здравствуй, – говорит прапорщик тихо.
– Здравия желаю, ваше благородие, – отвечаю я не спеша.
– Давно с фронта? Что с рукой?
Вынимаю из косынки руку, показываю. В глазах его пробегает не то сочувствие, не то брезгливость.
– У них телка, – вдруг выпаливает староста.
Прапорщик смотрит на старосту, потом опять на меня. И не старосту, а меня спрашивает:
– Это ваша изба?
– Да, наша.
– Как вы в ней живете?
– Я ночую в мазанке, а остальные в сенях.
Плохо живете, воин. У вас есть лишний скот?
У меня ноги задрожали.
– Телушка есть, верно. Только, ваше…
– Самим нужна?
– На избу мы ее хотим продать. Телушка‑то дрянь.
Мать вышла. Лицо у нее синее, губы почернели.
– Господа хорошие, не отбирайте. Люди знают, как живем‑то. Ранетый вот, да на войне трое, да пятый готовится, – сразу выпалила мать.
Офицер удивился и спросил старосту:
– Правда?
– Вся семья – сплошь солдаты, – ответил староста.
– До свиданья, солдат. Поправляйся, – сказал офицер.
Не помня себя от радости, я быстро ответил:
– Спасибо, ваше благородие.
Офицер, отойдя, оглянулся на нашу избу, покачал головой и что‑то стал говорить старосте.
– Вот, мамка, – чуть не кричу я матери, которая все еще дрожит, – чудо‑то какое. Гони телушку во двор. Откармливай, и не будем ждать второй реквизиции.
Я решил, что телушку спасла моя рука. С нежностью вынул я ее из косынки.
Неожиданно подвернулась мне работа. Вот уже несколько дней, как мать и отец ходят на поденную к дьякону – молотить овес. Прибегает мать с тока и, запыхавшись, идет ко мне в мазанку, где я, по примеру Фили, тоже взялся починить иконостас.
– Петя, дьякону снопы возить с поля… Ты бы с Васькой мог? На телегу накладывать сумеешь?
– Лошадь чья? – спросил я, боясь своей Карюхи.
– Дьяконова. Он хотел Селиверстова парня позвать, а я ему и намекни про тебя. Как, можешь?
– Конечно, – обрадовался я.
– Тебе и Ваське по полтиннику. Рупь на день. Мне – семь гривен, отцу – рупь. Это дьякон‑то жалеючи нас. Охотников много. А он по отцу жалеет. Ведь лысый‑то наш дружит с ним, на клиросе, как теленок, мычит. И я дьяконице угождаю, белье стираю. Они вроде благодетели!
Я бросил работу, надел холщовую перчатку, сунул ломоть хлеба в карман и отправился с матерью к «благодетелям». На току у дьякона я этим летом еще ни разу не был.
У попа, у дьякона и у псаломщика тока рядом. Между ними огромные клади ржаных и овсяных снопов. Особенно много их у попа. У дьякона меньше, у псаломщика совсем мало. Клади попа высокие, как трехэтажные дома, ровно выложенные. Так и хочется оштукатурить их глиной.
Молотьба идет вовсю. У попа гудит конная молотилка, работают человек двадцать, у дьякона – в восемь цепов. Молотить в восемь цепов очень трудно Цепы бьют, словно пулемет.
Возле сарая дьякон осматривает веялку.
Ко мне подходит Дьяконова дочь, красивая белокурая Соня, пристально смотрит на меня, на мою руку и певучим голосом спрашивает:
– Больно было?
– Не совсем, – говорю.
– Скажите, как это получилось?
– Да очень просто: хвать, и нет руки. Ерунда. Соня, вы не волнуйтесь.
Сказав «подождите», Соня убежала. Скоро она вернулась, неся что‑то в фартуке.
– Возьмите, в поле пригодится.
Ба, да тут штук десять яблок! И еще каких! Сахарная бель!
– Спасибо, Соня. Очень много.
– Братишке дайте.
– Всем братьям хватит.
Васька уже подвязал чересседельник, ждет меня ехать. Он не подходит к нам, стесняется Сони.
Мы с ней стоим за кладью. Нас не видит ни се отец, ни молотильщики.
– Спасибо, – еше раз говорю я, рассовывая яблоки по карманам.
Но она не уходит.
Вдруг вижу, она краснеет и, чуть отвернувшись, тихо говорит:
– А не забыли, как мы играли вместе?
Я тоже краснею.
– Да, помню, – срывающимся голосом говорю ей. – Мы с вами… играли, кажется… в жениха и невесту?.. По скольку лет тогда нам было?
– Вам… двенадцать, мне… одиннадцать.
– Вот, Соня, какие мы были глупые. Теперь вы совсем невеста.
– А вы жених.
– Конечно, по годам и я жених, только никчемный, – говорю я, не глядя на нее. – Ну, Соня, надо ехать. Я снопы взялся вам возить.
– Что к нам не зайдете? – спрашивает она.
– Зайду. Давно ученье кончили?
– Только что, этой весной.
– Работать где будете?
– Прошение подала. Учительницей в нашу школу.
– Это хорошо. Попрежнему увлекаетесь книгами?
– Хороших нет.
– У меня кой–какие есть. Зайду, принесу, – обещал я.
Васька окликнул меня. Сели на телегу, сытая лошадь сразу пошла рысью.
Участок поповской земли занимал огромный скат к оврагу. Это самая лучшая земля в поле. Она в общий передел не поступала, а когда отрезали мужикам отруба, ее совсем закрепили за духовенством и по краям поставили столбы с выжженными буквами Ц. 3. – церковная земля.
Возки снопов хватило на восемь дней. Значит, мы с Васькой заработали по четыре рубля. Все же на что‑то я пригоден!
Как‑то шел я переулком из амбара домой. Слышу, кто‑то окликает меня. Голос знакомый, но откуда? Не из сада ли? Сад дьякона через два огорода. Изгородь его заросла вишней, диким виноградом, лопухами, крапивой.
– Соня! – кричу я, увидев ее лицо сквозь заросль.
– Идите сюда! – певуче говорит она. – Книжки захватите.
Я бегу обратно в амбар, наскоро беру из заветного сундучка несколько книг и… уже перемахнул через вал, там огородами, коноплей. Оглянулся – никого. И так ловко нырнул под старые, заросшие крапивой ворота, что даже не обжегся. Как тут хорошо в саду! Сколько еще яблок!
– Что принесли? – схватилась она за книги. – Фенимор Купер! А это? Короленко! Ага, и «Антон Кречет»!
Восторженно, словно девочка, запрыгала она с моими книгами. Стройная такая, чистенькая, румяная. А мне стыдно и боязно. Вдруг придет сюда ее отец или мать.








