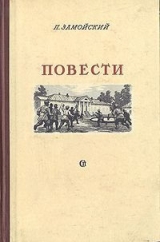
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
Молодость


– Улицей ехать или гумнами? – спрашивает дядя.
– На гумнах народ, – говорю я и киваю на руку.
Дядя догадывается, сворачивает на другую дорогу.
При въезде в улицу снимаю с плеча косынку, кладу руку на колени так, чтобы не видна была повязка. Уже кое‑кто встречается, узнают, здороваются. Я сижу, искоса поглядывая в сторону нашей избенки. Она все ближе и ближе. Вон колодец, погнувшаяся верея, на ней два колеса.
Вдруг из сеней избы выскочил парнишка и стремглав понесся нам навстречу. Выбежав на дорогу, со всего размаху шлепнулся в пыль, быстро вскочил и, не отряхиваясь и крича неизвестно кому: «Братка едет, братка!», устремился к нам. За ним бежала сестренка.
– Остановись, дядя, – сказал я.
Мой самый маленький, любимый братишка забирается на телегу. Он загорел, а волосы совсем белые. Он сидит рядом со мной, и я слышу, как у него трепетно, словно у воробышка, бьется сердце. Сзади уселась сестренка, и мы тихо подъезжаем к избе.
– Приехали, – говорю я и спрыгиваю с телеги.
Обнимаю братишку, целую его, и слезы выступают у меня на глазах. Дядя принимается отпрягать лошадь. Ребята мчатся на гумно. Я беру корзину…
Гудение мух встречает меня в избе, кислый запах, духота. Изба совсем обветшала: потолок провис, половины пола нет, доски гнилые. Протягиваю вверх руку. Достаю не только до матицы, но и до потолка, – так он низок.
Дядя с кем‑то говорит. Смотрю в окно: возле дяди соседка Елена, Устюшкииа мать, моя «нареченная теща». Едва еще я только стал помнить себя, как мать и Елена не то в шутку, не то всерьез уговорились породниться и с тех пор звали друг дружку «свахами». В детстве я очень стыдился этого, да и сейчас испытываю неловкость. А она – длиннолицая, противная баба, – разговаривая с дядей, украдкой бросает взгляд на окна, хочет, видимо, посмотреть, каков «зять», но я прячусь в простенок. В избу она войти не смеет. Знает, что не люблю я Устю, а ее, Елену, совсем терпеть не могу.
– Какого привез? – громко спрашивает она дядю.
– Героя! – кричит тот в ответ.
– Вона! – удивляется «теща», – а, говорят, он совсем без руки?
Еще кто‑то подошел к дяде. Слышу мужской старческий голос. Узнаю Матвея, свекра Елены, доброго старика. Он совсем уже сутул, борода у него такая же большая, как и была, но седая. Собравшиеся у входа в избу ребятишки направляются в сени, но старик гонит их. Все ждут, когда придут наши с гумна. Вот умолкли разговоры. Смотрю на дядю, а он глядит туда – за избу: значит, наши идут.
Сажусь в простенок. Дух захватывает, сердце учащенно бьется. Сижу, как прикованный. Отчетливо слышу, сердцем чувствую шаги матери. Они ближе и ближе. Зажмуриваюсь, вижу ее походку, ее лицо. Смогу ли улыбнуться при встрече или расплачусь? Много в нашей семье плакали, много плакал и я. Но теперь сердце мое зачерствело, в нем только жгучая тоска.
– Бра–атка при–е-еха–ал! – снова оповещает мой белокурый братишка.
Сколько радости в «го голосе! Будто и невесть случилось… Мать идет мимо окна не торопясь. Не г, она торопится, это видно по ее порывистой походке, только вот ноги… Я знаю – от испуга у нее всегда, как она говорит, «отнимаются ноги». И сейчас, конечно, «отнялись». Она идет, чуть покачивая головой, вот она уже в сенях, слышно, как она ищет и не может найти скобу. Дверь отворяет Матвей. Он пропускает мать, идет сам, за ним – дядя, братья, еще кто‑то, потом Елена и орава ребятишек. Туман в глазах. Сквозь туман вижу лицо матери. Встаю, иду навстречу. Пытаюсь улыбнуться, но у меня, видимо, слишком горькая улыбка. Она тоже рада, но и у нее такая же улыбка на пыльном лице.
– Здравствуй, мама, – говорю я и не слышу своего голоса.
Она подходит ко мне, глаза ее полны слез, и мы молча целуемся. Я чувствую ее горячие слезы на своем лице. Мы целуемся три раза, и вот ее седая голова падает мне на грудь, раздается тихий протяжный стон… У меня нет слов, чтобы утешить мать. Чувствую, скажи я ей хоть что‑нибудь – и сам разрыдаюсь. Только слышу, тихо шепчут ее губы:
– Петя, сынок, Петенька…
– Будет, – говорит дядя и бережно отводг. т мать. – Живой приехал.
Она смотрит на меня измученными серыми глазами. Я вижу, сколько она затрачивает сил, чтобы не закричать в голос. Знает, – мне и так тяжело. Она отходит к печке. Я здороваюсь со стариком Матвеем. Он крикливо спрашивает:
– Егорий где? Крест где?
– Посылкой пришлют, – притворно весело говорю я.
– Видать, громадный?
– Пудов на семь.
Здороваюсь с Еленой. Она испуганно смотрит на меня и не называет, как раньше, «зятек», а говорит «Петя». Я что‑то говорю ей, здороваюсь с остальными.
– Ба–атюшки, а этих откуда столько набежало! – восклицает Елена и энергично выталкивает ребят за дверь.
Входит отец. Слышу знакомый его кашель. Кряхтя, медленно вытирает руку о штанину. Я жму его толстую ладонь. От отца густо пахнет нюхательным табаком.
– Приехал, сынок?
– Так точно, отец.
И никто не спрашивает о руке. Она у меня не в косынке, а просто висит, как плеть. Мне больно, ее тянет, будто держу гирю, но креплюсь.
Мать, отец и дядя о чем‑то шепчутся. Я сижу со стариком Матвеем. Он курит трубку и без умолку болтает. Мне очень хочется курить, но как сделать при всех папироску? Брат Николай принес воды, мать принялась за самовар. Николай вышел поискать чурок. Выхожу и я в сени. Брат усердно разбивает топором старое колесо. Оглянувшись, подаю кисет.
– Сделай‑ка себе и мне папироски.
Во дворе, где никого, кроме кур, нет, он делает две цыгарки. Я закуриваю и опять иду в избу.
Скоро закипел самовар, а на столе уже появилась говядина, курники с капустой, огурцы и даже тарелка и вилка. Догадываюсь, – кое‑что принесла соседка Елена. Она все таинственно поглядывает на меня, то и дело косит глаза на мою руку. «Ну, – думаю, – ничего ты не увидишь, нареченная теща, забинтовано! Что там, – тебе неизвестно».
Хитровато ухмыляясь, входит отец, передает что‑то матери, шепчет и, потирая руки, направляется к Матвею. Старик подмигивает отцу, оба тихо смеются. Догадываюсь: отец где‑то достал самогона или бражки.
Белокурый братишка так и не отходит от меня. Трется головкой о колени, словно ласковый котенок.
– Кренделька хочешь?
– А то разь нет? – удивляется он такому вопросу.
Открываю корзинку, вынимаю связку кренделей. Глазенки у него разгорелись. Когда он видел крендели? Раз в год привозит отец с базара, когда рожь продаст на подати.
– А сахару? – спрашиваю братишку.
– Сахар у нас есть.
– Настоящий, белый, – говорю я.
Сахару у меня целый кулек, я накопил его в лазарете за четыре месяца.
– Мамка, возьми сахар и чай. Чай плиточный. Скоблить надо ножом.
К матери подходит Елена, шепчет:
– Какой заботливый!..
За стол уселись все, кто был. По рукам заходила чашка с самогоном. Мне подали в отдельной чашке. Я чокаюсь, но не пью.
– Ты что же? – удивляется мать.
– Он какой‑то…
– Думаешь, горелый? Нет, это… как его зовут? – спросила мать.
– Перегон, – торжественно заявил Матвей. – Из самогона перегоняют.
Дядя пояснил:
– У в а с мастера. Вашу самогонку к нам в трактир привозят.
И начался разговор, кто первый открыл такое ремесло.
– Про войну расскажи, – попросил меня старик, – как ерманцев били.
– Мы с австрийцами.
– Хорошо дерутся?
– В плен все норовят.
– Что же так?
– Штык наш пугает их. У них штык, как нож, его надо еще надеть, а у нас все наготове. Сразу и стреляй и коли.
И я начал им рассказывать, как бились мы то с австрийцами, то с немцами. У моих слушателей от удивления глаза блестели.
– Ма–а-тушки, – вдруг испуганно протянула мать, – куды мне теперь деваться‑то? Агафья идет.
Я быстро вышел из‑за стола. Как мы забыли про нее, про эту старуху, вдову, лесную сторожиху. Ведь у них, у бездетных, я почти до десяти лет жил как приемыш. Она меня и в училище отвела, от нее первой я услышал сказки, которые она такая мастерица рассказывать. Нет, непростительно, что забыли ее позвать.
Мать все причитает:
– Ах, грех какой! И совсем–совсем из головы…
А старуха Агафья, теперь уже сгорбленная, подслеповатая, идет торопливо и строго, опираясь на клюку. Лицо у нее сердитое.
– Держись, Арина, – сказал Матвей. – Сковородником тебя вздует.
– И надо, надо меня, дуру, – согласилась мать.
Агафья вошла в сени, а я уже стоял посредине избы, готовясь отдать ей рапорт.
– Спрячься за голландку, – крикнула мать, – скажем, не приехал!
Мать сделала вид, что ничего не случилось, что просто сидят и пьют чай.
Я стою за голландкой. Тревожно и радостно бьется сердце. Я люблю эту строгую, но добрую старуху.
Дверь открывается широко, настежь. В избе все стихает. Только слышится частое тяжелое дыхание Агафьи. Ни с кем не здороваясь, ни к кому не обращаясь, она строго спрашивает:
– Где?
Молчание. Удивленный вопрос матери:
– Кого ты?
– Н–ну, Аришка, совсем в тебе совести нет. Куда спрятали?
– Про кого ты, бабушка? – опять удивляется мать.
– Окаякна сила! – сквозь зубы говорит Агафья и, вздохнув, произносит: – Здорово живете!
Матвей так и покатывается от хохота.
– Вот ловко! Отчитала, не молясь, а теперь «здорово живете».
– Клюшку жалко, – так бы и обломала, – указывает она на мать.
Выждав, когда старуха поворачивается ко мае спиной, я выхожу из‑за голландки, становлюсь во фронт и торжественно рапортую:
– Ваше величество, Агафья Михайловна, честь имею явиться. Рядовой сто шестьдесят девятого Нозо–Трокского полка, четвертой роты, третьего взвода. Совсем и навсегда по чистой в отставку!
Агафья испуганно вздрагивает, оборачивается и стоит передо мной и что‑то шепчет синими губами. Такое у нее хорошее лицо. Вдруг бросает грозную, выше ее роста палку, закрывает глаза, и я ловлю уже падающую старуху обеими руками.
– Петя, мну–учек! – и слезы текут по ее глубоким морщинам.
– Бабушка, что ты? Что ты?
И вдруг страшно, душераздирающе закричала мать:
– Родима ты моя баушенька!.. И чего он теперь без руки будет де–елать?!
Я отпрянул от бабушки. Уставился на мать. А тут еще захныкала нареченная теща, заревели братишки и сестренки. Вой, которого я так боялся, возвращаясь из лазарета, наполнил нашу избенку.
– Да вы что? А? – вдруг вскрикнула старуха. Она теперь стояла посреди избы, почти выпрямившись, когда‑то мощная и властная женщина. – Ну‑ка, дайте палку!
Подошла ко мне размашисто, похлопала по плечу и выкрикнула:
– Орел! Эка, гляди! Небось не на воровстве руку отшибло. Голова‑то у него цела? Грамота далась ему? Писарем будет!
Как я ей был благодарен!
А она подошла к матери, взяла ее за руку и указала на меня:
– Твоя надежда. – Обвела гостей глазами. – Ну‑ка, налейте старухе.
Мы сидим рядом с ней. Мы веселы, и она, как и прежде, много говорит, смеется, расхваливает меня.
Старая моя подруга!
2Усталый, расстроенный и в то же время радостный, лег я в мазанке на кровать. На улице стемнело, затихло; ни у кого нет огней. Огромное село будто вымерло. В мазанке различные запахи. Дубовые веники висят на перекладине, старая кудель в углу, свежая ржаная солома только что набита в большой мешок, на котором я лежу, разный хлам валяется на земляном полу… Не спится мне… То вспоминаю похожую на черепаху трактирную хозяйку, у которой служил, ее толстого, неуклюжего мужа с багровой шеей, то «гостей» за столами; пастушескую жизнь свою вижу, нищенство – хождение с сумой по селам и деревням… Наконец, короткую солдатчину, туманную осень, казармы, фронт, рев орудий, сокрушающие взрывы.
Рука стала еще тяжелее. Она зудит и ноет. Я прижимаю ее к груди, как ребенка. Явственно чувствую не только пальцы на ней, но даже ногти на пальцах. Мне еще в лазарете снилось, что пальцы у меня все целы, но сильно стянуты перчаткой. Снилось… да!
Слышу, как тихо скрипит дверь и, не открывая глаз, догадываюсь, что вошла мать. Она стоит долгодолго, потом подходит и покрывает меня еще чем‑то… Когда она ушла, – не слышал. Заснул…
Казалось, только что уснул, как снова открывается дверь. Вприщурку смотрю, кто вошел. Братишка. Беленький барашек! Он нагнулся, смотрит под одеяло. Видит, что я приоткрыл глаза, и жмется, ласкается, гладит мне голову. Я совсем открываю глаза, а он уже улыбается и спрашивает:
– Проснулся?
– Да, проснулся, Сема.
Я встаю, неумело одеваюсь одной рукой. Мать подходит к двери. Увидев Семку, сердито спрашивает:
– А ты что?
Братишка улыбается. Вынимает из‑за пазухи два яблока, протягивает мне.
– Где взял? – спрашиваю его.
– Дьяконова Соня дала.
– Вот это возьми себе, – возвращаю ему яблоко получше.
– Иди завтракать, – говорит мне мать. – Тут к тебе Илюха приходил. Чуть свет приперся. Не пустила.
– Надо бы разбудить.
– А чего делать?
– Молотить, – сказал я матери.
Она усмехнулась и притворно весело проговорила:
– Намолотился, сынок!
В сенях на столе мне собран завтрак.
– Урожай какой? – спросил я мать.
– Урожай? Сам шел, видел. Только ведь земли‑то… испольной одну десятину, и то кое‑как осилили. Лошадь плоха.
Лошадь, купленную без меня, я еще не видел. Вспомнился наш мерин, совершенно белый, как серебро. Оказывается, он сдох.
– Петя, я пойду на гумно. Если опять есть захочешь, там в печке… Семка, возьми кувшин, неси на ток воды.
Когда братишка уходит, она таинственно спрашивает:
– Это чего же у тебя с рукой‑то?
– Пока не совсем зажила.
– Пальцы… как?
– Пальцы… – мне не хочется говорить матери правду. Я весело добавляю: – Голова‑то цела?
– Ну, ничего, – вздыхает она, – вздумаешь, на гумно приходи.
Вынимаю из корзинки бинт, марлю. Рана еще не зажила, но уже туго обтягивается свежим покровом ткани.
«Буду носить перчатку», – решаю я.
Бинтую руку крепко, помогая себе зубами, надеваю косынку и кладу в нее руку, как в футляр. Убираю со стола, подметаю в сенях… а что дальше? Что мне делать теперь дома одному? Тоска охватывает меня. Хочется на люди. Ведь я все время был словно в огромном муравейнике. А тут так тихо и одиноко.
Сепи такие же ветхие, какие и были давно, гнилушек стало еще больше. Крыша съехала набок вместе со стропилами, а в середине опустилась. Не крыша, а соломенное огромное седло.
«Охлопочу пенсию, найму поправить крышу, – решаю я, – а кое‑что и сам сделаю. Одной рукою. Левой придерживать буду. Ничего, не робей, Петька… Пойду‑ка на ток».
Едва открыл сенную дверь, как навстречу Илюшка.
– Здорово! – кричит он. – Явился, защитник царя и отечества?
– Здравствуй! А ты, как видно, успел уже отделаться? Куда тебя ударило?
– Во, брат, чуть не в самый грех, – и он показал на пах. – А тебя?
Я ему рассказал.
– Ну, это не страшно. Ваську Зайца, слыхал? Убили.
– Хороший был парень!
– Да, брат. А Ваньку в грудь садануло. Он хотел к тебе прийти. Пепка в болоте, слышь, завяз.
– Пепка? Такой богатырь? В болоте? – вздохнул я.
– А вон и Ванька ползет. Кашляет здорово.
Илюшка, опираясь на костыль, с трудом передвигается к двери и весело кричит в улицу:
– Эй, Ванек, ходи веселей! Тут батальон инвалидов.
В ответ ему хриплый кашель. Мы идем навстречу. Молча целуемся. Он улыбается, бледный, постаревший. Тяжело дышит. Усаживаю его, предлагаю чаю. Еле переводя дух, отмахивается, все еще улыбаясь.
– Вчистую?
– Да, расквитались, – говорю.
– Теперь только жениться, – вставляет Илюха.
Ванька рассмеялся. У него хорошие ровные зубы.
– Этот черт… все жениться… метит.
– Женюсь, ей–богу, женюсь! – встрепенулся Илья и костылем пристукнул. – Я уж, братцы, приглядел. Эх, девка добро!
– Чья, скажи?
– Боюсь, перехватишь.
– Я – хороший тебе товарищ, дурак ты эдакий.
Некоторое время мы сидим молча. В сенях, на улице тихо. Лишь с гумен слышен шум. Где‑то гудит конная молотилка, – у попа на току или у Гагары. Ритмично, дробно бьют цепы, словно пулеметы за горой.
– Пенсию хлопотали? – спрашиваю я их.
– Как ее хлопотать? Вон солдаткам пособия три месяца не выдают. Староста денежки куда‑то спустил.
– Он, слышь, просчитался, – говорит Илюшка. – Кому‑то передал, кому‑то недодал. Он – неграмотный.
– Большой грамоты не надо… чтобы корову себе купить.
– Пойдемте в лес. Там повеселее, – предложил я.
Лес от нас недалеко, мелкий дубняк и осинник.
Когда‑то был крупным, сторожил его муж Агафьи, высокий старик Тимофей. Каждая тропинка, каждый куст в этом лесу мне знакомы. По старым пням восстанавливаю в памяти деревья. Семь лет тому назад лес был продан трем богатым мужикам, сведен ими и вот теперь порос молодняком.
Мы уселись в тени. Безумолку болтали о фронтах, – кто где был, о девках, о работе – кто на что годится.
Я лег вверх лицом. Сквозь листья виднелось голубое небо, а в нем, как нити, сухие неподвижные облака. Ванька все покашливает. Он ездил к фельдшеру, тот посоветовал съездить к врачу в уездный город. Но у Ванькиного отца нет лошади.
Не говоря Ваньке, решаю во что бы то ни стало свезти его в больницу. Надо заставить старосту дать хорошую лошадь, на телегу навалить побольше соломы. Еще лучше – самому мне с ним ехать. Кстати подам прошения о пенсиях, явлюсь к воинскому начальнику.
– Ребята, – говорю им, – принесите документы. Буду писать о пенсии.
– На пенсию не проживешь, – кашляет Ванька, – делать что будем?
– «Делать–делать», – сержусь я. – Экий работяга! Отдохнем, подумаем.
– Не могу… без работы. Выйдешь на ток, все работают, а ты… как дурак. И стадо пасти… Побегай за скотиной… Сразу дух вон.
– О стаде и думать нечего. Выздоровеешь, там земли нарезка будет, вот и жизнь пойдет, – утешаю я.
– Хорошо, холостые мы, – говорит Ванька, – наказнились бы жены.
– Чего казниться? – откликнулся Илюшка. – Подживет нога, на свадьбу прошу.
– Жениться недолго, а к чему? Земли нет, лошади нет, изба развалилась. Отец – старик, сам – ни к черту.
Горькие слова Ванька проговорил с трудом. Видимо, он не раз думал над этим. Сердце у меня сжалось.
– Ваня, – строго начал я, – не все у. нас пропало. Ей–богу, не все! А что руки нет или ноги, – не вернешь теперь. Вон Семен Фролов совсем остался без ног. Надо сходить навестить его, утешить.
– Утешить! – повторил Илюшка. – Ты вот и нас утешаешь.
– Я и будоражить умею, – сказал я. – Забыл, когда стражники на село мчались, а я в колокол ударил?
– Где‑то теперь Харитон? – вспомнил Ванька. – С тех пор о нем ни слуху, ни духу.
– Небось в Сибири. Дядя Федор, наш пастух, жив?
– Плох он стал, – ответил Ванька. – Его тогда здорово избили стражники. Аль опять к нему в подпаски хочешь?
– Как придется.
– Ну, тебя не заставишь. Ты официантом работал. За что тебя хозяйка выгнала?
– Ночью через окно в кинематограф удрал, а она, ведьма, думала, к девкам я. Как наши девки тут живут? – перевел я разговор.
– Настя твоя… – начал Илюха.
– Почему моя?
– Письма ей с фронта слал?
Я покраснел. Слал, да еще какие!
– Нет, и не думал.
– А кто ее черноглазым ангелом называл?
– Ужель читала вслух? – привскочил я.
– Ага! Девки так и прозвали ее «ангел черноглазый».
Мне стало смешно. Какова‑то она теперь? И хочется мне спросить, и боюсь. Может быть, уже и замуж вышла!
– Она отвечала тебе? – ехидно спросил Ванька.
– Это мое дело, – рассердился я притворно. – А твоя М. К-, которая кисет тебе вышивала, как?
– Фюить! – свистнул Ванька. – Замужем! Все равно бы я теперь не женился.
– Это ты брось. Девка была теплая, согрела бы тебя.
– Змея она подколодная, – мрачно пробурчал Ванька.
– А ты, Илюха, в самом деле вздумал жениться?
– Вскоре.
– Да–да, – спохватился я, – кто с тобой страдать будет?
. – Три на примете! – прищурился Илья. – А кто – убей, не скажу.
«Ладно, – думаю, – сейчас же узнаю».
– Эка, сколько. Запасливый хозяин! В случае чего, одну не уступишь?
– Какую?
– Сам знаешь.
– Наташку Соколову?
Ага, одна есть. Кто же вторая?
– Не–ет, – затряс я головой. – Не эту.
– Мотрю Ткачихину?
Вот и вторую знаю!
– И не ее.
– Козуля, что ль? – удивился Илюха.
– А чем Козуля плоха? – не догадываясь, что это за Козуля, спрашиваю его.
– Гордости много. Богачи. Мельница. И хоть бы у одних, а то с Дериными вместе.
Теперь и третью знаю. Эх, простота!
Но я нарочно задумался. Вижу, жалко дураку Илюхе каждую из них. Тихо вздыхая, говорю:
– Какую не возьмешь за себя, ту и уступишь мне. Илюха доволен. Он согласен, лишь бы я пошел сватать за него. Мать его отказывается, родные тоже не идут.
– А мы, как фронтовики, сразу в атаку! – говорит он.
– Что ж, пойдем в штыки, – соглашаюсь я. – Только надо обдумать, какую сватать…
– Жребий… метнуть… судьба скажет, – вдруг предлагает Ванька.
– Это правда, – подхватывает Илюшка. – Давайте сейчас!
Кто же кого из нас дурачит? Собрались калеки! Но всем весело. Рвем три кусочка бумаги, я пишу имена, Ванька скатывает шарики, кладет в фуражку.
– Илюха, вынимай.
Лицо у Илюхи стало серьезным, он даже побледнел. Неожиданно для нас оборачивается к кладбищу, торопливо крестится, вздыхает.
– Господи, благослови! – и выхватывает шарик. Я беру у него «судьбу», и медленно разворачиваю, искоса посматривая на хромого товарища.
– Ну! – не утерпел он. – Кто там?
– Она, – подмигиваю ему.
– Да говори же, черт безрукий!
– Но–но, полегче, хромой дьявол! Козуля!
– Тьфу! – выкрикнул Илюха. – Не ее хотел. Ванька упал на траву и зашелся в кашле… Илюшка вырвал у меня бумажку, прочитал и, горестно вздохнув, принялся делать из нее цыгарку.
– Эй, эй, – крикнул я, – что же ты, заживо хочешь сжечь свою Козулю?
– Вместе с мельницей, – огрызнулся Илюха. – Когда сватать пойдем? – осведомился он.
– Пенсию охлопочем, тогда и начнем.
– Верно, – согласился Ванька.
На токах работа стихла. Народ шел с гумен домен обедать. Пошли и мы.
Каши уже были дома.
Мать сообщила:
– Павлушку‑то тоже, слышь, ранило. Письмо прислал. Вот и не скучно вам будет!
– Ну, – сказал я, – собирается наша гвардия.








