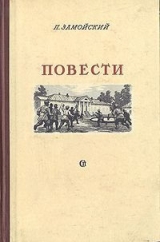
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
Вырезанная мною дубинка, которую я бросил и опять нашел в лесу, очень приглянулась пастуху Селезневского общества. Он выменял ее у меня на тростниковые, хорошо обыгранные дудки, а впридачу дал еще коровий рожок. И вот, идя за стадом или на стойле, я учусь на них играть, подбирать мотивы. Своей игрой я уже надоел не только дяде Федору, но и коровам. Дудки в моих неумелых руках напоминали коровам злых оводов. Нередко то одна, то другая, едва заслышав мою игру, задирают хвосты факелом и несутся от меня куда подальше. Старик, до этого нетерпимо относившийся к моему чтению, теперь сердито советовал, чтобы я бросил пугать коров, а лучше «торчал в книжках». Но я, забыв про все на свете, зажмурив глаза, дудел и дудел. Нет никому от меня покоя. Ругал меня Ванька, ворчал Данилка, мычали коровы, бык Агай косил кровавым глазом, а я все перебирал лады. Сочувствовал мне только лохматый Полкан. Моя игра ему пришлась по душе: как только заслышит рулады, – несется ко мне со всех ног; подбежит, сядет на задние лапы, вытянет морду, крепко зажмурится и начнет выть. Воет старательно, жалобно, что‑то грустное слышится в его вое. Видимо, не совсем‑то доволен он своей собачьей жизнью. И так мы оба с ним воем, сочувствуя друг другу.
Нет, хорошо нам с Полканом! Если я, идя за ста–дом, вдруг перестаю играть, Полкан нетерпеливо забегает вперед, становится на задние лапы и, брехнув раза два, первый начинает выть. Я понимаю его: он просит поиграть. И опять мы с ним принимаемся выть на всю степь.
Дядя Федор, видя, что его слова на меня не действуют, теперь обращался уже к собаке. Он говорил Полкану:
– Слушай, сукин сын, если ты хоть немножко поумнее этого дурака и совесть имеешь, перестань первый. На тебе кусок хлеба, только замолчи ты, ради христа.
Через несколько дней я разучил не только припевы, по и плясовые: «Барыню», «Камаринского», «У Варюхи, у кривой».
Мграл я и вечером, после ужина, возле своей избы. Около вертелись братишки, подвывали соседние собаки.
– Зажгешь! – говорили соседи, проходя мимо. Это насмешка: так говорят неумелым гармонистам.
Но я не обижался. Ведь без труда ничто не дается. Тайно, как и все ребятишки, я мечтал о настоящей «саратовке» с колокольчиками.
– Петька, сгорим, – говорил мне и брат Захар, а сам просил дать ему подудеть.
Сегодня вечером я наладил «Хаз–Булат». Я сидел возле своей избы. Вокруг меня собрались не только братишки, но и сверстники. Некоторые поглядывали на меня с завистью, просили дать им «попробовать». Но разве можно кому бы то ни было доверять дудки? Мимо шли три поповские дочери. Всех их у попа – девять. Это были средние: Зоя, Леля и Лена. Кроме Зои, все они так похожи друг на друга, что их трудно различить. Только Зоя совсем не похожа ни на мать, ни на отца. Строгое правильное лицо, черные ровные брови. И голос у нее не такой, как у сестер. У тех голоса писклявые, сами они трусихи, носы у них курносые, зубы передние торчат, как. гвозди. А у Зои голос грудной, губы прямые, сама стройная и такая шустрая, что ее прозвали «блохой».
Услышав мою игру, Зоя остановилась. Останови–лись и сестренки. Я глазом не повел на них, но заиграл чуть посильнее. Они, перешептываясь, подошли ближе. Тогда я так заиграл, что у самого сердце дрогнуло. Будто не кто‑нибудь, а сам я выпрашиваю у Хаз–Булата жену. Соседские собаки почему‑то особенно невзлюбили Хаз–Булата. Они завыли, словно к пожару. Поповские дочери подошли совсем близко. Зоя вот – прямо передо мной. Ребята отошли в сторонку, ничего не сказав. Зое, видимо, не понравился Хаз–Булат.
– Сыграй что‑нибудь веселое, мальчик.
Если бы она просто попросила, я бы сыграл и веселое. Но «мальчик»… Какой же я для нее мальчик, если мы с ней одногодки? Или у меня нет имени? Она же знает, как меня зовут! Или, если я пастух, так и имя свое потерял?
– Сейчас, девочка, – сказал я. – Вам божественное под пляску?
Ребята усмехнулись, толкнули друг друга. Зоя тоже усмехнулась.
– Сейчас вспомню, – стал налаживать я дудки. Набрал воздуха, надул щеки и отрывисто – действительно плясать можно, – начал «Достойну».
– До–стой–но есть яко во ис–ти–ну, бла–жи–ти тя бо–го–родицу–у.
Выходило как бы под «Камаринского», но и ребята, и Зоя поняли, что я играл.
– Накажет тебя бог, – вздохнула Зоя и пошла.
Захар принес вязанку соломы для постели, бросил ее перед избой. В нижнем конце улицы тревожно забрехали собаки. Сквозь лай донеслось дребезжание дрожек и знакомый нашему обществу голос. Вот он уже недалеко. Притихнув, услышали:
– Косить.
Еще ближе:
– Рожь косить.
За три двора:
– Барску рожь косить.
Косорукий, объездчик из имения, подъехал к нашей избе, не обращая на нас внимания, стукнул кнутовищем по подоконнику:
– Эй, нужда, барску рожь завтра косить!
Собаки и тут забрехали на него. Он привычно отхлестывался от них направо и налево.
Ребята разошлись. Мать начала стелить постель. Вышел отец, которого Косорукий всегда называл не иначе, как «нужда».
– Мать, слыхала? Завтра на барску рожь.
– Не глухая.
– Это так, а ведь я веревочек для грабельц не успел свить.
Мать посмотрела на отца, набрала в грудь воздуху, что всегда делала, когда собиралась ругаться, и обрушилась:
– Эх, ты, кислятина! Эх, ты, глина–а! Что же ты, идол, все время делал, а? В амбаре в четыре ноздри дрых? Иль опять над проклятыми книжками торчал? Доберусь я, вот погодь, доберусь до твоих книжек и все до одной пожгу. Эх, паралик тебя хвати! Накачался ты на мою шею! И в кого тебя такого состряпали? Братья как братья, в руках у них кипит, а у тебя все из рук валится. Горе ты, и на горе выдали меня за тебя, за черта суглобого. Го–оспыди, взять погано ружье, да тр–рахнуть из него по твоей лысой башке, и греха никакого не будет.
Пошла наша мать! Все вспомнила. Так разрисовала отца, такое говорила, что не нам бы слушать. Я всегда был за мать, но всегда мне становилось тяжко от их ругани. Ведь их ругань – без начала и конца. И слова почти одни и те же. Отец больше молчал. Он убедился, что лучше дождаться, когда у матери «перегорит».
– Ну, будет, будет, – пробурчал отец, – чай, накричалась.
– У всех мужики как мужики, старательны, все в дом да в дом, один ты выбрался такой. И как ты норовил пойти в монастырь, так бы и шел, и не женился бы, и не губил мой век. Как это я, окаянна душа, пошла за тебя, а?
– Будет, дура! «Пошла, пошла». Двадцать лет живем, – все «пошла»…
– Сколько их сваталось за меня, – не унималась мать, – нет, как черт меня толкнул, с ума сошла, белены объелась, угорела…
– Стели‑ка ты ребятам постель. Сунуло меня про веревочки сказать.
– Свей, свей, себе на шею их свей. Вон на перекладине и удавись. Юда предатель.
– Молчи, растащиха! – вдруг вскипел и отец. «Юду предателя» он не переносил. С таким прозвищем не мирился, становился сам не свой. Для него, богомола, полумонаха, такое сравнение было страшным. Матери же оно доставляло большое удовлетворение. Но и у нее было прозвище, которого она тоже терпеть не могла – «растащиха».
– Это какая я растащиха? – изменив голос, как будто впервые услышав от отца такое, спросила мать. – Это чего я из дома растащила? Ну‑ка, скажи, ну‑ка!
Я хорошо знал, что если их не остановить, начнется драка. А остановить их совсем нелегко. Нужны какие‑то страшные, особые слова. Из всех нас, ребят, такие слова находил только я. Заметив, что мать уже хищно осматривается, приискивая подходящий предмет, чтобы «огреть» отца, я крикнул:
– Тятька, уходи! Уходи – и ну вас к черту! Оба хороши. Народили нас целый содом, наплодили нищих, а теперь лаетесь. Ну вас к дьяволу! Возьму плеть и начну трахать. Мне теперь все равно. А то избу сожгу. Или на брусе повешусь. Гоните завтра сами стадо, я вам не пастух. Мне спать пора, а вы орете.
Оба они молча выслушали мой злобный крик. Отец нырнул в сени, мать, тяжело дыша, принялась стелить.
Утром я проснулся сам, не дожидаясь, когда мать начнет тормошить.
Отец встал вместе с матерью. Спали они на краях постели, как бы охраняя свое гнездо из восьми человек. Я сходил, принес матери два ведра воды. Она подоила корову, принялась затапливать печь. Чуть–чуть алела заря, но было уже тепло. По улице слонялись знакомые мне коровы. Отец вынес прядку кудели и с несвойственной ему торопливостью принялся вить веревочки. Я взял у него полпряди.
– Зачем? – спросил он.
– «Зачем, зачем»! – сердито проворчал я, оглянувшись на сени. – Сказал бы мне, я давно бы тебе свил эти веревочки. Делать‑то мне в степи все равно нечего.
– Я и. не догадался, сынок.
Мы начали вить. Так как я привык навивать кнут, да и пальцы мои орудовали шустрее, я быстро свил одну. Отец успел только половину.
– Как ты скоро, – удивился он.
Я принялся за вторую. В это время мать выгоняла корову со двора. Увидев отца, походя заметила:
– Вей, вей! На охоту ехать – собак кормить.
– А ты молчи. Мы с Петькой нетколь совьем, – заметил отец.
Он тоже принялся за вторую. Торопился, словно стыдясь, что отстал от меня.. Всех веревочек, по числу зубьев в грабельцах, надо четыре, да пятую, длинную, которая привязывается за самый угол.
– Грабельцы‑то налажены? – спросил я.
– Это мне недолго.
«Ну, – подумал я, – недолго. Хватит тебе работки. Хорошо, что мать не знает».
На улице слышались удары отбойных молотков: пробивали косы, точили. Отца это радовало.
– Лается мать, а все по–пустому. Гляди, у людей ничего еще не готово. Косы только пробивают.
– А ты о себе больше заботься, – посоветовал я, довив вторую веревку.
Снова ехал Косорукий наряжать. Проехал, глянул на отца. Отец поклонился, но Косорукий и внимания на него не обратил. Да и кто на отца обращает внимание? Только поп иногда в проповеди упомянет о нем, как о самом набожном.
Вон и дядя Федор с Ванькой идут. Данилка живет в том конце улицы.
– Пошли, сынок, – ласково, как всегда по утрам, позвал меня старик.
– Пошли, дядя Федор.
* * *
На второй день косьбы барских ржаных вместо меня погнал стадо Захар. Я отпросился поехать со своими в поле. Как и в сенокос, мне захотелось побыть на людях. Дома сторожем остался Филька. В поле поехали отец с матерью, я и Васька – младший, после Фильки, брат. С прошлого года не ездил я на нашей телеге. Уже забыл, как стыдно ехать на ней: колеса разболтаны, скрипят, шины съехали набок, на заднем колесе одна шина лопнула и хлопает, поднимая пыль. Телега кренилась, передок на каждом повороте садился на колесо. Сколько в нашей телеге веревочек! Все на них держится. Телега так стара, что на ней, видно, еще ездил дед моего отца. На сбрую Князь–мерина страшно глянуть, особенно на хомут. Это – куча разнообразного тряпья и соломы, зашитая в худой мешок. И все тоже на веревочках. Гужи веревочные, клещи древние, стертые, изъеденные червем. Понять невозможно, как такой хомут держался. Наконец шлея, седелка, дуга. Какое убожество! По сбруе и хозяину был и сам Князь–мерин. Низенький, пузатый, мордастый, с жидким хвостом, с отвислыми ушами. Что особенно у него было страшно, это – нижняя губа. Она походила на старый лапоть. Зубы у Князь–мерина уцелели только передние. Трудно поверить, что Князь был когда‑то молодым. Глядя па него, думается, что и родился‑то он таким несуразным и страшным и сама судьба предназначила его именно нашему отцу.
Сейчас‑то еще он немного походил на лошадь. Поправился на сенокосе. И когда отец, похлестывая его, говорил: «Ну‑ка, с богом» – он, кажется, даже прибавлял шаг. По крайней мере видно было, как он качал головой, махал хвостом. Но стоило отцу умолкнуть, как Князь не только сбавлял шаг, но и совсем останавливался. У доброго хозяина такой мерин давно бы сдох, а от отца он тревог не испытывал.
– Да погоняй ты его, че–орт! – вышла мать из терпения. – Эдак мы и до завтрева не доедем.
Особенно стыдно. становится, когда нас обгоняют другие подводы. Орефий Жила, обгоняя, крикнул:
– Ива–ан, в Нарым–пески, прямо на куски?
Отец что‑то буркнул, мать совсем рассердилась.
– Дай‑ка палку!
Вырвала у отца палку, начала бить Князя, но он только хвостом покрутил. Тогда со злобы ткнула палкой под хвост. Этого Князь не ожидал. От испуга и боли вдруг вскинулся, попытался лягнуть, но… тяжелы его ноги. Он затрусил, поняв, что палка перешла из рук хозяина к сердитой хозяйке. Еще несколько раз сунула мать Князю палку под хвост, и он тронулся рысью, от которой давным–давно отвык. Но уж лучше ехать шагом: едва тронулись рысю, как наша допотопная телега затрещала, колеса завизжали на разные голоса. Нет, для рыси не только Князь, но и телега не приспособлена. Уж верно: тише едешь – дальше будешь…
Остановились на загоне, где вчера стояли. Отец принялся выпрягать лошадь, а мы – стаскивать немудрящую поклажу с телеги. Потом подняли оглобли, связали их чересседельником. Под одну оглоблю подставили дугу. Сверху накрыли торпищем, и вот у нас – шалаш. Зыбку повесили.
– Давай, давай, – кричала мать, – давай, заходи косить! Будет возиться‑то!
Путая веревочки, отец не скоро наладил грабельцы. Поточил косу, перекрестился и, поплевав на руку, зашел за ряд. Косил отец не хуже других, но вяло. Мать, как говорят люди, «за пятки его хватала». Да и рожь была не густая, хотя лучше, чем на мужицких полях.
Я осмотрелся: кто наши соседи? Самые ближайшие – Орефий Жила и Василий Госпомил. Орефий уже прокосил три ряда, – жена едва успевала вязать за ним. Костя делал пояски и расстилал их перед матерью. Шустро косил тощий Жила. Верно, что на работе он все «жилы вытянет». Лишь головенка его моталась, словно на ниточке. Пошел и я делать пояски для матери.
В полях было тихо, четко слышалось шарканье кос. Далеко на горах тоже косили. Там уже видны обносы. Солнце наплывало в красной мгле. День будет жаркий, и сейчас, пока холодок, все стремятся скосить побольше.
Соседней межой ехал Косорукий. Он не только проверял – кто сколько скосил, но заодно и смотрел – не молотят ли украдкой рожь, не воруют ли. По правде говоря, я и ехал‑то с этой целью. Недаром мы взяли с собой бочонок. В нем сейчас вода, но воду мы выпьем, в обед схлебаем с тюрей, лошади дадим, а после обеда в бочонок пойдет другое.
Приказчик ехал к нам. Проскакав мимо, подъехал к отцу.
– Коси, нужда, коси! Только обносы клади ровные.. Жребий метнем: плохие тебе достанутся.
– Что ты, бог с тобой! – испуганно улыбнулся отец, который никогда на такие дела не шел. – Чай, грех будет.
Жара усиливалась. Время шло к обеду. Я сказал матери, что буду делать то, за чем приехал. Она оглянулась на отца, прищурила глаза:
– Только ма–атри–и.
– Ну, сумею.
Захватив из обноса два высохших снопа, я понес их к телеге.
– Васька, поглядывай. Как поедет опять Косорукий, скажи.
Расправил мешок, просунул туда сноп колосьями и начал бить пепельником.
В обед, пока наши отдыхали, я взял косу. Коса с грабельцами была для меня тяжела, но саженей пять я прокосил и сам связал. Как следует отдохнуть народу не дал Орефий. Словно бес кольнул этого человека: выскочил из‑под телеги, ударил в косу. Звон пронесся по полям. И снова продолжали мужики косить барскую рожь. И опять, оглядываясь, таскал я снопы из обноса, а полуобмолоченные клал вниз или в середину.
«Голод – не тетка, – говорили мужики, – а барыня не подохнет».
То, что я делал, я не считал воровством. «Это моя доля», – думал я, обмолачивая в мешке барскую рожь.
Вечером поехали домой. Князь–мерин плелся так же тихо. Мать так же ругала отца. Нас то и дело обгоняли. Еще издали мы заметили, что на перекрестке, возле лошадиного кладбища, стоят верховые и Косорукий.
– Батюшки, никак трясут! – с дрожью в голосе проговорила мать.
«Трясут» – значит обыскивают.
– У нас, помилуй бог, нечего трясти, – сказал отец.
Я сижу с матерью и чувствую, как она дрожит.
Издали доносится крик. Видно, трясут здорово. Подъезжаем ближе. Солнце скрылось. Я шепчу матери: «Не найдут».
У всех на телегах навалена солома. Это объедки от лошадей. За объедки не ругают, но в них некоторые кладут необмолоченную розвязь. Как только обыскивающие это обнаружат, все летит с телеги.
– Сто–ой! – крикнули передним подводам. Остановились и мы. Впереди не меньше двадцати подвод. Обыскивали пять человек: стражники, объездчик и еще кто‑то.
– Есть рожь? – спрашивал стражник, подходя к очередной телеге.
– Что вы, что вы! – говорил мужик.
– Ну‑ка, слезай.
Здесь же на загоне огромная куча соломы, отдельные снопы и ворох невеянной ржи. «Невейка» была и у нас. У меня тревожно забилось сердце.
– Фамилия? – спрашивал стражник, если находил рожь.
Этот вопрос больше всего пугал мужиков. Тут уж никуда не денешься, раз записан. Тут тебе штраф, а может, что и похуже.
Следующая подвода, еще и еще… Наша очередь все ближе. На матери лица нет. Зато отец совершенно спокоен. Он ничего не знает.
По тому, как тот или другой мужик, у которого ничего не нашли, ударял по лошади, я догадывался, что у него «искали, да не нашли». Подводы стояли и сзади нас. Почти все сидели на телегах. Мне стало досадно: почему не прогонят мужики этих стражников,, как прогнали тогда со степи возле леса?
Впереди нас – подвода Орефия. Я подошел к ней. Орефий сидел смирно и совсем не кричал, как обычно: «скорей, скорей». «Ну, – подумал я, – если бы у тебя ничего не было, ты бы не утерпел. Ты бы поднял крик на все поле». Сидели смирно и жена его и Костя.
– Слезай! – подошел я к Косте.
Он спрыгнул. Мы отошли.
– Боитесь? – решил я выпытать.
– А то разь нет, – сознался он.
– Много?
– Хватит.
– В снопах?
– Невейка.
– Это хуже. В мешке аль где?
Костя промолчал. Он не хотел говорить – где.
Я все‑таки решил выведать.
– Как хошь хорони, а они найдут. И тогда прямо в острог аль в арестански роты.
– У нас не найдут.
– Разыщут. Телега – она и есть телега. Вверх дном ее перевернут.
– И перевернут – не найдут. Если разбивать начнут, тогда…
– А крепко забито?
– Тятька делал.
– Снаружи незаметно?
– Погляди иди.
Я подошел и посмотрел на телегу. Она, как и все, «на четырех колесах». И никому в голову не придет, что у этой телеги двойное дно. Сверху ровное, а вниз уходит углом.
– Только молчи. У многих такие телеги.
– Сколько там?
– Мер шесть. Да вчера столько да завтра. А у вас?
– Нам прятать негде. Телега худая, солома и то вываливается.
– Наш тятька здорово придумал. Насыпаем сверху, а выпущаем снизу. Вынул дощечку, она и потечет.
Мы пошли с Костей туда, где шел обыск. Только что отъехал Василий Госпомил. У него ничего не нашли.
– Подъезжай! – крикнул стражник.
Следующий – Григорий Стручков, по–уличному, Грига, мужик неопределенных лет. Он не имел на лице ни малейшего намека на усы или бороду. Про Григу и жену его Фросинью нехорошее говорили. Особенно про их детей. Будто один из ребят похож на такого‑то мужика, другой – на другого, только ни одного нет похожего на Григу. Фросинья – баба веселая, сплетничать сама любила и аккуратно, почти каждый год, к великому ужасу мужа, рожала детей.
– Есть рожь? – спросил Григу стражник.
– Истинный бог, ни зерна.
Стражник засунул руку в розвязь, пощупал в одном месте, в другом.
– Ну‑ка, слезь!
Грига слез, а Фросинья осталась сидеть. Она сидела молча и равнодушно, будто искали не у них, а у других.
– И ты, баба, слезь. Может, под тобой мешок, – сказал стражник.
– Залезь да пощупай! – огрызнулась она.
– Слезь, раз приказываю!
Фросинье, видимо, не хотелось слезать. Она все отодвигалась.
– Слезь, говорю! – еще раз крикнул стражник.
Фросинья поставила ногу на чекушку, хотела было слезть, да вдруг так и грохнулась возле телеги.
– Батюшки, – крикнул кто‑то, – с испугу что ль?
Грига быстро подбежал к ней, поднял и отвел в сторону. Только отошел на шаг, как она снова, словно кто пихнул ее, повалилась на бок.
– Еще упала!
Опять Грига поднял ее.
– Стой ты, дура, стой, – шепнул он.
– Силов нет, – ответила Фросинья.
Г рига не успел отойти, как в третий раз повалилась баба. Раздался смех. Все окружили Фросинью. Подошли и стражники.
– Что с ней? – спросил один.
– С перепугу! – крикнул Грига. – Видишь, брюхата.
Опять взрыв смеха: Фросинья родила только месяца три тому назад.
– Езжай, – сказал стражник.
Но едва Фросинья шагнула, как снова, в четвертый раз, повалилась.
– Что ты, че–орт! – выругался Грига и поднял ее. Когда повел ее к телеге, какой‑то дурак крикнул:
– Э–э, глядите, что приключилось!
Стражник испугался было, но, глянув под ноги Фросинье, при наступившем молчании, тихо и удивленно спросил:
– С каких это пор из баб чистая рожь течет?
Из Фросиньи действительно текла рожь. Огромный живот ее быстро падал. Скоро вокруг нее вырос ворох меры в три. Она, оцепенев, так и присела на этот ворох, как кукла.
– Вот и слава богу, – протянул стражник, – совсем опросталась баба. Фамилия?
Грига упавшим голосом сказал. Снял с вороха жену, усадил ее и поехал.
Кто‑то вслед заметил:
– Дура, сшила юбки на живульку.
После этого стражники осматривали не только телеги, но и толстых баб. Подъехала и наша телега.
– Слезьте!
Отец и мать быстро слезли. Стражник рывком запустил руку в солому и едва ее выдернул: она попала между худыми досками.
– Тьфу, черт! – выругался он. – Есть рожь?
– Господи, сусе, бог с тобой… Христос тебя… – забормотал отец.
– Знаем, знаем, как вы все на бога. Есть или нет?
– А ты гляди! – крикнула мать, и голос у нее задрожал.
Подошел Косорукий, посмотрел на отца.
– Кто это? Нужда? Нет, у такого не будет. Это набожный, не вор, как другие. Проезжай.
Отец что‑то пробормотал, уселся. И мы с матерью сели, Князь–мерин тронул. Внизу о траву и дорогу шелестела провалившаяся солома. Я локтем толкнул мать. Она взяла у отца палку и сунула мерину под хвост. Мерин взял рысью.
Было прохладно и почти темно. Показались очертания мельниц, ветел, церкви, изб. А вот и переулок.
Отец хотел поставить телегу перед избой, но мать дернула вожжой влево. Мы остановились позади двора.
Начали снимать с телеги поклажу. Отец подошел к бочонку, рванул его и в недоумении остановился.
– Мать, – крикнул он, – зачем же мы воду назад привезли?
– А ты снимай, кислятина. «Воду», «воду»! Какая там вода? Сунь‑ка руку.
Отец сунул руку, испуганно выдернул и перекрестился на церковь.
– Господи, прости. Не я украл, не я – ответчик.
– С тебя, с идола, никто и не спрашивает, – сказала мать. – Неси во двор. Никак, меры полторы навеем.








