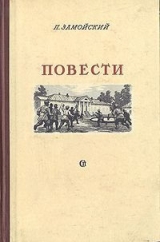
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
– Марковы мы, – ответила она, не догадываясь, зачем я спрашиваю.
Проходя и закрывая дверь, еще раз посмотрел я на спящую Лену…
Вот и наше село, наша улица, изба. Возле нее – никого. Я тихо вхожу в сени, заваленные всяческим хламом, и останавливаюсь пораженный: во дворе слышится сердитый голос матери. Когда она замолкает, ей отвечает второй голос. Прислушиваюсь: она пререкается, и, наверное давно, с Еленой, с матерью Устюшки.
– А то «сваха–сваха»! – укоряюще говорит мать.
– Была сваха, что ж теперь сделаешь! – отвечает Елена, вздохнув.
– Дура ты и есть дура.
– Зачем на это сердиться! Посватай другую.
– И посватаю. Нужна ему твоя Устя!
– Нужна аль нет, а я мать, счастья дочке хочу.
– Да ведь он теперь писарь! Писарь наш‑то, непутевая твоя голова! За него любая пойдет…
Стыдясь за мать, не дослушав, я вхожу в избу. Отец плетет лапоть. На столе перед ним лежит закапанный воском псалтырь.
– Сынок, – весело говорит отец, – старик Гагара, слышь, умирать собрался, – и кивает на псалтырь.
– Счастливый путь! – отвечаю отцу.
16Обильный снег валил сплошной стеной, и через несколько дней его было так много, что пришлось прочищать дороги к колодцам, к мазанкам и тропы к соседям. Все, что видит глаз, сразу стало иным, будто укутанное белым толстым войлоком.
Мы с Васькой успели покрыть крышу, между окон защитку сделали, в худых сенях забили соломой все дыры. Васька оказался заботливым, хозяйственным. Он как‑то незаметно быстро возмужал. По примеру других парней он отпустил чуб и вечерами, уходя к девкам, завивал его раскаленным над лампой гвоздем. Но скоро Ваське придется снять чуб, и будет он лоб свой греть там, где уже мы побывали. Мать заранее готовит ему портянки, чулки, варежки и все, что полагается новобранцу. Как и все многодетные матери, она привыкла провожать детей, уже не плачет; поджав губы, сидит за шитьем или вязаньем.
Как‑то во время ужина к нам в избу вошел Николай Гагарин. Отец решил, что тот пришел за долгом. Николай помолился на образа, поздоровался, прошел к лавке и сел возле матери, низко опустив голову. Густая рыжая борода закрыла ему колени. Мы перестали есть и с испугом смотрели на этого богача. Зачем он пришел? Что хорошего может он принести в нашу избу? Я уже подсчитал, сколько надо отвалить ему моих денег, оставшихся от пенсии, чтобы расплатиться.
– Ешьте, остынет, – сказал я и взглянул на мать.
Мне было стыдно за свою семью, которая так испугалась Николая. Но никто, кроме нас с Васькой, не принялся за еду.
– Дядя Иван, – выпрямился Николай, – як тебе.
Отец так и замер, и красные его глаза часто замигали.
– Наш старик…
Николай остановился, словно поперхнувшись. А мать быстро спросила, и в голосе ее послышалась плохо скрываемая радость:
– Помер?
– Нет, – ответил Николай, – жив. Желанье он изъявил. Просит почитать святое писание. За тобой я, дядя Иван. Уважь.
– Это могу, – с радостью согласился отец и взглянул на мать.
– Знамо, раз просит, – подтвердила мать.
– Ну вот, – сказал Николай вставая. – Захвати какую‑нибудь книгу, а мы сочтемся, заплатим.
– Зачем платить! – воскликнул отец. – Чай, так.
Мать, взглянув на отца, сожмурила глаза и Николаю ласково:
– Мы вон сколько вам должны. Спасибо, выручаете. А читальщиков у нас двое. И Петя почитает.
Николай вышел. Все облегченно вздохнули, но мать не преминула обругать отца:
– Дурак лысый: «чай, та–ак». Зачем «так»?
После ужина мы с отцом обсуждали, что читать Гагаре. Псалтырь? – он читается только по покойникам. Священную историю? – там подходящего мало.
– Вот что, отец, – надумал я, – прочитай ты ему что‑нибудь пострашнее из апокалипсиса. Сразу ноги протянет.
Но мать не согласилась с этим:
– Не смейте пугать. Пущай живет. Ты, отец, только узнай, сколько платить будут. Ежели как за упокойника, по полтиннику за ночь, пущай, черт с ним, хоть два месяца живет.
– Правильно мать говорит, – согласился я. – Выбери что‑нибудь утешительное.
– С первого псалма начну, – решил отец, – а там видно будет.
Причесав остатки волос на голове, отец отправился.
Гагару расшиб паралич. Всему виною был огромный, волоцкой породы, злой баран.
Летом в особом стаде Гагары этот баран ходил с кожаной завеской на лбу, которая закрывала ему глаза. Он не раз нападал на пастуха, сшибал его с ног. Баран, сколько его ни били, никого не боялся, кроме своих домашних. Особенно боялся самого Гагары, но старик в этот вечер вперзые надел новый полушубок. Баран сзади обнюхал его и, не признав своего хозяина, слегка толкнул. Старик освирепел, ударил барана граблями. Тому только этого и надо: отступил, нацелился, и Гагара, успев только крикнуть: «Что ты, че–орт!», свалился на мерзлую кучу навоза.
Две недели старик ничего не мог говорить – отнялась правая сторона, потом отошел немного, я первые слова его были: «Зае–еза ба–ана!» Барана зарезали, принесли показать баранью голову. Гагара посмотрел на нее одним глазом, злобно плюнул и приказал: – Су–удень…
Из головы барана сварили студень, и Гагара ел своего врага три дня.
Нам со старостой пришло распоряжение снова составить списки на скот. Список мы составили и написали, что в деревне у большинства крестьян скота почти не осталось. Напрасны наши труды! Пришел приказ от продовольственной управы немедленно сдать каждому двору без исключения по два пуда мяса натурой или по три живым весом. Цена казенная. В конце приказа угроза судом. Вот тебе и телка, которую я прочил на избу. Какая тут изба! Хлеб тоже на исходе. Тревожно, когда в сусеке, особенно где лежит рожь, начинает лысеть дно, – ведь вся надежда на этот запас. Больше ниоткуда не прибавится.
Отец, приходя от Гагары, каждый раз сбрасывал полпуда со счетов. Мать радовалась и, когда молилась, ложась спать, вслух, как молитву, твердила:
– Господи, господи, пошли Гагаре болезню еще месяца на полтора.
Отцу это не совсем нравилось – кощунство вроде, а мне потешно.
С улицы, запыхавшись, прибежал Васька. Он весь в снегу…
– Братка, – заявил он, – Степку Ворона привезли. В темных очках, и голос хриплый!
– А–а, газом хватило! – догадался я.
Про Степку ничего не было слышно. Думали, что он или в плен попал, или погиб где‑нибудь. Глядь, объявился.
Я решил пойти к нему дня через три–четыре, когда домашние и сам он придут в себя. Но Степку привел ко мне его брат на второй же день.
Говоря с ним, я не мог смотреть на его темные, с огромными выпуклыми стеклами очки. Один только раз глянули на меня оттуда его неестественно расширенные глаза. Но оказалось, он все‑таки видит: к лавке прошел не ощупю, как слепые, и, прежде чем сесть, отодвинул донце с гребнем. Я протянул ему папироску.
– Нет, мне теперь ни курить, ни пить, – как из могилы, произнес он.
– О пенсии надо хлопотать, – посоветовал я.
Мы с ним дружили с самого детства. Степка тоже любил читать, но читал он меньше меня, не был так чувствителен к прочитанному, не плакал над жалостливыми рассказами, не восторгался подвигами, хотя сам был очень храбрый. У Степки пытливый ум. Всегда расспрашивал, доискивался «до корня». Если что брался делать, делал обдуманно: прощупает, взвесит, рассмотрит.
– Значит, Степа, и ты отвоевался?
– Кто умеет, недолго, – судя по его искривленным губам, он усмехнулся.
– Хорошо, что жив. О мире ничего там не слышно?
– Какой мир! Опять наши пошли в наступление. – Помолчав, он как бы сам себя спросил: – Зачем эта война?
– Я, Степа, в этом деле понимаю столько же, сколько и ты.
– Главное, к чему все дело клонится? – прохрипел он и опустил голову.
Мы долго молчали. Затем я осторожно спросил:
– Помнишь, Степа, что было в шестом году? К тому, видать, все дело клонится.
Как он уставился на меня страшными глазами! Крепко сжал кулак, злобно скрипнул зубами и ударил по столу.
– Да! Так и будет! На фронте то же говорят…
В Степке проснулся достойный сын отца, Тимофея Ворона, одного из вожаков нашего села. В схватке со стражниками отец был ранен и вскоре умер. Теперь на смену подрос и явился с фронта новый Ворон – Степан. Ворон – злой, разъяренный.
* * *
Посмотреть на нас со стороны, можно подумать, что заранее сговорились. Стоим в церкви все инвалиды не только нашего села, но и четырех деревень прихода вместе. Становимся по ранжиру: фланговым Филя Долгий, затем я, со мной Илюха. Его не узнать! Новый теплый френч с каракулевым воротником, хорошие брюки и совершенно новые чесанки с калошами. Нечисто у него дело с тестем–вором. На какие деньги он мог так вырядиться? Лицо самодовольное. Вот–вот обернется и заговорит… басом. Филя стоит, как вкопанный. Черная повязка перехватила ему лоб. Зоркий глаз Фили подмечает все. Хороший парень Филя, но гордый. Лишь со мной он держится как‑то особо. Все товарищи ему понятны, над всеми он чувствует свою власть, превосходство, а вот я ему непонятен. При встречах со мной тоже иногда начинает говорить свысока, но потом меняет тон. А для него это очень непривычно. Я хорошо знаю его характер, – с ним надо говорить так, чтобы он чувствовал, что в нем совершенно не нуждаются.
Рядом с Ильей стоит Степка в своих очках. Он первый раз пришел в церковь. Девки очень заинтересованы Степкой: они смотрят на него и о чем‑то оживленно болтают. Степка раньше увивался за Катькой, дочерью Ивана Беспятого, убитого стражниками в нашем селе. Сейчас Катька стоит в сторонке и нет–нет да и взглянет на свое бывшее сокровище.
А вот и Настя. В сердце дрогнуло что‑то знакомое. Дрогнуло и отозвалось другое: «Лена». И всю утреню я думал о Лене. Запели «Спаси, господи, люди твоя». Да, сегодня царский день. Восшествие на престол.
Пали на колени. Первым священник, затем дьякон, и вот все. Пели «победы благоверному императору нашему». Победы! А что нам от этой победы? Землей наделит? Черта с два.
Впереди на коленях – рекруты. Я опять смотрю на Филю: мрачное у него лицо; за все время службы он ни разу не перекрестился.
Шум в церкви – это кончилось пение, и все встали. Сторож подхватил аналой, вынес на амвон. Будет проповедь. Священник хорошо говорит проповеди: иногда со слезой и злобой, если обличает.
Что‑то он сегодня скажет?
И вот выходит. На груди блестит небольшой серебряный крест.
– Православные христиане, – начинает он, как всегда, – господь бог довел нам дожить до сего великого дня! Ныне вся православная Русь празднует торжественное событие: двадцать два года назад, волею всевышнего, восшел на престол августейший император наш, Николай Александрович. Его славное царствование полно событиями. Из них суть: это упрочение православия, изничтожение революционной крамолы. Ныне, празднуя великий день августейшего царствования, мы не забываем и того, что бог нам ниспослал грозное испытание. Сам государь стал во главе великомиллионной армии и ведет ~ёе…
Священник на момент замолчал. И вдруг в этой тишине на всю церковь раздалось явственно:
– Зачем царю Распутин?
Все, кто стоял впереди, испуганно повернулись в нашу сторону.
Лицо священника вмиг покрылось пятнами, глаза сощурились, руки заходили по аналою, словно что‑то искали. Чувствую, как Филя дрожит. Он, видимо, и сам испугался своего голоса. Может быть, и не ожидал, что крикнет так злобно. Что скажет проповедник? Все село, весь приход полон слухами о Распутине, о царице и фрейлине Вырубовой, имение которой находится от нас всего‑то верстах в двадцати.
– Православные христиане, – сдержанно начал священник, – много разных слухов, порожденных войною. Коварный враг пускает в ход всяческие способы. Он пробирается всюду. Слабы наши молитвы. Дьявол усилил козни. Один из его слуг вошел в доверие царя. Снова оживились смутьяны. Помолимся, православные! Путь всевышний услышит нашу молитву. Да будет крепок и нерушим царский престол, да будет многая лета помазаннику. Аминь!
Священник широко перекрестился, поклонился народу и быстро пошел в алтарь.
И вот все двинулись к выходу, двинулись, загудели.
– Ну, Филипа, доволен ты проповедью? – спросил я.
Он подмигнул единственным глазом:
– Теперь понятно все.
И, не стесняясь ни женщин, ни девушек, он добавил такое, что совсем не говорят в святом месте.
И тут пошел разговор.
– Царицу корить не надо. Самуго воюет, а кто семейное дело править будет? Она щ нашла.
– Да, гляди, кого выбрала!
– Енерала не хочет, давай мужика.
– За что же батюшка взъелся на Распутина?
– За престол он! – выкрикнул Филя. – Распутин престол конфузит.
– Это верно. Выходит, раскачка трону.
– Фамилие‑то какое: Рас–пу–тин!
17Буран воет уже неделю подряд, не умолкая день и ночь. Хорошо сидеть в теплой избе и слушать вой и рев.
Каково теперь в окопах?
Мать сидит за гребнем и молча прядет. Веретено ее жужжит, нитка тянется ровная, длинная, кажется, ей и конца не будет и веретено вот–вот упадет на пол, но мать ловко подбрасывает его, как рыбку, схватывает за острый кончик и молниеносно, словно веретено заведено пружиной, накручивает на него нитку. Опять прядет, опять хрустит хорошо протолченная кудель на гребне, нитка выплывает из нее, как паутина, тонкая, почти невидимая, течет–течет…
Братишка забрался на печь. Видна его белокурая головка. Он держит азбуку и самостоятельно, по предметам, учит буквы. Отец опять у Гагары, а я сижу за столом и составляю раздельный акт.
Вчера был дележ у Арефкиных. Ругань, чуть не драка из‑за каждого ухвата, сковороды. Не прошло еще и трех месяцев, как убили на войне кузнеца Саньку, а сноха для семьи уже стала чужой.
Староста Игнат и понятые присудили отдать ей кузницу со всем инструментом, амбар и еще кое‑что из домашней утвари.
В избу вошел десятский Филипп Шкалик. Он все такой же, каким запомнился мне с детства, только в бороденке его теперь крепкие, как струны, седые волосы. Десятским Филипп ходит уже лет двенадцать подряд. Сколько старост и старшин переменилось, а он укоренился, как священник в приходе. Знает его земский, становой, старшина и урядник. Много знает и сам Шкалик, хотя прикидывается простаком. Обязанности свои исполняет аккуратно, даже строгость напускает. Многие побаиваются его.
– Писарь дома? – спросил Шкалик, помолившись и глядя в упор на меня.
– В волость уехал, – отвечаю ему. – Ноги отряхни.
– Ой, забыл, что в хоромы попал, – усмехнулся он. – Три срочных из волости. Получай. Расписаться велели.
Что ты все мне да мне носишь? Тут написано: «Старосте первого общества».
– А ты старосту спроси. Он этих пакетов боится, как волк огня. Мерещится ему: беспременно в каждом пакете нобилизация аль реквизиция. К тебе меня гонит.
– Ладно, иди, – говорю ему, но он с нетерпением ждет, когда я прочту бумаги.
Вижу, что он хочет что‑то сказать, но я не спрашиваю. Тогда лезет он за пазуху и кладет передо мной письмо.
– От брата, – говорит он.
Почерк всех трех братьев я знаю. Нет, ни один не похож. От кого же? И вдруг дрогнуло мое сердце, но я спокойно прячу письмо в карман гимнастерки и начинаю читать бумагу из волости. Десятский, вздохнув, уходит.
– Что ты его всегда гонишь? – спрашивает мать. – Ты не больно с ним так… Он с урядником за ручку.
– Поэтому, мать, я и не люблю его.
Я бережно распечатал письмо и первым делом взглянул на подпись. «Знакомая Лена». Наверное, красное вдруг стало у меня лицо. Мне не хочется читать письмо тут же, сразу. Уйти куда‑нибудь, остаться одному, посмотреть на письмо, не читая, в руках подержать.
Медленно убираю со стола бумаги, приговоры, разные списки и расписки, кладу все в шкаф, запираю и сажусь почти под самые образа. Кладу письмо перед собой, читаю первые строчки. Сердце бьется так радостно, что я плохо понимаю смысл. Нет, так читать не годится. Достаю бумагу, кладу на письмо. Двигаю бумагу вниз, открывая строку за строкой. Читаю и мысленно вижу, как она, склонившись, пишет это письмо. Сквозь косоватый, нетвердый почерк проглядывает ее лицо, глаза, пряди ее волос. Она пишет и думает обо мне. Черт побери! Сердце совсем заходится от волнения.
«Здравствуй, Петя!
Низко кланяюсь тебе, и от Саньки поклон й от мамки, от снохи Анны. Брат наш Костя приехал домой. Он глухой, и левый глаз плохо видит. Он тебе тоже шлет поклон. Я говорю ему, кто ты такой, раненый в левую руку. Он хочет с тобой повидаться. Как поедешь в город аль оттуда, с любой стороны заезжай к нам, будешь ночевать.
Письма твои получила. И стих в одном был, прочитала. Санька тоже прочитала, и мамке я вслух прочитала, а Костя сам. Он спрашивал: один ты составил, аль кто из товарищей помог? Сказала ему – один. Он дивился.
Пишешь ты, вроде как любишь меня, ты и не огляделся. Совсем я не такая, как ты пишешь. Чудной! Чего ты нашел в моих глазах? Они совсем и не голубые. Как у кошки, серые. Померещилось, видно, тебе в темноте. Ну, а если тебе нравится, вольному воля.
Мамка часто тебя поминает, а как заедут мужики от вас, она их спрашивает о тебе. Ты и Саньке понравился и дяде. Про себя ничего путем не скажу. Будто что‑то и есть, только ты не подумай чего зря. Ведь как следоват мы друг дружку не знаем. Проснулась я утром, вы уехали. Ругала мамку, что не разбудила. Хотела тебе какое‑то слово сказать, а какое, теперь вроде забыла.
До свиданья. Приезжай!
Жду ответа, как птичка лета.
Знакомая Лена».
Смотрю на последнее слово, шепчу его. Слышу в нем ее голос: «Приезжай!» Прежде чем написать это, она, может быть, долго думала, не решалась. А какое слово она хотела сказать, когда проснулась? Что, если и вправду забыла? Нет, страшнее – раздумала сказать.
Еще и еще читаю и перечитываю письмо. То кажется оно мне простым, обычным, то вдруг все проникнуто намеками.
Мне хотелось прочесть это письмо хоть кому‑нибудь. Но кому? Павлушке? – Его нет. Разве матери? Мать ничего не знает. После, после…
– Я пойду к старосте, – говорю матери.
– Увидишь Ваську, крикни. Опять к Филе Долгому ушел.
– На обучение?
– Пристрастился, дурак, – усмехнулась мать.
На улице хорошо. Безветренный солнечный день.
И не знаю, куда пойти. Вдруг до меня откуда–то издали доносится команда: «Ать, два, три…» Эго Филя Долгий забавляется с будущим набором рекрутов. Почти каждый день занимается с ними. Нашел же человек себе занятие! Решаю идти посмотреть.
Команда все слышнее и слышнее. Отчетливая, резкая. Видимо, шагают ребята по широкой улице, уминают снег. И я, слыша команду, незаметно для себя, шагаю тоже в ногу с ними.
– Н–на–право р–равняйсь! – раздается команда, и я моментально поворачиваю голову направо.
Огромная улица третьего общества – на пяти тройках проедешь. Мазанки и избы уходят вниз, туда, где под снегом лежит огромный пруд. Напротив своего дома виден Филя с новобранцами.
Я уже поровнялся с ними, зашел за угол мазанки, чтобы посмотреть, как идет дело, но Филя в это время скомандовал «роте» оправиться.
Брат Васька в пиджаке, подпоясан моим ремнем. Некоторые в шинелях. У всех в руках палки вместо винтовок.
Ребята закуривали, над «ротой» шел дым. Филя стоял чуть поодаль, высокий, грозный, в шинели, туго подпоясанной ремнем, в фуражке, сдвинутой набок, и в сапогах. Филя держит себя серьезно…
Не понимаю его!
Выйдя из‑за мазанки, направляюсь к ним. Они увидели меня, а Филя вдруг встрепенулся и заорал:
– Ра–а-вняйсь!
Быстро побросали недокуренные цыгарки – и вот уже в строю.
– Сми–и-рно!
Замерли ребята, груди выпятили, животы подобрали, палки приставили к ногам.
– На… крра–а-аул!
Три десятка палок взметнулись.
Командуя, Филя то посматривает на меня, то на свой вышколенный строй. Я догадываюсь о его замысле. Ему представляется удобный случай: проверить свою муштру и похвалиться передо мной. А меня использовать… только вот в качестве кого, не знаю.
– Равнение… напра–аво!
Десятки голов повертываются ко мне. Строгие, серьезные. Я подхожу ближе. Делаю недовольное, хмурое лицо. Филя, подтянувшись, идет ко мне, останавливается на расстоянии трех шагов, четко ставит левую ногу к правой, ловко вскидывает под козырек и рапортует мне, как командиру полка. И хоть бы искорка смеха в его единственном глазу! Теперь очередь за мной.
– Благодарю, господин поручик! – козыряю ему небрежно, как и полагается полковнику.
Подхожу к строю, некоторое время внимательно смотрю на «солдат». Затем иду вдоль фронта, проверяю, как они стоят, как держат «ружья». Ребята «едят» полковника глазами. Вытянувшись, густым голосом приветствую:
– Здорово, первая рота!
– Здра жла ваш сок–родь! – удивительно дружно и радостно кричат ребята.
– Спасибо за службу!
– Рады стараться, ваш…
Филя сияет. Вижу, он не прочь и еще продолжит:, эту церемонию, но я говорю:
– Вольно!
– Вольно! – повторяет Филя, и ребята вновь закуривают, не выходя из строя.
– Здорово притоптали! – отведя Филю в сторону, указываю на снег.
– Стараются.
– Для чего ты их обучаешь?
Филя задумывается.
– Видишь ли, я хочу, чтобы они не были, как мы. К местности их применяться научу, штыком колоть, перебежки делать. Все‑таки меньше их погибать будет.
– Верно, Филя, верно. Словесность тоже проходишь?
– Это у меня плохо выходит. – Оглянувшись, он вдруг предлагает: – Помоги мне, а? По словесности.
Филя всерьез просит меня, и я говорю ему смеясь:
– Друг мой, если я начну с ними словесностью заниматься, то такому научу…
– Ну–ну?
– Что «ну»? Не устав же буду я проходить и не чинопочитание, а начну… хоть бы с Распутина.
– К чему Распутин?
– Подгоню, например, к внутренним врагам. «Кто есть внутренние враги?» – спрашивали нас, и мы отвечали: «Внутренние враги есть революционеры, жиды, студенты». Учили так?
– Верно. А ты?
– А я переверну.
Филя немного смущен и оглядывается по сторонам.
Видимо, такая словесность не совсем для ребят подходит.
– Нам надо вдвоем поговорить, – шепчет он.
– Давно хочу, – говорю я. – Тебя молодая жена за эту забаву не бранит?
– Она мой характер знает.
– Характер у тебя боевой. Ты береги его, пригодится когда‑нибудь, – и я чуть щурю глаза.
Филя, мне кажется, понял меня. Лицо у него радостное.
Круто повернувшись к новобранцам, командует:
– Смирно!.. Р–равняйсь!
Вздваивает ряды, выстраивает по четыре, командует шаг на месте. «Армия» топает, как один человек. С ними топает и Филя, и у меня самого вздрагивают колени. Тоже хочется топать.
– Запева–ай! – раздается команда, и звонкий голос заводит:
М–мы слу–чай–но с тобой повстречались,
М–мно–го бы–ло в обо–их огня–а-а…
– Агом арш! – перекрывая пение, гремит Филя, и «армия» с песней под ногу дружно двигается, снег брызжет из‑под сапог, валенок и лаптей.
Все дальше и дальше уходят они, а я стою и смотрю им вслед, и ощущаю какую‑то гордость за этих молодых ребят и самому хочется шагать с ними вместе.
Нет, «словесности» я все‑таки их научу!








