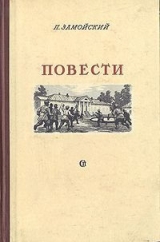
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
Мы подсадили Тараса на стол и, он, опираясь на палку, предложил избрать от Кокшая уполномоченных.
После выборов уполномоченных не скоро разошелся народ. Наши и кокшайские собирались в группы и уже мирно разговаривали. Нашлись и знакомые. Гуляли по лесу. Скоро лее наполнился голосами, веселыми восклицаниями, а когда мы, уполномоченные, подходили к конторе, позади уже слышались звуки гармоники.
Помещик и управляющий злобно посмотрели на нас. По дороге я научил Тараса, как объявить помещику, что земля его волею двух сел стала народной.
– Гражданин Сабуренков, – обратился Тарас к помещику. – Народ двух сел постановил: вашу землю и все имущество отобрать. Нам, комиссии, поручено принять от вас имущество в сохранности.
– Кто вы такой? – перебил Сабуренков Тараса.
Тот оглянулся на нас. Наступило молчание. С улицы донеслись песни и веселый перебор гармоники.
– Слышите, помещик? – указал я на окно. – Слышите музыку вместо драки, которой вы ждали? Так что же вы спрашиваете, кто такой этот человек? Он представитель того народа, который получил вашу землю и все, что на ней. Будьте любезны – убирайтесь из имения! Требуем отдать ключи.
– Это… грабеж! Я буду жаловаться комиссару. Вы – анархисты. Большевики! – вдруг взвизгнул помещик.
– Филя, говори с ним!
Филя уставился на Сабуренкова острым глазом, и тот сразу смолк.
– Раскладывай книги! – прогремел Филя.
Но помещик и с места не сдвинулся.
«На кой черт мы с ним возимся», – подумал я и обратился к Тарасу:
– Пиши протокол от двух комитетов. А ты, Павел, будь председателем. Давайте, мужики, узаконим при нем же, – указал я па помещика. – Мы ему покажем, что такое большевики. Пиши, Тарас.
Он сел за стол, взял лист бумаги. Мужики расселись поудобнее.
– «Собрание свободных граждан двух сел, – начал я диктовать, – руководствуясь постановлением губернского съезда крестьян от 24 апреля 1917 года, а также постановлением Центральной конференции партии большевиков, того же апреля месяца, согласно предложению товарища Ленина…»
– Не признаю вашего Ленина! – взвизгнул помещик.
Сдерживаясь, сквозь зубы я продолжал:
– «…о конфискации всех земель в пользу народа, постановляет: «провести в жизнь эти указания. Считать землю Сабуренкова, всего около двух тысяч десятин, все имущество, скот, инвентарь народным достоянием. Миролюбиво распределить землю в первую очередь среди нуждающихся. Немедленно приступить к севу яровых». Написал?.. «Сельскохозяйственные орудия держать в имении. Избрать от каждого села управляющих». Так?
– Так, – за всех ответил Филя.
– Еще что? Да… напиши: «В первую очередь засеять землю вдовам и солдаткам». А теперь, – обратился я к Сабуренкову, – вы что‑то сказали про Ленина?
– Не признаю вашего Ленина. В пломбированном вагоне…
– Вон! – не дал я ему договорить. – Вон из чужого помещения! Мужики! Гоните его!
Филя будто ждал такой команды. Бесцеремонно схватил за рукав помещика, вытолкал его в двери. Следом за ним вывел озиравшегося управляющего, который что‑то пытался сказать, да так и не смог.
– Граждане, продолжаем заседание…
25– Строят? – спросил меня Игнат, кивая на плотников. Он подсел ко мне на бревно и, тяжело вздохнув, протянул: – Д–да–а…
– От какой боли застонал? – спросил я его. – Или кто помер?
– Д–да–а, – еще раз вздохнул он.
Во вздохе слышалась безнадежность.
– Говори, староста, что тебя терзает.
– Какой я староста? Отменили меня.
– Когда?
– И не знаю. Уснул старостой, проснулся – нет ничего.
– Трус ты, дядя Игнат. До революции и то храбрее был. Что ты держишься за Николая? Ведь не вышло по его. Отобрали землю.
– Это правильно, только знаешь… эх!
– Не эхай… Солдат пришлют из уезда?
– Сабуренков туда тронулся.
– Знаю. И там утерли ему нос. Уездный комитет постановил то же, что и губернский. Теперь Сабуренкову путь один – к Шингареву. Зря мы отпустили его разъезжать. Арестовать бы и держать на хлебе, на воде до Учредительного собрания.
Игнат смотрел на сруб новой избы, выросшей почти наполовину, на мусор и щепки, на кур.
Фома ловко вырубал угол, искоса поглядывая на Игната. Как бы не узнав его, Фома крикнул мне:
– Кто там с тобой?
– Не знаю, – ответил я.
– Игнат, ты теперь вроде управляющий?
– А ты руби. Мы свое дело знаем, – обиделся Игнат.
– Вон что. Выходит, новой власти слово сказать нельзя. Поделили землю с кокшайскими?
– Овес уже взошел, а ты про дележ.
– Подожди, – погрозился Фома топором, – нагрянут каратели, тебя на дубу повесят.
– Меня после тебя.
– Тогда вместе, – согласился Фома. – Вон Климов – молодец: не допустил. Эка, сын‑то какой у него!
– И у Климова возьмем! – вдруг расхрабрился Игнат. – Не все у воинского за пазухой ему сидеть. А народ – сила!
Опять Игнат другой, будто подменили. И я решил поговорить с ним по душам.
– Дядя Игнат, ты в отцы мне годишься, и не мне бы тебя учить, но послушай. Дело мы так затеяли, что ни отступать, ни раздумывать нельзя. И не думай, что все это начали мы так, сломя голову. Нет. При тебе брат мой Миша говорил, что мы должны делать, если скоро будет революция? Миша не с неба все взял. Он в партии. Теперь в Питер прибыл главный – Ленин. Он всем делом руководит. Что я тебе этим хочу сказать? А то, – если десять лет тому назад наше село хоть и пострадало, зато мы кое–чему научцлись. Тогда мужики выступали не так дружно, а теперь нет такого имения, где бы мужики не захватили землю. Пусть у некоторых в аренду взяли. Аренда полетит, дай срок! Война, дядя Игнат, война для выгод буржуев да бар разъярила нас, открыла глаза, потому и трон рухнул, как гнидой пенек. И раз мы шагнули в такое дело, надо идти твердо. Почему Временное правительство против захвата земли? Потому, что оно из капиталистов да помещиков. Кто избирал его? Само себя избрало. А раз временное, стало быть, непостоянное. Свергнут и их. Только нам не надо колыхаться. Понял, дядя Игнат? Если не понял или трусишь – не мешайся. Но стыдно тебе будет, дядя Игнат. Сын твой убит на войне. Хороший был парень. Он не стал бы раздумывать так, как ты. Вспомни о нем и озлоби свое сердце против богатеев. Гагара тебе, как гусь свинье. Держись за нас. Так‑то… – похлопал я по плечу склонившегося Игната. – Сейчас куда?
– К Федору, а от него в имение. Этой ночью чуть сад не порубили. Из чьей‑то деревни, чужие. Хорошо, собак Сабуренковых оставили.
Игнат пошел. Я посмотрел на его широкую спину, и чувство досады охватило меня. Как на такого надеяться? Мужик умный, рассудительный, но мутят его мельники. Зачем избрали их мужики?
«Но как только мы помещичью власть посократим, – так богатый крестьянин сейчас себя покажет $ свои лапы ко всему протянет, а лапы у него загребущие…» – невольно вспомнилось мне, даже не вспомнилось, а как будто чей‑то голос прошептал эти слова на ухо отчетливо: «Смотри, не смей этого забывать».
– Не забуду, – твердо проговорил я вслух, – а до Николая Гагары доберемся.
С фронта пришел Ленька Крапивник. Он заглянул ко мне вечером, когда я собрался идти к Соне. Она готовила в школе спектакль. Спектаклями начали увлекаться во многих селах.
От Леньки пахло самогоном.
– Дома? – окликнул он, глядя куда‑то в сторону. – Ага, вот где. Маменьку твою встретил, она меня обругала. «Что, говорит, друга не навестишь?» Здорово, грамотей!
– Здравствуй, Леня, – оглядел я его, удивляясь. – Как ты вырос! Тебя не узнать.
– Моя маменька тоже чуть признала. Глядела, глядела, да как завоет: «Рябой че–орт, Ленюшка, ты ли это?» Радости нам было со дна через край.
– И отец рад?
– Какой? – спросил Ленька.
Я замялся, но, быстро сообразив, ответил:
– Ну, отчим, что ли?
– Он меня басом: «Куда ранет?» А я ему: «В самую душу». – «На много заявился?» Я ему: «Как надоем, сверну монатки и – айда». Хочу тебе слово сказать.
– Говори, Леня.
– Для такого разговора вроде пропустить надо. Боюсь, слово‑то это как раз посередке горла станет. Выпить не прочь?
– С тобой, Леня, да еще при свидании!.. Подожди, кликну свою мамку, она сходит.
– Нет, не ходи. Бутылка на всякий случай тут, кусок хлеба сыщем. Много ли солдатам надо?
Уже темнело, когда мы вышли с ним из мазанки. Был теплый вечер, пахло травой, сиренью, цветом яблонь и вишен. Ходили девки по улице, кое–где звучали песни. Хорошо! Мы направились на гумно. Ленька слегка покачивался. Вдруг рассмеялся и, словно продолжая прерванный разговор, начал:
– «Маманька, – говорю, – как же так? Не было отца, а теперь нашелся?» Она: «Что ж, сынок, терзай меня». – «Зачем тебя терзать, маманька? Его надо бы за ноги повесить!»
– О чем ты, Леня? – притворился я, будто не догадываюсь.
Он повернул ко мне свое широкое лицо. При свете зари его густые усы были в точности такие же, как у Николая Гагарина. И глаза, и фигура, широкая в плечах, и походка. Только бороды не хватало.
– О своем законном… нет, беззаконном. Гляди‑ка, нашелся! А мать плачет. Ну, мне тоже тяжело. Куда лучше бы не знать. Тут вотчим на нее руки поднимать начал. Пришлось укоротить. А во мне сила – во… Показал я вотчиму кулачище, он и смяк вроде киселя. Нынче: «Ну, полусынок, полущенок, горько про тебя знать, а давай с горя хлебнем. Породнимся». Говорю: «Псжалте, вотчим, рад твоему митингу. Будь благодетель, неси». Выпили, мать угостили.
– Леня, ничего не пойму.
– Врешь. Чтобы ты, да не понял? Я и у него в гостях был. Вот–вот сдохнет. Брательник… приходил. В сени вызвал. По секрету. А какой секрет… на весь свет.
И вдруг, заломив руки, простонал:
– Сты–ы-ыд!
– Леня, кроме ваших семейных да двух посторонних, никто об этом деле ничего не знает. Посторонние – это мой отец и я. Но мы не говорили и говорить не будем.
– Зачем он, старый дурак, болтал? Зачем кричал?
– Леня, близко к сердцу не принимай. Поважнее дела есть.
Стало уже прохладно, на небе показались крупные звезды.
Мы направились домой.
Утром рано разбудила меня мать.
– Беги на въезжу. Пастухи бастуют.
Выйдя на улицу, я увидел шатающихся без призора овец и коров. В это время их обычно уже выгоняли в поле.
«Почему пастухи бунт подняли? – думал я. – Прибавки, что ль, хотят?»
Около въезжей – толпа женщин и мужиков. О чем‑то кричат, кого‑то ругают. Навстречу мне идет пастух Лаврей. Кнутовище свисает с левого плеча на грудь, как граната. Пастух в рваном кафтане, в потрепанных лаптях, на голове остроконечная шапка. Длинная узкая борода спускается на грудь, как ручей.
– Доброе утро, дед Лаврей.
– Спасибо. Только утро не совсем доброе.
– Что у вас?
– Неладно выходит. Пойдем туда, узнаешь.
Сразу обступил нас народ. Начались выкрики, упреки комитету, пастухам. Пастухи тоже ругаются. И не поймешь – в чем дело.
– Свои помещики в селе.
– Дохнуть нечем. Заперто.
– Вот и слобода. Кому слобода?
– Подождите. кричать, – говорю. – Скажите, в чем дело? Почему стадо не выгнали? Лаврей, говори.
Предварительно отругавшись, Лаврей, тоже крича, как привык кричать в поле на коров, объясняет:
– Куда гнать? На пар? Чего на пару? Скот сгрудили, поля поврозь. Ни туда, ни сюда. Чем кормить?
– Почему на барском пару или на луговине не пасешь?
Лаврей словно ждал этого слова. Обернувшись к толпе, которая все росла и росла, оживился.
– А где стадо прогонишь? Раньше два прогона было, теперь сколько лет один. Другой откупорить надо.
– Правильно, – говорю я, поняв, в чем дело. – Гони вторым. В этот конец.
– А чья земля там, не знаешь?
– Если бы не знал, не говорил. Гагарина земля. По ней и гони.
– Голову открутит.
Снова взорвались голоса:
– Весь луг перепахал. Отнять надо!
– Опять под выгон пустить!
Дело серьезное. Скот надо гонять на землю Сабуренкова, а прежний прогон входит в участок земли Гагариных.
– Есть такой закон – лишить их участков? – спросили меня.
Что отвечать? Конечно, нет. Даже о помещичьей земле нет закона, чтобы ее взять.
– Воля народа все может! – отвечаю. – Нужен сход.
– Скликайте сход.
Но скликать и не надо было. Все тут. Пришел Николай Гагарин. Он, конечно, слышал крики и знал, о чем они, но нарочно долго не шел. При его появлении все замолчали. Еще бы! Он же председатель и о его же земле шум. Кому охота первому крикнуть? Кто знает, что там будет после?
Пастухам велели гнать стадо на землю Сабуренкова. Стало быть, впервые за десять лет пойдет стадо по старому прогону, по земле Гагариных. Я послал десятского с Филиппом и остальными членами коми–тета. Чувствовал, что дело коснется не только одного Гагары.
– Пошто народ созвали? – спросил меня Николай и сощурил глаза.
– Сами собрались, – ответил я. – А зачем, спроси.
Народ все подходил и подходил. Пришагал встревоженный Филя. Он не знал, зачем так рано созывают комитет. Увидев народ, еще более удивился.
– Петр, что случилось?
– Походи среди людей, узнаешь.
Пришло несколько солдаток и мужиков из других обществ. Видимо, будет не сход одного общества, а собрание всего села.
Среди мальчишек я встретил брата Никольку.
– Беги к Павлушкиному отцу. Скажи, чтобы запряг лошадь и съездил в имение за Павлом и Федором. Туда и оттуда рысью.
Через некоторое время Филя, потолкавшись среди народа, подошел ко мне. У него таинственное лицо.
– Все разузнал? – тихо спросил я.
– Порох в народе, – ответил Филя.
Недалеко хлопают пастушьи плети. Стадо шло с другой стороны, и некоторые бабы, привыкшие к тому, что стадо выгонялось из нижнего конца села, удивленно смотрят и не могут понять, что случилось.
Но еще более непонятливыми оказались коровы. Они рвались назад. Пастухам большого труда стоило гнать стадо по новой дороге.
Николай догадался, в чем дело. Молча смотрит на идущее стадо. Лицо его посерело. Все ждут – что же предпримет председатель комитета?
– Лаврей! – вдруг заорал Николай, увидев пастуха.
Тот остановился. Николай поманил его. Лаврей, опустив голову, зашагал к нам. Стадо гнали одни подпаски. Николай, кивнув головой на поклон Лаврея, тихо, с еле сдерживаемой злобой, спросил:
– Почему с того конца гонишь?
Лаврей зачем‑то снял шапку и молча озирался по сторонам, как бы кого‑то ища. Увидев меня, обрадовался.
– На барски луга, Николай Семеныч, хочу запустить.
– А где стадо пройдет?
Пастух даже съежился и едва выговорил:
– По… по старому…
Народ постепенно окружил нас. Мы были в кольце. Все смотрят на пастуха, на Гагару, который властно, как хозяин, спрашивает:
– Там что, прогон?
– Пар…
– Чей – орет Николай.
Гагара понимал, что спрашивает не пастуха, а всех собравшихся. И не глядя на Лаврея, не дожидаясь его ответа:
– Кто разрешил гнать стадо по чужой земле?
Сердце у меня забилось, но не от робости, а от злобы.
– Мы разрешили!
Николай круто обернулся ко мне.
– Какое имели право?
– А вот узнаешь, какое. Лаврей, гони стадо.
Лаврей быстро, по–молодому, побежал догонять стадо. А я, слыша тяжелое дыхание Николая, вышел вперед и обратился к мужикам:
– Граждане, нас много. Давайте проведем собрание. Председателем Филиппа Евстигнеева, а протокол я напишу.
– Давай, давай. Говори!
– Вот, граждане, какое дело. Выходит, земля председателя комитета и его братьев вклинилась в самую глотку общества. Выгон в их руках. Все бы ничего, но теперь, когда мы землю у Сабуренкова отобрали, нам необходим прогон. И под выгон луг нужен. На нем телят пасти, бабам посконь стелить. Избранный вами председатель комитета, как мелкий землевладелец…
– Какой мелкий, – перебили меня, – дай бог каждому!
– Отобрать у него отруба и участки!
– Землю под один клин!
– Измытарили нас богатеи…
– Кто Николая старостой ставил в те годы? Земский начальник. Зачем нам в комитете такой?
Николай пытается что‑то сказать, но ему не дают и рта разинуть. Я шепнул Филе, чтобы он никого не останавливал, особенно баб. Почти каждый двор был у Гагары в долгу. Пусть выскажутся, пусть в крике изольют всю ненависть, и пусть Николай узнает, чего хочет народ. Крики о перевыборах членов комитета все усиливались. Уже называли фамилии. А когда увидели подходивших двух мельников – Дерина и Козулина, встретили их насмешками, улюлюканьем, словно воров. И верно: это были мирские воры, но крали не ночью, а днем, въявь.
Кто‑то из въезжей вынес стол, на столе оказалась бумага. Кто‑то взял меня за плечи, усадил, солдатка Маша в самое ухо кричит:
– Пиши!
И под крики, в которых ясно звучит многоголосое, хоть и не проголосованное еще поднятием руки желание народа, я записал два пункта. Встаю на скамейку, машу бумагой.
– Товарищи, волею народной постановляется: «Первое – обсудив вопрос об отрубах и участках, введенных законом Столыпина при царе, мы, граждане, силою революции отменяем этот закон и всю землю считаем общественной. Второе – разобравшись на деле, кто истинные защитники народных интересов, а кто утеснители, мы выражаем недоверие Николаю Гагарину, Василию Козулину, Денису Дерину и вместо них избираем других…» Товарищи, проголосуем, что я вам прочитал… Филипп, голосуй!
– Кто за отбор отрубов и участков, а землю поделить, поднимите руки! – закричал Филя.
Не успел он договорить, как взметнулись руки.
– Большинство! – сказал Филя. – Кто против?
Подняли и против, но то были отрубники, и далеко не все. Я случайно посмотрел на Игната. Нет, против он руки не поднял. Проголосовал Филя и второй пункт. И когда проголосовал, снова я встал на скамью и, обращаясь к Гагарину и мельникам, объявил:
– Отныне вы волею народа лишены власти!
– Ура–а! – Кругом захлопали в ладоши.
Кандидатов в комитет навыкликали полсела. Многие отказались, против некоторых выступили. Даже против Игната выступили, но я сказал за него слово. И после голосования я дочитал протокол:
– «…вместо них избрать Федора Чернова, Фому Тараканова и Марью Медведкову».
Вдруг в задних рядах народа произошло какое‑то движение, раздались восклицания, захлопали в ладоши.
– Что там? – спросил я Филю.
– Матрос Гришка заявился!
Среди расступившейся толпы шел Гришка–матрос. Одной рукой он опирался на костыль, за вторую вела его ликующая Дуня.
Гришка прошел к столу. Он поздоровался, и народ восхищенно смотрел на него, широкоплечего, в матросской шинели и бескозырке. Он не выражал желания говорить, но раздались крики:
– Скажи что‑нибудь!
Гришка посмотрел на Филю, на меня, словно спрашивая, надо ли говорить.
– Обязательно, Григорий, – шепнул я ему.
И Гриша, опершись на костыль, продолжая держать Дуню, словно боясь ее выпустить, набрал в широкую грудь весеннего воздуха, снял бескозырку.
– Дорогие товарищи, привет вам «от балтийских моряков!
Говорил он не торопясь. Рассказал, что делаетея в Питере, что такое коалиционное правительство.
– Но у нас есть великая партия, которая за интересы беднейших, за передачу всей власти в руки рабочих и крестьян. Партия большевиков и ее учитель Владимир Ильич Ленин дали лозунг: «Долой десять мииистров–капиталистов из Временного правительства!..» Кто эти министры? Помещики, фабриканты, кадеты и эсеры во главе с Керенским. Этим захват–чикам нет нужды до крестьян и рабочих! Сами эксплуататоры, сами буржуи всех стран. И второй лозунг: «Долой двоевластие! Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!» Под этими лозунгами идут многотысячные трудящиеся массы народов во всех городах. И мы, крестьяне, поддержим и пойдем по рейсам партии большевиков. Да здравствуют большевики! Да здравствует земля, мир и трудовой хлеб!
Так говорил Гришка. А Дуня стояла рядом и радостно посматривала на своего мужа.
– В комитет Григория! – закричали солдатки.
– Голосуйте! – и уже подняли руки.
– Григорий, – говорю, – в комитет тебя. Согласен?
– Воля народа, – ответил Гришка…
В один из вечеров, когда я сидел и подсчитывал вместе с Григорием количество земли, в избу вбежала Мавра.
– Ку–уму–ушка, на поминки готовься!
– Господи, – испугалась мать, – аль кого убило?
– Сам Гагара помер.
– О–ох, – облегченно вздохнула мать, – а я‑то испугалась!
26Вышел я из села рано. Посмотрел на свою почти отстроенную избу, и стало радостно, что в новой избе начнется и новая моя жизнь.
А как рада мать! Наконец‑то она заживет по–людски. В молодости вышла сюда в курную избу, затем сделала печь «набело», но все равно мрак и запах остались, а копоть навек впиталась в бревна и доски. Рад и отец, хотя он мало мне помогает. Рад еще мой братишка Семка. Бегает из избы да в избу, – такой ему простор!
Так шел я и думал, уже издали оглядываясь на свое село. Как хорошо в поле! Густые по колено проса шуршат, как молодой тростник. Овес уже выбросил свои веселые кисти. Овес лучше всех хлебов в поле. Голубая мгла плавает по ржаным полям. Рожь цветет.
Сажусь на межу. По одну сторону – овес, по другую – кудрявый, в стручках, горох. Мне хочется еще раз прочесть письмо Лены.
Каждую букву, каждое слово читал бы тысячу раз!
«Поклон тебе от меня низкий–низкий. От мамки тоже.
Нынче воскресенье. Звонят к обедне. Снарядилась и села писать. Допишу, пойду. Ты пишешь – вроде скучаешь по мне. Я по тебе тоже. Редко видимся. Больно далеко живешь. В той стороне никто из наших не был. А есть у вас речка? Мамка говорит: «Ну, дочка, оттуда ты и дорогу к нам забудешь».
Маме своей привет от меня. У нас престол – Петров день.
Вот о чем пишу тебе: если вздумаешь, ждем тебя на праздник. Сколько хочешь, столько и пробудешь. У нас большой лес. Гулять будем. Приходи, жду.
Лена»
Рву крупные васильки во ржи, и каждый василек смотрит на меня смеющимся синим глазом. Я набираю большой букет, связываю и несу перед собой. Впереди – деревня, внизу блестит река. Она течет в их село, проходит мимо их огорода. И река теперь стала мне роднее. Жара все усиливается. Иду вдоль реки по скошенным лугам. Бросаю в воду букет васильков. Пусть плывут, пусть несут Лене привет от меня.
Подходя к их селу, снова рву васильки, фиолетовые колокольчики, ромашку и еще какие‑то цветы.
Первая же девчонка, увидев меня с букетом, засмеялась. Прячу цветы под полу пиджака.
Радостно забилось сердце, когда, спускаясь к мосту, я увидел влево от здания кооператива чуть осевшую крышу с небольшой трубой. Теперь все показалось мне здесь родным. Каждая изба, мазанка, амбар, все деревья, что растут перед избами, и телеги, и плуги, и люди.
Крутая дорога к мосту, но мне кажется, что она именно такой и должна быть. И мост, и настил перед ним из бревен, и река в тростниках по краям, и все, что вижу в этом селе, – все хорошо!
Насыпь по сторонам дороги, ветлы на этой насыпи, церковь пятиглавая и величественная колокольня, стоящая одиноко, – все это родное, приветливое, какое‑то таинственное.
В лавке покупаю самых лучших папирос, смотрю на приказчика, он на меня, и уже кажется мне, что он «знает», и… приказчик тоже мне родной.
Долго стою на крыльце кооператива, смотрю на избу. Лены. Возле избы никого. И не хочется, чтобы кто‑нибудь вышел, чтобы увидели меня.
Схожу со ступенек, с трепещущим сердцем шагаю к знакомому крыльцу. Дверь в сени открыта…
– Пришел? – встретила меня мать.
– Да, – сказал я и голоса своего не узнал.
Посмотрев на меня внимательно, она спросила:
– Не хворый ли?
– Немножко устал.
Вынимаю цветы, – они помяты, – и не знаю, что р ними делать. Кладу их на стол.
– Ишь, чего. А Елька скоро придет. С подругой на речку ушла.
Понизив голос, спрашивает:
– Письмо получил?
– Получил.
Подойдя ближе, Арина тихо шепчет:
– Она жде–ет. Садись обедать.
Угощая обедом, Арина рассказала про свои дела, а я про свои и особенно о том, какую избу отстроил.
За эти два дня я познакомился со многими ребятами. Одни готовились к следующему набору, другие были, как и я, инвалиды. Знакомил меня двоюродный брат Лены, Федя, широколицый, низкорослый парень, с виду грубоватый. Мы с ним были вместе больше, чем с Леной. На людях я стеснялся с ней не только ходить рядом, но и просто к ней подойти. Так и казалось, что все знают, кто я для Лены и зачем пришел из далекого села. Кроме того, со стороны лучше, свободнее смотреть на нее, слышать ее голос, видеть ее походку. Федя знал о наших отношениях с Леной и потому охотно ходил и говорил со мной.
С Федей свела меня Лена, и хорошо сделала. Чужое село, чужие ребята. Лишь по вечерам мы с Леной оставались одни.
На Петров день после обеда к Лене зашла подруга. Учтиво поздоровалась со всеми, хитро посмотрела на меня и позвала Лену на улицу. Я заметил, что Лене не особенно хотелось идти.
– Пойдемте с нами, – обратилась соседка ко мне. – В лесу ягод много, – и опять с едва заметной усмешкой посмотрела на меня.
При выходе мы встретились с Федей. Он словно подгадал так прийти. В хороводе было больше девок, чем ребят. Мы с Федей нарочно приотстали. Он что‑то рассказывал мне, но я глаз не спускал с Лены. Около нее и соседки увивались двое, но девки пели песни и не обращали на них внимания. Прошли улицу, гумна, затем межами через ржаные поля к лесу. Перед левом широкий, наполовину скошенный луг. В сторонке отлогая, в цветах, лощина. Она как бы вытекала из леса.
– Хорошо у вас, – сказал я Феде.
– А у вас тоже есть лес?
– Есть, но не такой.
– Село большое?
Я рассказал, какое наше село, сам думая о том, как остаться с Леной. И когда все забрались вглубь леса, а некоторые девки поотстали, собирая ягоды, я спросил Федю:
– Не потеряем мы наших?
– Сейчас, – догадался он и быстро скрылся.
Скоро послышался его голос. Он окликнул не Лену, а ее подругу. Я стал за березой и с замиранием сердца ожидал, когда они появятся. Идут втроем, Федя что‑то весело с ними балагурит, затем начинает озоровать с подругой Лены, совсем отогнал ее, увел в лес, и Лена, для приличия покричав своей подруге, оглядывается, как будто ищет кого.
– Лена, – позвал я.
Она шла с тревогой в глазах, поминутно оглядываясь. Густая краска залила ее щеки.
– Лена, ты кого боишься?
– Никого.
– А Федя хи–итрый. Видишь, как отогнал подругу.
– Ох, эта подруга! – вздохнула она.
– Недогадливая, что ль?
– Чересчур догадливая.
Мы идем в лес. Кусты и ветви цепляются за одежду, но мы не обращаем внимания на это и все говорим–говорим – о чем придется. И я слушаю не то, что она говорит, а ее голос. Этот голос, этот медленный говор ее я буду слышать всю жизнь. И чувствую, никогда–никогда он мне не надоест. Нет, с каждым днем еще милее и ближе, еще роднее и любимее будет становиться она. У нее горделивая походка, она гибко обходит кусты, она такая нарядная. И не верится мне, что мы с ней одни, что никто нас не видит и что вообще это не сон.
На опушке я собираю пучок незабудок, подаю ей.
– Ты, я вижу, любишь цветы, – говорит она.
– Ты лучше всех цветов, Лена.
– Вон как. Я думала, ты только по вечерам это мне говоришь.
– Нет, я тебе и при восходе солнца так скажу.
И говорю, говорю, и щеки мои пылают, и сердце бьется все сильнее. Но нет и тысячной доли тех слов, которые мелькают в голове. И не словами, а каким‑нибудь подвигом, самоотверженным поступком хочется мне доказать ей свою любовь.
Мы садимся возле куста калины. Слушаем шум и говор леса, пение птиц. Где‑то далеко играет гармонь.
– Лена, – беру я ее руку, – прикажи мне, что угодно, все для тебя сделаю. Веришь?
– Верю.
– Скажи, любишь?
Она смотрит на меня, строго смотрит, как бы чи–тает что‑то в моих глазах, а может быть, решает мою и свою судьбу и тихо улыбается.
– Скажи, Лена.
– Девки… об этом не говорят.
– А как же они говорят? – с замиранием сердца шепчу я.
– Вот так, – и она, зажмурив глаза, обнимает меня.
– Леночка! – чуть не кричу, целуя ее, – ты моя настоящая любовь. Никому не уступлю тебя. И никто никогда не полюбит тебя так, всем сердцем, как я.
Она кладет мою голову к себе на колени, нагибается и приникает щекой. И я чувствую, как мне на лицо падают ее теплые слезы.








