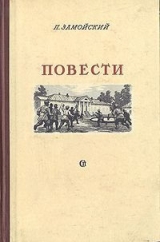
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Полночь. Целые стада звезд и огромное стойло их в самой середине. А те, что поярче, – словно пастухи.
На базар едет подвод около двадцати. Впереди и сзади слышен скрип. Едем тихо, не отставая и не обгоняя друг друга.
Удивительно, что Карюха ни разу не остановилась. И телега, такая рыхлая днем, в порожняке, теперь, ночью, под тяжестью как бы окрепла: колеса не скрипят, сама не кренится в стороны. Отец туго обвязал воз канатом. Я хотел было идти пешком все двадцать пять верст, но отец усадил меня на воз.
Нет, хорошо ехать ночью, вместе с людьми! Спокойно и как‑то даже величественно. Будто не лошадь везет, а все идет само собой, будто земля тебя движет. Отец то вперед к мужикам уйдет, то вернется к своему возу.
Почти все везли овес. Отец насыпал тридцать мер.
Два дня чинил он телегу, стучал по колесам, смазывал. Мать наказала найти соли и керосину. В лавочках это было уже редкостью.
В кармане у меня семь рублей, полученных от дьякона.
Сижу на возу и покуриваю. Спать не хочется.
Отец идет с Василием, по прозвищу «Госпомил». Это набожный мужик, хитрый и жадный. С отцом они дружат, и, что совершенно удивительно, он отцу иногда кое в чем помогает. Они о чем‑то беседуют, отец то и дело указывает на звезды. Вероятно, оба дивуются: «Сколь велик всевышний творец».
– Это ты, Петька? – вдруг слышу голос.
– Да, я, но тебя не узнаю.
– Дай папироску. Говорят, ты богатый – папиросы куришь.
– А–а, здравствуй, – наконец‑то признал я Ваньку Павлова, сына маслобойщика, за которого просватали Катьку Гагарину.
– С отцом едешь или один? – спросил я, протягивая ему папиросу.
– Мы на трех подводах сразу, – сказал он весело.
– Что, с вас подати требуют?
– Подати мы уплатили. Другие расходы на большие дела. Аль ты ничего не знаешь?
– Нет, – сказал я.
– Вон как, а я думал, знаешь… Нарочно к тебе хотел зайти, да ты, может, и знаться со мной теперь не хочешь.
– Почему? – действительно удивился я. – Вы – богатеи, а мы – кто?
– Не в богатстве дело. Ты шибко в грамоте наторел, песни для девок сочиняешь. Ведь это ты про меня так сочинил:
Гармонист, нажми лады,
Мне жениться не рука,
Что‑то с девкой нелады
Полюбила грыжака.
Мне стало неловко. Частушка не особенно в пользу Ваньки, но он, дурной, видно, доволен.
– Я тебя, Петька, на запой хочу позвать. Очень хочу.
– Ты разве женишься?
– Как же! Сосватал.
– Кого?
– Ка–катюшку Гагарину, – еле слышно проговорил Ванька.
– Ка–атюшку–у, – с притворным страхом протянул я, – а Фили не боишься?
– Ей–богу, боюсь, – честно сознался Ванька. – Грозит избить меня. А за что? Я не виноват, раз ему отказали. Прошу тебя, поговори с ним, – вы дружите.
– Ванька, это дело серьезное. Катька была просватана за Филю, – это раз; он вернулся с фронта злой, как зверь, – это два; а в–третьих, он на тебя еще больше зол, как и все инвалиды: сознайся, что никакой у тебя грыжи нет.
– Ей–богу, есть, – испугался Ванька. – Хошь покажу?
– Поглядел бы, да сейчас не видно.
– От натуги она. Давило на маслобойке поднимал.
– Остерегайся Фили. А мне скажи прямо, я промолчу: сколь подсунули воинскому?
Ванька вздохнул и не ответил, потом подошел ближе и, держась за телегу, умоляюще проговорил:
– Петя, будь друг, постой за меня. Что тебе надо, все дам. Хошь, налью бидон подсолнечного масла?
– Хочу, – сказал я. – А за что?
– Тебя уважают ребята–инвалиды. Скажи им, что, мол, ты сам видел у меня грыжу, – и все. Ладно? Тебе это ничего не стоит.
– Пустяк один. Скажу – с целый горшок.
– Хоть с чугун, только замолви. Дай еще папироску. Куплю, пачку отдам.
Я еще дал ему папироску.
– Так на запое будешь? А на свадьбу и мать–отца твоих позовем. Вы нам дальние родные: твой и мой деды двоюродные братья были.
– Зови, коль родные.
– Вот хорошо! – обрадовался Ванька. – И еще у меня просьба: песню сочини про меня хорошую и на запое при всех прочитай.
Это задача не легкая! Но как он ластится ко мне!
– Сочинить можно, – говорю ему. – Только чем вот тебя похвалить? Может, про грыжу что‑нибудь?
– Нет–нет, вроде про красоту. Вроде, какие мы с Катькой хорошие! Да ты знаешь. Приври чуток.
– И все за один бидон масла?
– То – плата особая.
– Если особая, дело другое.
Мы подъезжаем к березнику, про который издавна ходит худая слава. Отец, когда мы выехали, сказал:
– Беспременно надо с людьми держаться. Слышь, пошаливают в березнике. Дезертиры, говорят, в кусты набились.
Мужики громко, подбадривая самих себя, начинают перекликаться, но каждый идет к своей телеге. Идет и мой отец. Ванька на прощанье спрашивает еще раз – буду ли на запое, я киваю. Он уходит, вернее, бежит, да так, что его и на лошади не догнать. Какая там у него грыжа!
– Петя, топор мы не потеряли? – спрашивает отец и ищет сзади топор.
Мне смешно. Эдакое тяжелое орудие! Но отец отыскал топор, даже потрогал острие. А топором этим только мокрую глину рубить.
– Тятя, положи‑ка ты топор на место. Страшно.
– Что страшно, сынок?
– Вдруг он выстрелит! Лошадь напугается.
Отец кладет топор ко мне на колени.
– Держи‑ка, сынок, в случае чего…
Въехали в березняк. Тьма. И во тьме в лесу четко слышно движение обоза. Говор, скрип колес, дыхание лошадей. Лошади настороженно храпят.
– Пошел, пошел! – кричат сзади для храбрости, для острастки, и гулкое эхо раскатывается по лесу.
Когда выехали опять в поле и лес остался позади, – загадочный и немой, – отец вздохнул и первым делом вынул свою табакерку, понюхал, весело крякнул.
– Что, тятя, молитву, небось, читал?
– Береженого бог бережет, – сказал он.
Я спрыгнул с телеги и чуть не упал, – отсидел ноги. Ехали теперь широкой дорогой вдоль столбов. На фоне зари – тени зданий возле станции. Слышны гудки паровоза. Вот и полотно железной дороги, одинокая будка. Рядом с ней переезд. Шлагбаум открыт. Мужики торопят лошадей, чтобы скорее переехать через полотно. Скоро и наша очередь. Отец нахлестывает Карюху, но она шагу не прибавляет. Вдруг шлагбаум, похожий на верею колодца, дрогнув, начинает опускаться.
– Поезд, поезд! – закричали впереди.
Поезд был еще далеко, но мужики уже прикрыли лошадям глаза, некоторые подводы свернули в сторону. Прикрыл глаза Карюхе своим картузом и отец. Стоит, насторожившись, и, как бы оправдываясь, говорит:
– Она, дура, метнется, ось сломает.
Скоро, сверкая огнями, показался санитарный поезд.
Отец, увидев кресты на стенках вагонов, трижды «осенился», а Карюха стоит себе как ни в чем не бывало. Над ней хоть гром трахни или снаряд разорвись, – все равно.
Поезд, мерно грохоча, как гигантская веялка, скрылся, хищно мелькнул за поворотом красным огоньком и ушел вдаль, к Пензе.
Скрипя, поднялся шлагбаум, и подводы, торопясь, тронулись через переезд.
Взошло солнце и сразу осветило все, что было покрыто туманом, находилось во тьме. В крайних дворах поселка голосисто пели петухи…
Въехали в огромное базарное село. Не успели добраться до половины улицы, как со всех сторон невесть откуда к нам нахлынули люди.
– Что везете? – слышалось то возле одной, то возле другой подводы. – Почем?
Среди скупщиков было много военных. Один подошел к нам, ощупал воз, спросил отца:
– Почем отдашь, старик?
– Как на базаре, родимый.
– Там рубль сорок. Даю полтора.
Отец закряхтел. Эх, как бы не обманули?
– Нет, я на базар отвезу.
Некоторые уже остановились, торгуются. Пронырливо шныряли и штатские, скупщики оптовых лабазных купцов. Кое–где начались пререкания между ними и военными. Еще подошел к нам в поддевке юркий, остробородый.
– Овес, что ль? Развяжи, – и он уже запускает руку в воз.
Его за руку берет военный и чуть не отталкивает.
– Я закупил.
– Закупил, да не купил? Почем?
– Два целковых, – говорю я наобум.
– Рупь семьдесят хочешь?
Эге, вон что! Значит, овес подорожал. Нет, надо везти на базар.
Кто‑то из расторопных мужиков сбегал на базар, узнал цену. Цена разная, но не выше двух рублей пуд.
А военный снова вернулся.
– Ну, солдат, для армии продавай, а не мародерам. Раненый?
– Так точно, господин унтер, – ответил я. – Продать можно. Цену говорите сразу, чтобы не торговаться.
– Рубль шестьдесят.
– Прибавляйте пятнадцать копеек и говорите, куда везти.
– Ехать недалеко, прибавлю еще гривенник.
И весь наш обоз рассыпался – кто куда. Пока ждали очереди у амбара военного интендантства, пока ссыпали, утро разгулялось. Отец принес в платке кучу денежных марок, связанных в стопки. Начиная с желтых – копеечных, на которых портрет Петра Первого, и кончая десятикопеечными с Николаем Вторым. Считать их – обоим хватит на два дня.
Порожняком едем на базар. Уже открылись лавки, ларьки, снуют бабы с бутылками.
– Хмельного квасу, квасу! – выкликают они сонными голосами.
Посреди базара наглухо огорожен пруд, а в нем ключевой родник. Ключ очень сильный, и вода из пруда стекает в три огромные, соединенные лунками, колоды. Возле них, обросших зеленой слизью, трязь, топь. И гуси, гуси! Целые стада. Так и лезут под телеги, под ноги лошадям, копаются в овсяной розвязи. Много тут для них корма. Но и сами нередко попадают в чей‑либо мешок.
Пьют лошади, увязая ногами в тине, и тут же рядом, припав грудью на край колоды, пьют хозяева.
Отец пил, сняв картуз. Лысина его блестела на солнце. Чмокнув копытами, напившаяся Карюха выбралась из топи, и отец повел ее туда, где останавливался народ.
Подводы все ехали и ехали – порожняком и с хлебом. Из трактира слышались уже пьяные крики, звуки граммофона. Вокруг торговались, хлопали по рукам, пьяно кричали. Баба несла на базар солдатские штаны и ботинки. Собаку, потерявшую хозяина, гоняли от подводы к подводе. В кузницах – стук и грохот. Привезли готовые колеса, оси, дуги. Теснее становилось на базаре. Пиликнула гармонь, раздался припев и смолк. Видно, хватил гармонист, да маловато. Девок, сколько девок! Ходят гурьбой, грызут семечки, смеются. Два пьяных. Один несет арбуз, другой четверть с бражкой. Подошли к чьей‑то телеге и – хрясь арбузом, только зерна. Как искры, в стороны да лошадь вздрогнула. Тут же пьют из горлышка и закусывают арбузом.
Идет ватага ребят. Видимо, очередные рекруты. Шумно и озорно толкают встречных девок. Врываются в кучу молодых солдаток. Смех, визг и притворная ругань.
Наконец‑то идет мой отец. И не один – опять с Госпомилом. Они несут по большому арбузу и по половинке пирога. По глазам видно, что отец уже хлебнул. Идут, о чем‑то весело разговаривая. Отец раскраснелся, хотя и без того он красный, а Госпомил посинел.
– Петя, проголодался?
– Долго ты там пропадал.
– Мы сейчас живо. Держи арбуз. Ну, кум, – обратился он к Госпомилу, хотя тот никогда кумом ему и не был, – давай расстилаться вот тут.
Отец бросил под телегу соломы и сел на корточки. Госпомил тоже присел, а затем и лег. Карюха мерно жевала овес.
– Садись, сынок. Ну‑ка, кум, давай твою почнем, – мигнул отец Госпомилу.
– Господи, благослови и помилуй, – перекрестился Василий и вынул из кармана бутылку.
Отец наливает полную чашку и дает мне первому.
– А сами? – говорю я.
– Мы, сынок, как тебе видать, согрешили чуток, греши ты.
– Если так, ладно. За отпущение ваших грехов!
Хорошо закусывать сладким арбузом эту пахучую жидкость. Дешевая колбаса, белый пирог–калач. Отличные калачи пекут у нас в Пензенской губернии, нигде таких еще не встречал. Пышные. Сожмешь пирог, хоть в карман клади, отпустил – опять гора–горой.
В голове у меня закружилось, на душе отчего‑то радостно, кровь заиграла в сердце. Отец и Госпомил говорили и говорили, не слушая друг друга. Отец наш, когда выпьет, – разговорчивый! Откуда только слова берутся! Теперь хвалился, сколько у него сынов на войне. Каждого сына откладывал на пальцах. Начал с мизинца. На мизинец пришелся старший, Мишка.
– Р–раз – этот в штабе Изборского полка писарем. Д–два, – он отложил безымянный, – Захар. В плену. Тр–ри, – указал он на меня, – вчистую. Четыре, – отложил указательный, – Филька, воюет! Пя–ять, – он загнул большой, – Ваську скоро возьмут!
Пальцев не хватило на левой, он начал загибать на правой, но с большого.
– Ше–есть – Николька через год. Се–емь, – пригнул указательный, – малыш Семушка. Бог не приведет ему воевать. И две дочери, – сразу отложил отец еще два пальца. Остался только один мизинец, и он, улыбаясь невесть чему, поковырял им в носу. – Вот это мы–ы!
Они совсем опьянели, легли под телегу. Хотя у меня сильно кружилась голова, но я помнил о покупках и о том, что ехать домой надо засветло.
– Отец, – говорю, – пойду на базар. Гляди тут за лошадью, как бы не увели.
– Уведут? – удивился отец. – Карюху уведут!? О–о, да они с ней наплачутся. Карюха… на роду мне написана, – изрек он и вдруг запел:
Госпо–одь пасе–ет мя
И ничтоже мя лишит.
Василий тут же подхватил:
Госпо–одь пасе–ет мя,
На воде покойне воспита мя.
И загудели! Отец баском, Госпомил трескучим тенором. На клиросе они поют вместе.
– Ну, ладно, весели мя, воспита мя, только деньги, отец, не потеряй.
Он, не переставая петь, потряс головой, и, уходя, я слышал еще:
Аще бо и пойду
Посреде сени смертныя,
Не убоюся зла…
Первым делом я направился к лавкам краснорядцев, чтобы купить материи на рубаху и штаны. Возле лавок толчется много баб и девок. Едва–едва пробрался к прилавку. Глаза разбежались. Какой материи и какого цвета купить мне на рубаху? На брюки еще знак}, но на рубаху! Голубую, алую, белую в полоску, синюю с горошком? Нет, не знаю, какая будет к лицу. Стою среди чужих баб и девок, да еще голова кружится.
– Эй, Петька, – слышу женский голос, и вот чья‑то рука на плече.
Рядом со мной – улыбающаяся солдатка Маша.
– Ты чего тут, солдат? – спрашивает меня и смеется. – Аль невесте на сарафан выбираешь?.. Н–на, да ты никак выпил!
– А что же мне не пить! – храбро отвечаю ей.
– Может, на рубаху себе приглядываешь? Давай уж, я тебе выберу.
Она пробралась к прилавку и начала перекидывать штуки.
– Ситцевую тебе или сатиновую?
– Самую лучшую, – сказал я, так как всегда путал, что такое ситец, сатин да еще сатинет.
– Вот эта хороша? – показала она голубую с красным отливом.
– Давай.
– А эту? – показала она синюю с белыми полосками.
– И эта хороша.
С десяток она показывала мне, и я, как дурак, все время говорил «хороша».
Убедившись, что ничего я в этом деле не смыслю, Маша начала прикладывать материи ко мне и, наконец, уже не спрашивая, крикнула торговцу:
– Режь вот этого четыре аршина.
Материю на штаны тоже она выбрала. Когда все купили, она спросила:
– Еще чего купить?
– Ничего. А тебе что за хлопоты?
– Тоже ничего… Хотя подожди… Ты письмо от меня мужику на фронт напишешь?
– Еще какое…
Отойдя от лавки, я увидел, что навстречу движется орущая толпа инвалидов. Их человек с полсотни. Впереди наш Филя Долгий, в обнимку с широкоплечим, но полусогнутым незнакомым инвалидом. За ними остальные, – выстроившись в ряды по пять человек. Кроме «ливенки», у них еще две балалайки и бубен. Народ, дивуясь такому зрелищу охотно уступал дорогу. Я пошел навстречу. Это же мои знакомые и незнакомые собратья…
– Петя–а! – узрел меня Филя и положил на «ливенку» свою огромную лапищу. – Дру–уг, ты тоже тут! А я… не знал… Ну, теперь с нами. Теперь… не уйдешь. Друзья! – обратился он к толпе инвалидов и взмахнул ручищей. – Вот он самый, о котором я говорил. Инвалид по третьей группе. Песни составляет, прошения пишет, нашего брата утешает, богатых ругает, у кого невест нет, сразу найдет, посватает. Вот он какой. Где тут Илюха? Эй, Илья!
А Илья уже тут как тут. Пьянее всех он. Увидел меня и сразу полез целоваться. Слезы у него на глазах.
– Воины лобызаются! – заорал чуть не на всю площадь Филя. – Братайтесь, друзья! Требуем мира! Орите, дьяволы, калеки: ми–ира–а!
И полсотни глоток загудело на разные голоса:
– Ми–и-и–ира–а!
А Илья не отпускает меня и все шепчет:
– Женюсь я, ей–богу, женюсь. В Тучине сватаю вдову, солдатку… Иде–от!
Не слушая Илью, я смотрю на подвыпившую толпу собратьев.
– Филя, что это такое? – спрашиваю я. – Куда ты ведешь их, зачем?
Он расхохотался, но смех его был невеселый.
– Устрашаем, – ответил он, и единственный глаз его стал еще острее, пронзительнее.
– Для чего, Филя?
– Шагай с нами. Напьемся, бунтовать пойдем. Нам теперь море по колено. Пьем, братцы!
– Пьем! В трактир! Веди, взводный!
– «Всё тучки, ту–учки понависли…» – запел хриплый голос.
Я отошел и остановился возле чьей‑то телеги. Первым, выставив грудь, шагал Филя с черной повязкой на глазу, без фуражки. Он выше всех на голову, широк в плечах и сутул.
– «Во поле па–ал тума–ан», – взревели инвалиды.
Почти все шли в ногу. Сзади на костылях прыгал мальчик, лихо заломив картуз.
…Лошадь шагала тихо, нас обгоняли, некоторые насмешливо кричали что‑то, но я, погруженный в думы, не обращал на это внимания, а отец и совсем ничего не слышал. На него «снизошло» от выпитого еще на дорогу самогона, и он все пел, и пел на разные «гласы» псалмы. Смертная тоска охватывала от его пения, но я не останавливал отца. Пусть поет. Лошадь, хлопая ушами, все шла и шла.
Вдруг отец на полуслове замолк, тихо качнулся, вожжи выпали у него из рук, и он наклонился назад. Я соскочил с телеги, схватил тянувшиеся по земле вожжи и сел. Отец лег вверх лицом, все еще шепча что‑то. Я смотрю на его лицо, на покатый лоб, выдвинувшиеся скулы и думаю: вот он, мой отец! Я так привык и к лицу его, и к голосу, к оханью и кашлю, и к этому полному безнадежности, любимому его слову «нужда», так привык, что не могу понять – люблю ли я отца или чувствую к нему что‑то вроде ненависти, смешанной с жалостью. Может быть, мать права, что мы такие бедные из‑за отца. Он неповоротлив, непредприимчив, сноровки в нем нет и в руках не «кипит».
Но почему виноват один отец? А я сам? С печалью смотрю на левую руку. Вот я весь тут. А сколько было юношеских мечтаний выбиться в люди, семью вытащить… Старуха Агафья говорит: «Голова‑то есть!» А что она, эта голова? Только думами вот терзает. И осталось мне письма от солдаток на фронт писать, псалтырь по покойникам читать да разве злые поба сенки сочинять.
Кто знает, до чего бы я додумался, если бы вдруг не пошел крутой спуск. Лошадь наша – старая, малосильная, – к ней подходила пословица: «Под гору вскачь, а в гору хоть плачь». Она и понеслась вскачь, подталкиваемая сзади телегой. Удержать ее невозможно. Лишь бы с дороги в сторону не свернула. Отец проснулся и, не разобравшись, в чем дело, ни с того ни с сего, под грохот худой телеги, вдруг запел «Когда б имел златые горы».
Вдруг телега хряснула, выскочил шкворень, лошадь с разбегу рванула и понеслась с одним передком, а мы оба полетели и ткнулись в песок. Очухавшись, поднялись.
– Вот тебе, отец, и «златые горы»!
– Ох–ох, – потирал он лоб, – и что ее пес гонит, эту Карюху!
А Карюха, закончив свое разбойное дело, паслась сколо кустов.
Дальше ехали молча. Из отца весь хмель вышибло.
Я вспомнил о Ваньке Павлове и, еще не решив – пойду к нему на вечер или нет, – начал составлять стихи. О своем условии я рассказал отцу.
– Хорошо ли будет продать стих за… постное масло?
– Стих не овца, плоти не имат, – ответил отец.
– Совестно как‑то… стихами торговать. Вон царь Давид псалмы писал только для бога.
– Песнопевец богат был, в масле не нуждался, – успокоил меня отец.
11Раннее утро. Я лежу на кутнике, но уже не сплю. Прищурившись, втихомолку наблюдаю за матерью. За последние дни она стала озабоченной, задумчивой, печальной. Раньше, несмотря ни на что, она улыбалась, любила с бабами побалагурить, звонко отругать отца, который от этого на короткий срок оживлялся, а теперь она почти все время молчит, хмурится. Мать что‑то таит, и, судя по ее крепко поджатым губам, она об этом никому не скажет.
Я хотел было встать, но отворилась дверь и, как всегда, с шумом вошла кума Мавра, подруга матери, сплетница и всезнайка.
– Чего я слы–ышала, ку–умушка, – тревожно и нараспев начала она, – бают, ты… – и вдруг осеклась.
Я не видел, кивнула ли ей мать, пальцем ли погрозила, но только заметил, как кума, быстро и таинственно оглянувшись на кутник, где я лежал, прищурившись, закрыла ладонью свой неумолкающий рот и спешно на цыпочках прошагала к печке. Они зашептались, кума изредка от нетерпения мычала и хлопала себя руками по ляжкам. Но она не из таких, чтобы только мычать и томиться в неведении.
– Да ведь он дрыхнет, кума, – проговорила Мавра.
Поняв, что они стесняются именно меня, видимо, боясь разбудить, я нарочно тихонечко захрапел.
– Так и есть, без задних ног…
– Вчера долго не спал, – говорит мать. – Рука, слышь, ныла.
– Видала ты ее, руку‑то?
– Не кажет. Перевязку в мазанке делает, а то выгонит из избы всех.
Кума вздыхает. Она от души сочувствует моей матери, любит ее, хотя ссорятся они частенько.
– Как же это ты так, а? – после некоторого молчания опять спросила Мавра. – И чего же она, дура, тебе сказала?
– Да от кого ты сама‑то слыхала? – с испугом спросила мать.
– От кого? Небось, у нее у самой вода не держится, – пояснила кума.
– Молчи, услышит, – опять шепнула мать.
А я еще более насторожил уши. Дело‑то, видимо, касается меня. Тут, как нарочно, мать велела Семке мыть в чугунке картошку, и братишка, смирный такой да тихий, вдруг так развоевался с картошкой, так усердно начал крутить палкой в чугунке, что мне стало совсем ничего не слышно. Лишь обрывки слов доходили до меня.
– Дура она, дура и есть, – громко воскликнула Мавра, видимо, не сдержав пыла.
– Хоть ты молчи, кума, – попросила мать.
– Я‑то молчалива, – привычно сказала Мавра, – я, как вон камень, – слова не выбьешь, а ей, хвастунье, язык бы отрубить.
Мать еще что‑то сказала и сокрушенно вздохнула.
– За кого же она ее метит? Аль за прынца какого? – задает вопрос Мавра.
Мать на это что‑то прошептала и начала возиться в печке. Мавра дальше пошла:
– Это где их нынче с руками–ногами взять?
– Не ори ты! – сердито окрикнула мать.
– Говорю, спит. Слышишь? – успокаивает Мавра.
– Только бы не узнал. И так‑то все в думах убивается.
– А то разь не убьешься… А сама девка‑то как? – спросила Мавра.
– Ее не было.
Я начинаю догадываться, в чем дело. Мать где‑то потерпела поражение из‑за меня, но где, у кого?
– Картошка готова! – звонко крикнул братишка, будто такая радость – вымыть картошку.
Мать сливает грязную воду, наливает свежей й сердито ставит чугунок в печь.
Разговор у баб внезапно переходит на Гришку–матроса.
После того как Гришка вдребезги разнес сени у тещи, он сам слег в постель. Ничего не ел, только пил и до того исхудал, что мать и снохи забеспокоились.
Мавра рассказывает так подробно, будто следила за каждым шагом Гришки.
– Как‑то в самую полночь Гришка встал, обулся, оделся, ушел в мазанку, достал из сундука свою старенькую гармонь «саратовку», заиграл на ней так‑то жалобно, что домашние проснулись, снохи заплакали, мать запричитала. В мазанку никто не пошел, боязно было. А он плакал, видать, прощался с несчастной жизнью. Вот она какая беда! – вздохнула и прослезилась Мавра. – Утром Гришка, бледный такой, распрощался с семьей, поклонился матери в ноги, взял в свой сундучок бельишко, краюху хлебца и вышел на огород, а с огорода на гумно, а с гумна в поле и полем‑то и пошел, а куда… невесть…
– О–ох, – вздохнула мать.
Мавра – уже шепотом, с радостью в голосе, добавила:
– А ребеночек‑то все хире–е-ет.
– Дал бы ему бог.. помереть, – сказала мать.
Я кашлянул. Этого Мавре вполне было достаточно.
– Эй, солдат, проснулся? – подошла она ко мне. – Я тебе чего принесла–а, – запела она.
– Покажи.
– Ты совсем проснись.
– Не знаю, как тебе еще проснуться, – и я, набрав в грудь воздуха, вдруг пропел петухом.
Мать засмеялась, захохотал Семка, весело стало и Мавре.
– Вот–вот, угадал, Петя. На, возьми своего тезку.
Она подает мне сверток. Я беру его, развертываю.
В нем большой зарезанный петушок.
– Спасибо, тетка Мавра, за этого кукареку. Дай бог тебе жениха веселого.
– Ой! – просияла Мавра. – Ой, ма–а-атушки, чего мне, озорник? Жениха? Слыхала, кума? А Тимоху, урода моего, кому? Э–эх, года не те, а то бы я…
– Чего бы ты, дура? – спросила мать.
Мне припомнилось, как мать раньше не раз упрекала отца за какое‑то ведро пшена… и Мавра при Этом упоминалась. Но то было так давно…
– На запой кто звал? – вдруг спросила меня Мавра.
– И позовут, не пойду, – сказал я.
– Чтой‑то? А ты иди. Глядя на других, завидки возьмут. Вот в доме и сноха будет.
Мать сдержанно вздохнула и помелом начала расчищать под печки. Сейчас сажать хлебы.
– Это что за сноха? – спросил я.
– Матери сноха, тебе жена. Чай, тебе, дураку, жениться пора. Женись, пока я жива. Эх! потопаю на твоей свадьбе.
Я покраснел. Мне стало так же совестно, как и прежде, когда к нам приходила Елена, мать Усти, и твердила моей матери, что, как только мы с Устюшкой подрастем, нас поженят.
– Дай‑ка цыпленка, – подошла ко мне мать и, смеясь, взяла от меня подарок. – Женишь его, – жалуется она Мавре, а сама испытующе смотрит на меня.
– Говори, кого сватать, – не отстает и Мавра.
– Ну вас к лешему, отстаньте, – рассердился я.
– Уйди от него, кума, – сказала мать. – Не любит он про это.
– Эх, а мне и домой пора, – спохватилась Мавра, но в голосе ее чувствуется, что она и еще посидела бы.
Она ушла. Мы долго молчим. Я знаю, что мать больше моего тяготится этим молчанием.
Во время завтрака вошел Ванька Павлов. Помолился на образа, поздоровался со всеми за руку. Даже Семке руку подал, и тот, как большой, протянул свою крохотную лапку.
– Помнишь наш уговор? – сразу по–деловому спросил он.
– Помню, – ответил я ему.
Он вздохнул и просиял. Рассказал моему отцу и матери, о чем мы с ним уговорились. Мать еще не знала об этом и с удивлением, со страхом посмотрела па меня. Она почему‑то боится, как бы меня кто не побил.
– Нет, мамка, это будут добрые стихи, – пояснил я. – В них я Ваньку похвалю.
– На распев? – захотелось знать матери.
Тут уже Ванька объяснил:
– Сначала он сам их на запое у нас прочитает, а там и на распев пойдет. Готовы?
– Дело за маслом, – говорю я.
– Не подмажешь – не поедешь, – молвил отец про себя.
– За маслом дело не. станет, – заявил Ванька.
Я смотрю на отца. У него хитрые глаза, он улыбается.
– Тятька, бери бидон и иди к ним.
Но тут Ванька встревожился.
– Подождите. Скоро тятя уйдет, и я тогда сестру пришлю, скажет.
– Гляди, воды в масло не подбавь. Узнаю – такое тебе в стих вкачу!
Ванька даже перекрестился, что не обманет.
Перед обедом прибежала его сестренка и сказала только одно: «Приходите».
Отец собрался, мать подала ему жестяной бидон. В обед мы картофель ели с маслом. Сочинять стихи предстояло потом.
Нелегко они давались. Не рифма трудна, а смысл. Он должен быть двойной, с тонким намеком. Ведь читать я буду на запое у Гагариных, а они не дураки, особенно Николай.
Сижу, грызу ногти. Мать смотрит на меня, вздыхает и, видимо, жалеет,, что мы взяли масло, но прямо об этом не говорит, а вот так:
– Петя, масло‑то вроде горчит. Не отнести ли назад?
– Ничего, мать. Не бойся, напишу.
…В избах Гагары за столами полно народу. Против окна – Ванька и невеста. Я несмело поздоровался и не знал, куда девать картуз, но Николай нашел ему место на гвозде. Меня усадили за стол. В голове только одно – не забыть бы стихотворения.
Успокоившись, я осмотрелся. Случайно или нет, но меня посадили рядом с Настей. По другую сторону ее – ненавистный мне Макарка. Но я с правой стороны, значит, она со мной, а не с ним.
Взглянул на Ваньку. На лиде у него написано блаженство. Столы завалены всяческими яствами, словно это не запой, а уже настоящая свадьба. Да, роднятся два богача нашего общества, женится тот, которому давно бы на войне надо быть. Вон еще второй грыжак – Макарка. Злоба взяла меня. Хотелось выйти из‑за стола и убежать. Зачем я сюда пришел? Масло нам нужно? На черта оно! Нет, все озорство мое.
Николай налил жениху, невесте, всем, кто сидел за нашим столом, в небольшие стаканчики самогону.
– Ну‑ка, молодежь, покажи пример старикам.
Шум все сильнее и сильнее. Какие там стихи! Да я уже и не думал, что придется их читать. Мы говорили с Настей, вспоминали прошлое, я рассказывал ей о своей жизни в трактире. Еще налил нам Николай по стаканчику. Это был чистый, как слеза, перегон. Вдруг Николай встал и огласил:
– Гости дорогие, потише. Хочу вам слово сказать.
Гости постепенно затихли. Еще бы, говорит хозяин.
Николай погладил бороду, устремил взгляд на столы.
– Не так давно с войны вернулся раненый солдат, приятель Вани. Они вместе росли, учились, играли, но одному выпала доля сражаться за Россию, другому бог не привел. Этот раненый солдат имеет начитанность. Он сам, единолично слагает песни. Нынче в честь запоя он сложил одну, в которой истинная правда о женихе Ване. Послушайте этот стих. Скажет нам его Петр Иваныч, которого опчество наше метит в писаря.
Последние слова меня поразили. Если Николай так говорит, это неспроста.
– Читай! – обратился он ко мне.
Я встал, провел рукой по волосам, достаточно отросшим для зачеса, и, преодолев робость, четко, громко начал:
Мудрый бог сказал однажды.
Обведя глазами землю:
«Пусть там будет счастлив каждый,
Моему кто гласу внемлет».
Вот ты, Павлов Ваня, с детства
Славный сын, каких не много,
Крепок телом с малолетства.
Слово богу держишь строго.
К дому рвенье ты имеешь,
Своей силы не жалеешь,
Ты не сын, а сущий клад!
Оттого и дом богат.
Много прочего и вновь
обретете вы с отцом.
Вот и Кати огневой
Суждена тебе любовь.
Не у всех такая доля.
Есть и горькая неволя.
Там, далеко, на войне,
Где пришлось побыть и мне.
Беспрерывный гул и гром.
Бьют снарядом и штыком.
Нет, не надо воевать!
Лучше землю бы пахать.
Всем бы дома, вот как Ване,
Всем бы жен таких, как Катя.
Летом в поле за снопами,
А зимою на полати!
– Ур–р-а–а! – первый подхватил сам Ванька, а за ним и все, хлопая в ладоши.
Николай посмотрел на меня пристально, затем указал на стакан с перегоном. А Ванька сиял. Он три раза чокался со мной, говорил «спасибо», и Катька чокалась, и Настя, даже рыжий, в отца, Макарка.
Снова заиграла гармонь, запели песни.
Я опьянел, почти не закусывал, Настя усердно заставляла меня есть. Она была очень ласкова и хороша теперь. Мы говорим с ней о всяких пустяках, и мне уже хочется так, будто шутя, спросить ее: «Посватаю – пойдешь?» Но, как ни пьян, все же не решаюсь.
Скоро начались у молодежи танцы, а в других избах пляска. Загудели полы в большом доме. Пошли и мы с Настей танцевать «краковяк». Я не стеснялся, что левая рука в бинте. Веду Настю за руку, потом обнимаю, мы кружимся. Вот она, желанная! Я чувствую ее так близко, мы кружимся, расходимся и опять вместе. И голова моя кружится, и уже ничего не вижу. Только шум да вздохи гармоник.








