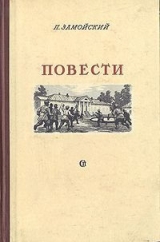
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
– А теперь подписка о невыезде, – подал он мне бумагу.
– Но ведь меня могут в управу вызвать или в волость!
– Только с моего разрешения, – сухо произнес урядник.
Я подписался. И когда они ушли, а я остался один, дрожь забила меня.
Что, если урядник все узнает о нашем кружке? Выдержат ли Семен, Игнат, Филя, Степка и другие мои товарищи? Один уже натрепался. Но кто он?
И я начал перебирать всех в уме. Вдруг меня осенило, и я воскликнул в нашей пустой холодной избе:
– Припадочный Карпунька! Как я не догадался? Ведь он – племянник Филиппу Шкалику.
23На улице и в избе темь. Мать затапливает печь, разжигает кизяки. Пузатая Карюха отогревается, ест месиво. Керосина нет. В углу горит лампадка с постным маслом. Огненные блики от топящейся печки мелькают на стене и окнах.
Два брата и я лежим на печке. Сестры – на кутнике. Все спят, но мне давно не спится. Возле трубы хорошо лежать и слушать завывание вьюги. Она поет на разные голоса – то издает дикие, пронзительные звуки, то будто глыбы снега бросает с крыши, то снова засвистит, заплачет, застонет. Представляешь себя в далекой, глухой, безлюдной степи. Сплошь снега. Лежишь в санях под тулупом, а лошадь везет и везет, уж не знаешь – где ты и будет ли конец тоскливому, однообразному пути.
В окно против печки порывами хлещет снег, засыпает стекла, пробиваясь мелкой пылью сквозь солому. Иногда из‑за рамы вынырнет зябкая мышь, потычется мордочкой в стекло, замерев, посмотрит зелененькими глазками на огонь в печке и невесть с чего испуганно метнется обратно – только хвостик скользнет по стеклу.
В избе холодно. Мать топит, одевшись: на голове – шаль, на ногах – не раз подшитые валенки. Они худые, из задников торчит солома.
За эти дни, после обыска, я никуда не ездил и не ходил. У меня разболелась рука; нарывает то место, где был большой палец; кисть опухла и отяжелела. Куда с такой рукой в морозы!
Вместе с воем вьюги доносится колокольный звон. Сегодня воскресенье: говельщики причащаются. Говеет и отец. Он говеет, как всегда, на второй и последней неделе – два раза. Говеет по–настоящему, по–монашески: ест только хлеб с водой. В страстную неделю голодает три дня – четверг, пятницу и субботу.
Едва зазвонили к утрене, отец быстро вошел со двора, оторвал намерзшие на усах сосульки, снял шапку, перекрестился и посмотрел на мать.
– Иди, иди, – сказала она, поняв взгляд отца.
Когда отец говел, мать не только не ругалась, но даже грубо с ним не говорила.
– Только ноги отряхни. Навоз в церковь не носи… Надень мою поддевку.
– Я, мать, к обедне надену ее, а сейчас – так, – сказал отец и ушел.
Звон продолжался.
В печи горели кизяки, пахло приторным дымом. Лошадь наелась и посмотрела на меня. Грустные у нее глаза! Сколько ей лет? И где отец откопал такое чудовище?
– Ешь, ешь, – говорю Карюхе.
– А ты разь не спишь? – услыхала мать.
– Рука болит.
Она сдержанно вздохнула. За последние дни мать стала тревожной, пугливой. Каждый шорох заставлял ее вздрагивать. Она боится, как бы вновь не пришел урядник.
Но урядник больше не заявляется. Ничего не нашел он и у Семена. У Фили и Степки совсем не был.
– Говеть когда будешь? – спрашивает мать.
– Говеть? На страстной все грехи оттащу попу, – пообещался я, чтобы не начался разговор.
Пока мать топила печь и убиралась, заутреня отошла. Отец пришел наскоро переодеться в поддевку матери. Поддевка ему узка и коротка, но он этим не смущается, – не первый раз ходит в ней к обедне.
В избе стало теплее. Мать отвалила с улицы солому от окон. Светло. Буран утих. Даже изредка проглядывает солнце. Блестят сугробы, – их нанесло много; у самой избы – высокий, с острым, чуть завитым гребнем. Нет–нет да и заиграет на нем снежок, как дым заклубится.
Сижу возле окна, в горячей воде парю руку. Кое–где видны люди на улице. Снова звон. Церковь и вся церковная площадь видны из наших окон. Вдруг из переулка выехала на дорогу подвода, запряженная гуськом в две лошади; передняя лошадь несется галопом, склонив голову набок.
– А это, кажется, Сабуренков! – говорю я матери.
Через некоторое время промчалась еще пара гуськом. Остановилась возле попова дома. По широким саням нетрудно угадать, что это помещик Климов.
Отец пришел из церкви торжественный, праздничный. Он «приобщился».
– Со святыми тайнами, – поздравляет его мать и дает постную лепешку на квасу.
– Спасибо, – говорит отец.
Поздравляю и я его, едва сдерживаясь от смеха. И мне он говорит «спасибо». Глядя на отца, можно подумать, что он свалил с себя грехов пудов десять, – такая легкость у него в походке, в движениях. И глаза блестят. За обедом отец рассказал, что сегодня священник был почему‑то не в себе. Перепутал литургию.
– Не сына ли убило? – спросила мать. – У него он на фронте.
– Йет, мать, сын его в интендантстве.
– Может, что по домашности!
– Да, сбился, – продолжает отец, – и нас, певчих, сбил. Нам бы надо петь: «Премудрость священный и божественный орган», а он дает: «Не к тому пламенное оружие хранит врат эдемских».
– Ты бы подсказал ему, – говорю я.
– Разь можно? – испуганно возражает отец.
После обеда прибежала сестренка и подала мне записку. С большой охотой доставляет она эти записки от Сони. Стоит, не раздеваясь, и смотрит, как я читаю. Ждет, не понадобится ли отнести ответ.
В записке торопливо набросано:
«Опальный друг!
Срочно ко мне. Есть сногсшибательная новость.
Чай с сахаром обеспечен. Керосин тоже. Соня».
Значит, не срочно, если намекает на керосин.
А рука все болит. Как бы не пришлось ехать в больницу. Но требуется разрешение урядника. Где его искать?
Перед вечером, когда я хотел сделать второй раз перевязку, вошла, вернее вбежала, Мавра.
– Аринушка–кумушка! Что у батюшки делается, – запела она таинственным голосом, в котором слышался не страх, а неизъяснимая радость.
Мать, которая теперь всего пугалась, уставилась на нее, ни о чем не спрашивая. Но Мавру и спрашивать не надо.
– Шум, крик. Батюшка на себе, слышь, волосы рвет. Кухарка, курноса ведьма, Балакиным говорила, а те Сергеевым, а Федосья, – она ведь мне сваха по деверю, – мне.
– Ужель опять с попадьей воюет? – спросила мать.
Священник наш, старик, нередко дрался с попадьей.
Об этом знало все село, и никто не удивлялся.
– Климов с женой у него, и сын Климова, охвицер, и Сабуренков, и эптот, как его… В гостях они, да, видать, загостились.
– Небось не пьяны?
– Кто их знает! У батюшки запасы большие, и матушка горазда делать разны квасы. Но только крик стоит, и все вроде чем‑то напуганы. Батюшка бесперечь кричит: «Вот я знал, так я знал». А чего уж он знал, я, кума Арина, не знаю.
– Узнаешь, – успокоила ее мать. – Вон мужик мой говорит, вроде батюшка всю обедню перепутал. С дьяконом в алтаре вроде поспорили.
Отец ничего не говорил про дьякона, но, когда приходит всезнайка Мавра, наша мать тоже кое‑что привирает. И такое в это время у нее довольное лицо.
– Как живете, опальный и таинственный сосед? – прищурившись, спросила Соня, когда я вошел к ней.
– Вашими молитвами…
– Понятно. Раздевайтесь.
Она усадила меня за стол, налила чаю, придвинула тарелку с бубликами.
– Говорят, с урядником знакомство завели?
– О, да. Замечательный человек!
– Культурный, обходительный? – прищурилась она.
– Куда там! Он лее вашего сословия.
– Очень приятно слышать, сосед. Начинаются очередные комплименты.
– С кем поведешься… Вы без ехидцы тоже словечка не скажете.
– Оба хороши! Итак, подписка о невыезде? Как в романе.
Она засмеялась, показав чистые, ровные зубы.
– Гер–рой! Таинственный кружок. Что, не смешно? Лга, это в отместку за «сословие» и за то, что не ходите. Не надо забывать соседку. Даже с братом не познакомили… О–о-ох! – вдруг воскликнула она, – ведь вы… сва–а-ат! – и совсем расхохоталась. – Сватушка, батюшка–а… Куда вас посади–ить!
– Я уйду!
– «Не ухо–оди–и, побу–удь со мно–ою…», – запела она. – Ладно, сосед, – ударила меня по плечу, – посадит вас урядник, а не я. Не сердитесь! Плюньте на все. Слушайте, покажите мне вашего петуха. Говорят, он с полицейскими собаками дерется? Ей–богу, петух храбрее вас.
– Я вижу, что у вас сегодня чересчур веселое настроение… а меня…
– Что? – участливо перебила она.
– …знобит.
– Пейте чай, пройдет. Здесь тепло. Скажите, – подошла она сзади, – тепло у меня?
– Да, – обернулся я к ней и смотрел теперь на нее снизу.
– Еще теплее будет! – погрозилась она. – А отчего знобит?
– Вот… рука что‑то.
– Рука? Что с ней?
– Нарыв какой‑то.
Она взяла мою руку.
– Что лее молчите? Надо к врачу. ;
– За сорок верст? В такую метель?
– Хотя, постойте… Знаете что… дайте я ее посмотрю.
– Вы? Не–ет. Я родной матери ее не показываю.
– Фу, а еще взрослый. Имейте в виду, я три месяца на курсах сестер училась. Мне, по моей натуре, следовало бы быть врачом. Папа не позволил учиться в медицинском. У меня и книги есть, и лекарства есть. Ваша мама часто берет у меня. Что, не знали?
– Догадывался.
– Врете, не знали, – уличила она меня, так как мать никогда мне этого не говорила.
И тут я подумал: «Вот откуда Соня знает каждый мой шаг».
– Так даете руку? Не для обручения, не–ет, будьте спокойны. Вы же… телок!
– А вы… коза!
– Это хорошо. Во мне пружина. Все бы прыгала… Да, почему… вы не обижайтесь… почему не сказали, что собирались у Семена, читали, говорили с братом? Почему? Не верите мне?
Что я ей скажу? Я даже не подумал ее пригласить. А если бы и вспомнил, то вряд ли позвал бы.
– Соня, на это не отвечу.
– Спасибо. Смотрите, какие бублики. Пейте чай, кладите сахар. У моего дьякона или, как вы мягко выражаетесь, дьявола, сахар–чай пока водится. Попы – порода долгогривая, жадная, корыстная. Помните письмо Белинского к Гоголю?
– Да, помню. Кстати, что это, говорят, у батюшки какой‑то переполох в доме?
– Ого! – отступила она. – Уже слышали?
Я рассказал о том, что поведала Мавра. Соня приложила палец к губам и, подумав, тряхнула головой:
– Вот, Петр, за этим и позвала. Очень–очень сногсшибательная новость.
– Так скажите сразу.
– Условие… Дадите руку посмотреть? Не–ет, перевязать, а не любоваться. Ну–ну, испугались. Вам же легче будет. И не стыдитесь меня. Замуж я за вас ; совсем не собираюсь.
– А я и сватать не думаю.
– Словом, объяснились, как у Чехова. Развязывайте бинт. Не хотите? Тогда… не скажу.
– Хорошо, Соня. Будьте сестрой.
И я первый раз даю постороннему человеку разбинтовать руку.
Бинтовала она осторожно. Стояла на коленях, и изредка мы обменивались взглядами, чему‑то усмехаясь.
– Готово! – сказала она, окончив перевязку. – Получите!
– Спасибо, Соня. Вы… вы очень хорошая.
Она удивленно посмотрела на меня.
– Вон как! Хорошая? О, это уже много для вас.
Я покраснел, а она рассмеялась.
– Ничего, не смущайтесь. Со временем научитесь и любезности говорить. А может быть, уже и говорите? Только, конечно, не мне, а где‑нибудь… там, – и она махнула рукой как раз по направлению к тому селу, где жила Лена.
– Рассказывайте, что у батюшки стряслось?
К нему приехали Сабуренков, Климов, Шторх.
Она вздохнула, видимо, жалея, что я перевел разговор на другое.
– Ничего такого.
– То есть как? Вы же писали «сногсшибательная новость».
– Значит, если бы не написала, вы бы не заглянули?
– Соня, да ведь мне запрещен выезд! – смеюсь я, заметив, как она обиделась.
– Запрещен? А я вот снимаю с вас этот запрет. Разрешаю ехать и ходить, куда вздумается.
– Вы что, пристав?
– Свободная гражданка.
– Кто, кто?
– Гра–ажда–анка Свободной России!.. С чем и вас поздравляю.
– Спасибо, но что это, не знаю.
– А то, что вы теперь… гражданин!
– Почетный или какой?
– Простой. Отныне все – граждане. Нет ни дворян, ни крестьян, ни мещан. Все равны.
Что она плетет? Вычитала из романа? Так и есть! Копается в книгах, достает одну. Села, держит книгу, смотрит–смотрит на меня остренькими глазами, и на лице такая загадочная улыбка.
– Так вы, Петр, верно, ничего не слышали?
– Да нет же. Я из избы не выхожу. А что?
– А то, что мы уже… без царя!
Сначала я не понял ее, но она, видя мое недоумение, подтвердила:
– Да–да! Царь… от престола… отрекся.
– Вы что, Соня? – воскликнул я.
– Читайте!
Она вынула газету из книги и подала мне.
Быстро пробежал я пугливое, но торжественное по складу отречение царя в пользу брата Михаила, следом – отречение Михаила – и явственно ощутил, как передо мной словно туча раздвинулась. Тысячи мыслей пронеслись в голове. И снова смотрю в «Сельский вестник», в эту смесь русских слов с церковными:
«А посему признали мы за благо отречься от престола государства Российского».
Шутка сказать: признали за благо отречься от престола!
Соня смотрит на меня и улыбается. А мне от восторга, смешанного с каким‑то опьянением, хочется кричать, выбежать на улицу, бить в колокол. Я отдаю Соне газету и прерывающимся голосом говорю:
– Да, это новость! Теперь понятно, почему у батюшки шум и он обедню перепутал.
– Эти узнали раньше всех. Послушать бы… что теперь они там говорят.
Соня приоткрыла занавеску, хотела посмотреть в окно – стоят ли возле поповского двора повозки, но окна покрыты толстым слоем морозных узоров.
– Соня, доставайте газеты.
– Будьте спокойны.
– Эх, сбегать бы к Семену сказать. И снять с него запрет о невыезде. Смешно, Соня: от безногого человека взяли подписку о невыезде.
Долго мы сидели с ней, всячески предполагая и гадая, что будет дальше…
Домашние уже легли спать. Мой приход разбудил их.
– Тятька и мамка, слушайте: царя свергли с престола! – объявил я им.
– Вон как! – спросонья сказала мать и, кажется, не удивилась. – А тут, Петя, пришли к тебе.
– Кто?
– То‑то кто. Слышь, товарищ твой Павлушка пришел!
– Ку–умушка, Аринушка! – вбежала Мавра и забыла перекреститься. – Чего слыхала‑то я, чего слы–ха–ала!..
Не взглянув на нас с Павлушкой, она прошла к матери.
– Чего ты, кума, слыхала, где? – спросила мать.
– Ведь бают, царя‑то больше нет. Бают, спихнули его.
– Будет зря‑то! – притворно испугалась мать и незаметно подмигнула мне.
– Истинный госпо–о-одь! – запела Мавра. – Кто, слышь, – сам от престола отрекнулся, кто – силком сташили.
Мы переглянулись с Павлушкой. Мавра стоит спиной к нам. Она продолжает рассказывать, радуясь не столько тому, что царя «спихнули», а тому, что она первая разносит эту весть.
На лице матери играет хитрая улыбка. Мать рада, что кума опоздала с таким известием, и хочет ее поддразнить. Нарочно то удивляется словам кумы, то делает испуганное лицо.
– Гляди‑ка, – говорит мать, – ужасть какая. А мы и не знали. И где ты, кумушка, узнаешь все поперед других?
– Я‑то узнаю, кума, – хвалится Мавра, – я со дна моря–окияна… Эва, я на три сажени в земле слышу, что там делается.
И начала сама себя расхваливать. И когда уже подробно рассказала, как священник ругался с Климовым, и как он плакал и сколько они выпили, – «это постом‑то, кумушка!», – мать, пользуясь передышкой, как бы нехотя огорошила ее:
– Про царя‑то мы, кума, еще третьеводни узнали!
– Третьеводни? – отступила Мавра с таким испугом, будто топором на нее замахнулись. – Кто вам, кума, сказать мог? Кто допрежь меня прознать мог?
– Вон Петька, – и мать кивнула на меня.
Только тут Мавра обернулась к нам. Обернулась круто и решительно. На лице ее было столько удивления, обиды, растерянности, что мы с Павлушкой громко рассмеялись.
– Что, тетка Мавра, опоздала? – спрашиваю ее. – Вот тебе и всезнайка! Вот и на три сажени…
– Да от кого? – спросила она. – А–а, – взглянула на Павлушку, – вон от кого. Здорово, родимый!
– Здравствуй, тетка Мавра, – встал Павлушка и подал ей левую руку.
Она сразу смекнула в чем дело.
– Правая‑то ранета?
– Есть немножко.
Через некоторое время Мавра, оправившись от смущения, села на лавку и затараторила снова. Она действительно ловит слухи на лету и многое знает. Иногда и сомнение берет: сама выдумывает или правду говорит? Но слушать ее интересно. Увидев на столе только что полученные газеты и манифест, присланные братом Мишей, спросила:
– Чего пишут?
– Как царя спихнули, – кладу я руку на газеты.
– А ты почитай, я послухаю.
– Вот скоро соберется народ, буду читать.
Мелькнула мысль: почему ей все бы не рассказать! Это же не баба, а телеграф…
– Ладно, тетка Мавра, слушай. И ты, мать…
Развернул газету, собрался было прочесть кое‑что, но отворилась дверь и вместе с холодной струей воздуха вошла группа людей. Среди них – Филя, Степка, Игнат, почти все инвалиды. Поздоровались, прошли, сели на лавку. Скоро еще пришли, и еще. Вон солдатки в сопровождении Маши, Дуни, а вон и Соня. Ее я не ожидал увидеть здесь и даже оробел. Сзади нее Мишин тесть – Антон. Увидев Антона и Соню, мать засуетилась.
– Сват, сват, иди к печке, тут теплее! – закричала она.
Но Антон притулился возле голландки.
– Мне и тут гоже.
Мать очистила «суднюю» лавку, вытерла ее и настойчиво позвала свата, а Соню молча повела и усадила с собой рядом.
И начались в избе разговоры, восклицания, смех. Мужики закурили цыгарки, трубки. Отец вошел и встал у двери, как чужой.
Пока люди входили, усаживались, я думал: с чего начать? Никто во всем селе не объяснит им толково обо всем, что произошло и что будет дальше. И я чувствую, что должен, как ни малы мои знания и умение, не только рассказать этим людям то, что произошло, ко и настроить их, рассказать, что им самим делать.
Миша в короткой записке наказывал:
«Говори народу только так, как пишут в наших газетах, которые тебе шлю. Другие газеты тоже читай, но разбирайся – что к чему. Огласи на сходе манифест нашей партии и Обращение Совета депутатов к населению. О том, что вам дальше делать надо, я потом напишу. Революция только началась. Борьба впереди. Буржуазия, помещики и капиталисты еще у власти».
– А ты допрежь мне.
Плотник Фома взял в руки манифест и начал по слогам читать. Все замолкли, но так как слышно было немногим, на Фому закричали, чтобы читал громче.
– Я плохой грамотей! – сознался он, кладя манифест на стол. – Вот, – указал он на меня, – пусть писарь.
Мы с Павлушкой переглянулись. Он понял мое волнение. И все уже смотрят на нас. Я встал, и сердце сразу забилось до боли. Вспомнил, что тут Соня, которая, наверное, тоже смотрит на меня, будет слушать каждое слово, понимать, – больше, чем другие, – мое волнение. И глухим голосом, уставившись на Фому, я произнес:
– Граждане!
Тишина такая, что слышу, как кровь бьет в висках. Еще раз вспоминаю все прочитанное в газетах и, смешивая свои слова со словами манифеста, с письмом Миши, чувствуя, как волнение охватывает меня все больше и больше, чуть не выкрикиваю:
– Царский строй рухнул… Кровью солдат, рабочих и крестьян омывался трон. Триста с лишним лет пили цари и богачи нашу кровь. Сколько тысяч погибло на войне, сколько сгнило в тюрьмах, на каторгах!
Передохнул, уже не чувствуя волнения. Наоборот, охватило что‑то сильное, мощное, подняло, словно на крыльях.
– То, против чего боролись самые лучшие люди России, сгинуло безвозвратно. Революция! Народ с оружием в руках пошел против хищников, против царя, капиталистов и их правительства. Революция! Теперь мы – свободные граждане! Но революция только началась. Начали ее рабочие и солдаты Петрограда. А нам что делать? Вспомним девятьсот шестой год. Не поврозь теперь, мужики, от рабочих, а вместе надо. Иначе новый царь вырастет, как мухомор. Надо взять власть в свои руки. В Петрограде образован Совет рабочих депутатов. Он за то, чтобы крестьяне немедленно отобрали землю у помещиков и передали ее народу.
Беру манифест и читаю его во весь голос.
Читаю волнующие душу строки, возвещающие о том, что по всей Росс И и поднимается красное знамя восстания, зовущее свергать царских холопов, брагскими и дружными усилиями закреплять новый строй свободы на развалинах самодержавия. Да здравствует революция, да здравствует демократическая республика!..
…Из избы в избу ходят люди, кричат, спорят. Зашевелилось огромное село. Многие стали доставать газеты на станции, на почте. В волости сместили старшину, прогнали урядника, организовали волостной и земельный комитеты. Из нашего села во Владенипский волостной комитет избрали Семена, Филю, а в земельный – Павлушку, меня, Николая Гагарина и Дениса Дернна. Попали в эти же комитеты владенипский торговец Волков, старик–учитель, священник и волостной писарь.
В конце марта в село приехал председатель волостного комитета, бывший писарь волостного правления. При царском строе он был в ссылке. Остановился у Николая Гагарина. Три дня прожил в селе, провел три схода. Был он в лохматой папахе, в полушубке, крытом сукном, с серым, словно присыпанным порохом лицом. Голос у него, – вероятно, от множества сходов, – хриплый.
– У рабочих своя партия – большевики! – кричал сн одну и ту же речь на сходах, – у нас, крестьян, своя – социалисты–революционеры. Мы стоим на том, чтобы землю передать мужикам, но не сейчас. Временное правительство издаст законы. Революция – прежде всего порядок и подчинение власти. Сельские и волостные комитеты – органы Временного правительства. У крестьян должно быть полнее доверие к Временному правительству. Весной комитеты возьмут помещичью землю на учет, но делить ее ни в коем случае нельзя. Вот обращение к крестьянам. Подписано министром–председателем Львовым: «Земельная реформа станет на очередь в предстоящем Учредительном собрании. Земельный вопрос, – повысил оратор голос и четко, по складам прочел: – не мо–ожет бы–ыть про–ве–ден в жизнь путем какого‑то захвата!»
Помедлив, словно ожидая, какое действие возымеют его слова, он с негодованием в голосе выкрикнул:
– Насилие и грабежи – дурное средство!
Слова о насилии и грабеже напоминали мужикам о грабежах, которые случаются на больших дорогах.
– Лозунг наш – за землю, за волю, но не за насилие. Мы сами себе хозяева и не позволим беспорядка. Никого не слушать, – кто бы ни призывал к немедленному отбору помещичьей земли!
Так говорил председатель волостного комитета. Речи его были гладкие, уверенные, но я видел на лидах крестьян недоумение и тревогу.
Мы решили не тягаться с ним в споре. Зачем дразнить? Уедет, тогда – дело другое. Да еще и весна не пришла. А пока нам, инвалидам, обязательно надо войти в сельский комитет.
Когда стали намечать кандидатов в комитет, первыми выкликнули нас. Но выкликнули и других, из богатых семей. Иные отказывались, но попрежнему не отказались ни Николай Гагарин, ни Денис Дерин. Они с охотой согласились «послужить миру и свободе».
Лишь под утро бывают заморозки, но взойдет солнце и начинается капель. Смотришь на соломенные крыши, каждая из них обряжена в прозрачные, переливающие радужным сиянием сосульки. Висят они длинные, рубчатые, и уже крыша – не крыша, а прозрачный сарафан с кружевной отделкой. Еще много снега, но он осел и сверху покрылся звенящей под ногой ноздреватой пленкой. Оттаивают завалинки. Всюду проникает солнце. Чует весну оставшийся кое у кого скот. Коровы ревут, просятся поскорее на волю, хотя бы постоять в денниках, наскоро сделанных где‑либо сзади двора. Оецы жалобно и тревожно блеют.
А какой ветер! Только в апреле он такой свежий, насыщенный запахом тающего снега. В нем чуть ощутимы тонкие смешанные ароматы: земли, прошлогодней травы, преющего на припеках конского навоза, дыма, хлеба и еще чего‑то неуловимого, возбуждающего и чуть–чуть тревожнрго.
Скоро–скоро подкопится вода, потекут с пригорков ручейки, зажурчат, сливаясь во впадинах и рытвинах, и тогда хлынет большая вода в широкие реки.
Стою, смотрю на избы и мазанки. Что ни день, то строения кажутся выше. Спадает снежный покров. Уже кое‑кто счищает с крыш снег. На нашу крышу лезть страшно. Отец приделал к железной лопате длинную жердь. Он будет счищать снег отсюда, с земли. Уже примеряется. Со стороны похоже, будто хочет подавать снопы на высокую кладь.
Пора подыскивать плотников и, как только сойдет вода, приступать к стройке избы. Хватит ли силы на это? Будет ли время? Закрываю глаза и мысленно вижу новую избу, новые окна. В одном окне видно лицо матери, в другом – лицо родной, любимой. Весенний ветерок обдувает ее щеки, шевелит кудряшки, ниспадающие на лоб.
Открываю глаза. Отец уже поддел снег лопатой, куча едет по крыше и с шумом рассыпается у его ног.
– Э–эх! – радостно восклицает отец.
Он за последнее время стал веселее, меньше говорит о нужде, на людях не так застенчив. Как‑то на сходе даже поспорил с кем‑то.
– Отец, тащи снег прямо с соломой, – говорю ему.
Он кивает по направлению к срубу и многозначительно подмигивает мне.
– Осилим, сынок?
– Бог поможет, – говорю я.
– У Гагары денег взаймы хочу просить.
– А мне что, проси! Отдадим на морковкино заговенье.
«Морковкино заговенье» – любимая поговорка отца. Она означает – вовсе не отдадим, так как морковь есть никогда не грешно.
– Нынче опять зовут читать, – говорит отец. – Высох весь.
– Я тебе, отец, еще пострашнее что‑нибудь подберу.
– Подбери. А то начну «блажен муж», он сердится. Начал «векую», он меня но–матерну.
– А знает старик, что царя свергли?
– Не велят говорить. Опять, слышь, паралич хватит.
– А им‑то что?
– А вот что. Есть слух – у него где‑то деньги спрятаны. Вот и ждут, – кому откажет.
– Ты бы выпытал. На грехи намекай.
– Грехов у него, верно, много. Все какую‑то Марью вспоминает.
– И три с полтиной долгу ей?
– Правда, сынок.
– Это Леньки Крапивника мать.
Отец посмотрел на меня, и догадка озарила его лицо. Прищурившись, он протянул:
– И–ишь ты–ы ведь…
– То‑то и есть. Но ты никому не говори. Даже мамке, а то она – Мавре, а Мавра всему свету.
Из сеней выходят куры. Сзади важно выступает отчаянный петух Наполеон. Взглянул на меня, тревожно подал голос.
– Иди, Наполеон, иди, не трону. Боев тебе предстоит много.
Петух приостановился и, как бы слушая, в разные стороны водит своей головой с треугольным гребнем.
– Гляди‑ка, Петя, твой друг идет, – сказал отец.
По дороге в верхний конец важно шагал чуть–чуть прихрамывая, но уже без палки, «мой друг» Илья. Как он разодет! Меховая шуба, крытая сукном, каракулевая «вдоль улицы» шапка, сапоги с калошами! Тесть – вор Палагин, видно, возлюбил дурака–зятя. А может быть, и вместе воруют!
– Илья! – окликнул я его.
Он остановился против церкви, снял шапку и перекрестился. Экий богомол! Потом повернулся ко мне и пошел не дорогой, а по снегу. Видно, хочет похвалиться, что на нем такая обувь, для которой все нипочем. «Хоть бы ты калоши порвал. Воровские небось».
. – Здорово, Петр Иванович, – величает меня.
– Здравствуй, хромоидол Плюха. Какой я тебе Иваныч? Ты что‑то, брат, зазнаваться стал. Аль чересчур разбогател?
– Да нет, я так, – и он выставил вперед ногу, будто я стану любоваться его сапогом.
– Может быть, ты забыл, где стоят избы твоих товарищей? Или совсем тебе память вышибло, богач эдакий, что мы с тобой стадо пасли? Как живете, Илья… Давыдович?
– Так, ни бедно, ни богато.
– Свободе рад?
– Рад.
– И тесть твой рад?
– Пуще всего.
– По судам перестали его таскать?
– Про него зря–а.
– Да вор он, Илья, вор ведь! Гляди! Словом, помни, что во Владенине было.
Илья тревожно посмотрел на меня и оглянулся по сторонам. Во Владенине за кражу двенадцати тысяч, присланных, для раздачи пособий, мужики самосудом убили четырех воров. Это хорошо известно Илюхе. Поговаривали и об участии в этом деле Палатина, но… не пойман – не вор.
– Так их и надо, – сказал Илюха. – Воруй, не попадайся.
– Илья, по–дружески говорю. Ходят слухи…
– Зайдем ко мне, шпиртом угощу, – внезапно предложил он.
– Ты, говорят, свой завод открыл?
Он самодовольно засмеялся. Как же, это касается его мастерства, а его хлебом не корми, только дай похвалиться.
– Я, брат, сапожно ремесло пока забросил. Шпирт–сырец перегонять научился. Я всяко дело сразу постигнуть могу. Пять противогазов достал и скрозь них пропущаю шпирт–сырец. Выходит, ну, как слеза. Ты зайди.
– Может, и зайду. Но почему ты не ходишь ни на митинги, ни на собранья?
– Все некогда. Делов по горло.
– Хорошо, Илья, верю. И если у тебя когда‑нибудь одно дело будет… за горло, не обессудь! – намекнул я ему.
В просторной горнице собрались почти все члены сельского комитета. Среди них – восьмидесятишестилетний старик из третьего общества Епифан Трифонов, совершенно лысый, с бородой разительно желтого цвета. За столом – Николай Гагарин. Перед ним – газеты: «Русское слово», «Дело народа», «Речь», «Сельский вестник» и какие‑то воззвания, плакаты. Рядом с ним – Денис, плотный, низкорослый, весь будто высечен из черного камня. Черная поддевка, черные чесанки с калошами, и лицом и волосами он черен, как цыган. С Денисом – Василий Козулин, дочь которого мы сватали за Илью. Около Павлушки увивался десятский Шкалик, что‑то выпытывал. Филя с Игнатом на сундуке.
Когда мы со Степкой вошли, Епифан рассказывал, как разбогател отец Климова. Он был у помещика еще при крепостном праве бурмистром и потихонечку обирал своего барина.
– С этих пор и пошел в гору. Нет, старики, горбом не выходит. Пословица така есть: «От трудов праведных не наживешь палат каменных».
– Оно верно, – проговорил Денис, – но только и под лежачий камень вода не течет.
– И это справедливо, – тут же согласился старик. – Труды бог любит… Жив Семка‑то? – вдруг обратился Епифан к Николаю.
Тот понял, о ком спрашивает старик.
– Пока жив.
– Навестить его пришёл. Он ведь моложе меня никак десятка на полтора.
«Семкой» Епифан назвал старика Гагарина, «богомола», который лежал в небольшом пристенке. Из чуть приоткрытой двери доносился монотонный голос моего отца, – он там читал библию.
– Мно–ого, о–ох, много мы с ним вина попили! – покачал головой старик. – Мне бы умереть, ан смерти нет. Не по грехам бог мне здоровье дает.
– Много, дед, грешил? – спросил Игнат.
– Эге, милок, было. Только вот в жисть у людей не воровал. Этого не–ет. Не тянуло.
Я сел рядом с Павлушкой и бросил на увивающегося Шкалика такой сердитый взгляд, что он хотел было что‑то спросить, но сразу осекся.
– Ты тоже выборный? – спросил я его.
– Вошел послушать.
– Иди домой.
– Чай, хозяин‑то вон, не ты.
Николай сидел такой важный, надутый. Только медали ему не хватало. Опять, видимо, старостой себя почувствовал.
– Чего тут Филипп? – спросил я Николая. – Он очень нужен?
Николай посмотрел на десятского, словно думая, нужен ли он в самом деле или без него обойдется, и кивнул на дверь.
– Иди ко дворам.
Молча пошел десятский, взяв длинную палку.
– Все собрались? – окликнул присутствующих Николай и погладил бороду. – Видать, все. Секретарь, записывай, – обратился ко мне.
В газете «День» что‑то обведено карандашом, но что – не видно. Николай положил на нее свою ладонь.








