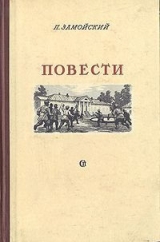
Текст книги "Повести"
Автор книги: Петр Замойский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 40 страниц)
Как хорошо лежать на душистом мягком сене, в котором еще чувствуется теплота солнца… Сквозь крышу сарая, там, где ветром сдуло солому, видны далекие мерцающие звезды. Они кажутся букетами луговых цветов. Прямо надо мною – целый пучок молочно–белой густой кашки.
На улице темь. Сквозь щели плетня виден огонек. Это фонарь горит у пожарного сарая. Где‑то слышны еще песни и гармоника. Лена, наверное, уже €пит. А я лежу и все думаю о ней. Завтра снова увижу ее. Как не хочется уходить! Но теперь ничто нас не разлучит. Два месяца пролетят быстро, а там она уже будет у нас в новой избе. И всегда, всегда!..
Утром разбудили меня удары пастушьих плетей. Мимо гнали стадо. Рев, мычание, окрики пастухов. Голос снохи Анны. Она гнала корову, с кем‑то перекликаясь. Пели петухи, скрипели вереи колодцев, и четко стучали молотки, пробивающие косы. Запахло дымом.
Свозь щели плетня огненными кружевами и стрелами пробивался свет зари. Вот уже брызнули лучи. Показалось солнце совсем близко, крупное, ликующее, и пылающий свой взор раскинуло по небу и по земле.
* * *
Мы с Ариной в мазанке. Она позвала меня сюда после завтрака украдкой, отправив куда‑то Лену. Молча открыла большой сундук, выложила из него все, что в нем было, на скамью, а я смотрел и не понимал, зачем она это делает.
– Вот оно, гляди, Петя, – зашептала она, вынимая недошитое, собранное из разноцветных лоскутков, одеяло.
Разложила его, погладила, полюбовалась и, наконец, проговорила:
– Елька готовит!
Так вот в чем дело! Какая же она простодушная! Хвалится недошитым одеялом Лены. А мне от этого стало так неловко, будто какую‑то тайну подслушал, подсмотрел. Покраснев, наспех расхвалил одеяло, а мать, довольная похвалой, взглянула на меня родными и в то же время немного лукавыми глазами. Она осторожно оглядывается на дверь. Ну как вернется Лена! Это же девкино сокровенное, это то, что делают они почти тайно даже от самых верных подруг.
– Очень хорошее, – повторяю я и тоже смотрю, не ходит ли кто мимо двери.
– Не говори ей, – шепчет мать.
– Что ты, что ты! Разве я скажу! И мне достанется не меньше, чем тебе.
– Она стыдли–ивая у нас. Санька, та девка – солдат, а эта не–ет… Ну, теперь она примется дошивать. Купили и вату, и подкладку. Хорошая подкладка, розовая с отливом. Показать?
– Кажется, кто‑то идет сюда, – говорю я.
Арина быстро свертывает одеяло, кладет в сундук.
Чего‑то стыдясь, быстро выхожу за мазанку. На мое счастье, мимо прошла баба с ведрами. Стало быть, все‑таки не обманул я Арину.
В избе лежит Костя, читает газету. Я сажусь возле, угощаю его папиросой, разговариваем. Он ни разу не спросил меня, зачем я к ним пришел и живу уже несколько дней, и это очень хорошо.
Вошла его жена Анна, рассказала, как недавно провезли связанным станового пристава из соседнего села.
Через некоторое время с младшей дочуркой вошла Арина. Посидела, послушала нас, затем, подозвав дочь, что‑то тихо зашептала ей. Напоследок строго наказала:
– Беспременно чтоб пришла…
И скоро сама вышла на улицу. Я оглянулся на окно. От мазанки, навстречу матери, шла Лена. Мать остановила ее и торопливо что‑то начала говорить ей. Лена тревожно, как мне показалось, посмотрела на мать и неохотно направилась в избу напротив. Там жил ее дядя, Федин отец. Не отрываясь, я провожал ее глазами вплоть до дверей. Остановившись, она обернулась, постояла, поправила волосы и скрылась в сенях.
Арина вошла. Опять посидела, послушала, начала что‑то прибирать в избе, сама то и дело поглядывая на нас. Временами она тяжело вздыхала и порывалась сказать или спросить что‑то, но Костя, не обращая на нее внимания, рассказывал мне и Анне о второй операции уха.
Когда Костя на момент замолчал, мать, усевшись за стол, вздохнула и произнесла:
– Костя…
Она произнесла это таким голосом, каким начинают говорить только о самых важных делах: немного тревожно и решительно. Костя молча и внимательно посмотрел на свою мать.
– Вот… Петя… он не так пришел, – и остановилась.
Догадавшись, о чем будет этот совсем неожиданный для меня разговор, я замер.
– Ельку сватает! – словно собравшись с духом, коротко сказала мать и умолкла.
Холод прошел по моей спине. Я не знал, куда глаза девать. Не думал, что сегодня это будет.
– Что же? – тихо спросил Костя.
– Как что? Посоветоваться. Такое дело… Как знать!
– Чего знать!
– Она тебе сестра. Ты вроде старшой теперь в доме. Отдавать аль нет?
– Чего же не отдать? – ответил он весело.
– Вот тебе раз, – удивилась Арина, – так уж и «отдать». Чай, спросить бы, что за человек.
– С головой, глазами, руками–ногами.
– Будет тебе, Костя. Вот дурной.
– Сама его видишь. И знаешь – больше, чем я. Вот он, тут.
– Знамо, отдать, – вступилась и Анна.
– Ты погоди, – строго оборвала ее свекровь.
Сноха что‑то буркнула ей в ответ, нагнулась к Косте и зашептала ему горячо, торопливо. Костя серьезно обратился ко мне.
– С ней говорил?
Пересохшими губами я едва вымолвил:
– Да.
– Согласна?
– Да.
– Вот и свадьба! – воскликнул Костя. – Правда, далековато ваше село, но мы с тобой еще дальше были.
Громко, нарочно торжественно, он возгласил:
– Старшой в доме за свадьбу. Теперь сама решай, хозяйка.
– О–ох, – вздохнула Арина и вдруг заплакала. – Двух‑то отдала, был отец жив, а Ельку…
В это время открылась дверь во второй избе, кто‑то вошел. Мать быстро вытерла глаза и вышла. Шепот за дверью.
Я посмотрел на сноху. Она подбадривающе мигнула мне.
В горницу вошла Екатерина, вторая замужняя дочь. Она уже видела меня не раз. Помолилась, поздоровалась со всеми за руку и села на лавку.
– Просо выпололи? – спросила она, разглядывая меня с головы до. ног.
– А вы разь нет? – в свою очередь, как ни в чем не бывало, спросила мать.
– Мы завтра докончим. Жара‑то какая! Спаси бог, пожар. Мой мужик нынче трубу чистил.
– Будет вам! – прервала их Анна. – «Труба, труба». О деле надо говорить.
Екатерина с притворным удивлением посмотрела на сноху.
– О каком деле?
– Вон мать скажет. Я – сторона.
– Зачем сторона, – тихо возразила Арина, – ты сноха. Что зря обижаться? – Помолчав, обратилась к Екатерине. – Катя, дело вон какое… жених Ельке нашелся.
– Женихов у нее много, – равнодушно заметила Екатерина и даже зевнула.
Они опять замолчали. Это молчание хуже всего для меня. Я сидел, как на раскаленных углях. Пусть бы Говорили что угодно.
– Жених‑то чей? – будто не зная, спросила Екатерина.
Арина назвала село.
– Вроде не слыхала. Где такое?
– Самого спроси, – указала на меня.
– Кого самого? – насторожилась вдруг Екатерина.
– Жениха. Вон сидит. Петей зовут.
– Петей? – повторила зачем‑то Екатерина и в упор уставилась на меня. – Видела, видела его. Чего это он стал вроде… серый?
Арина тоже посмотрела на меня, а так как я, видимо, действительно был бледен, ответила дочери:
– Ему небось не легко теперь.
Лучше бы Арина этого не произносила. Спазмы сжали мне горло. Она, мать Лены, хорошо поняла меня. Только говорит как‑то нерешительно, словно сама чего‑то опасается. А Екатерина, – по глазам вижу, – тоже поняла меня и уже более ласковым голосом снова спросила, где наше село.
Я ей подробно рассказал о селе, будто оно невесть где за горами. Екатерина вдруг припомнила какую‑то бабу из нашего села, которую она когда‑то встретила на базаре в городе. И я подтвердил, что такая женщина, верно, есть и живет недалеко от нас. Готов был даже рассказать, какая и семья у этой женщины. Екатерина, оглядевшись, спросила мать:
– А Елька что?
– Вроде ничего, – тихо ответила мать – Вроде у них сговорено. Они письма друг дружке слали. Он и допрежь тут был. Теперь избу выстроил. Парень‑то во всем хороший. Рука вон только у него ранета, но это ничего. Он – писарь.
С тревогой уставилась Екатерина на мою руку, но вступился Костя.
– Екатерина, все ты сама знаешь. Говори семейное согласье.
– А вы как?
– Мы? Хоть сейчас за самогонкой.
Екатерина засмеялась. У меня от души отлегло.
– Чего же он сам сватать пришел? Сватьев бы надо.
– А на кой они пес! – возразил Костя. – Время военное, и мы по–солдатски. Говори, Катька, а то скоро Федора придет.
– Что ж я, пущай с богом, раз у них согласье. Теперь дело за Федорой. Послали за ней?
– Послали, да что‑то долго не идет, – ответила мать.
Анна встала с кровати и, вздохнув, промолвила:
– Зря–а за ней…
– Как зря? Она сама старша сестра.
– И зря, и зря, и зря, – затвердила Анна.
Снова все напряглось во мне. Если так говорит сноха, если на Федору ссылается и мать, и Екатерина, что же это за человек? Неужели она одна сломит всех? Я приготовился встретить Федору… но как ее встретить? Злобно или с улыбкой? Эту сестру я ни разу не видел. Только часто слышал в семье: «Федора, Федора. Как рассудит Федора!»
Посмотрел в окно на дверь того дома, куда скрылась Лена. Хоть бы на миг показалась она! Легче бы мне стало. Но там никого… Бабы начали какой‑то разговор, а Костя принялся рассказывать мне, как они однажды дрались с немцами на кладбище.
Внезапно открылась дверь в другой избе и громко захлопнулась. Все вздрогнули.
Я сразу смолк, а мать тут же вышла. Минута ожидания показалась мне вечностью.
Вошла Федора, за ней – мать. Вошла Федора и не помолилась. Сухо бросив «здорово», в упор уставилась на меня. Нет, неласковым взором надо на нее смотреть.
Одета она хорошо. Крупное, грубое лицо, к которому совсем не идет румянец. Резкие, сухие губы, и глаза, глаза… Видно, эта женщина никогда не улыбается. Ее пригласили сесть, но она будто не слышала. Стоя у двери, обвела всех властным взглядом, помолчала, затем снова уставилась на меня, – и вот грудь ее высоко поднялась.
– Этот? – указала на меня пальцем.
– Этот, – не сразу ответила мать.
– Жених Ельки?
Никто ничего не ответил.
– Ты чей? – спросила она меня, но как спросила!
Я промолчал.
Еще раз и уже совсем грозно задала она вопрос – чей я? Но снова я промолчал. Что ответить? Чувствую, если начну отвечать, из моего горла только хрип вырвется. За меня сказал Костя, который, кажется, тоже немного оробел.
– Сроду не слыхала такого села! – объявила Федора.
– Да ты сядь, – указала ей Арина на скамью.
– Аль у вас за постой платят?
– Как хошь, – вздохнула мать. – Я тебе все выложила. Зовут Петя. Кто он, ты знаешь.
– Ничего не знаю. Вижу, сидит и вроде немой. Язык, что ль, отнялся? Эй, парень, подай голос…
– Будет тебе, – снова вступилась мать. – Разь так говорят! Ведь он Елькин жених.
– Жени–их?! – шагнула Федора и вытаращила на меня глаза, как на чудовище. – Елькин? Моей самой хорошей сестры? Красавицы? Жени–их?! Ма–а-туш–ки! – каким‑то особенным голосом протянула она. – Вы что, белены объелись? Ни с того ни с сего девку за первого встречного…
– Погоди, – приподнялся Костя, – остановись. Не сама ли хватила белены?
– А ты, вояка, лежи. Навоевался, хватит. Видать, тебе сестры не жалко?
– Тебе очень жалко. Прежде чем карахтер свой показывать, ты бы спросила по–людски, кто он, что. Мы олухи, по–твоему? Крикнули тебя, как старшую сестру. Совет в семье держать, а ты…
– Костя, не тревожься, – подошла к нему Анна, – пущай ее! Аль не знаешь? И ты, Петя, не робь. Говорят: большая Федора, а…
– Дура? – подхватила Федора. – За коим чертом и звать дуру? Всякая сноха дурой меня…
Разгоралась ссора. Надо мне что‑то сказать Федоре. Сказать такое, чтобы как‑нибудь смягчить ее. Какими же словами смягчить ее черствое сердце?
– Федора Митрофановна, – назвал я ее по отчеству, видя, что она вот–вот снова закричит на сноху и мать. – Здравствуйте, Федора Митрофановна. Вы видите меня первый раз, и я вас тоже. А дело такое…
– Какое? – перебила она.
– Навек! – брякнул я.
– В своем селе девок нет? Аль никто не идет? – И, обратившись к матери, сказала: – Хоть бы красавец был, а то… одни веснушки.
В жар меня бросило от стыда. По самому больному месту ударила.
– Только веснушки и разглядела, – вступился Костя. – Эх, умна!
– А чего же больше? Может, он богач?
– Вот–вот. Богатством своим ты везде и трясешь, – проговорил Костя.
– Не всем и богатыми быть, – подала голос Екатерина. – Ты сама…
– Что сама?.. – бросила на нее молниеносный взгляд Федора.
– В шоболах ходила.
– Ходила, да не хожу. И своей сестре того не хочу.
Мать покачала головой.
– Эх, дочка, дочка!..
– Ты, мамка, молчи. Ежели бы не сама я подыскала себе жениха, маялась бы, как вон Катька.
– Чем она мается?
– Не знаешь? Говорить при чужом человеке нехорошо.
– Скажи, сестра, скажи, – с укором проговорила Екатерина. – Тебе все одно, что свои, что чужие.
– Будет, – попытался остановить ее Костя. – Что должны вам, это знаем. Погоди, теперь другое время. Расплатимся, и катитесь вы со своим муженьком… Ишь, нахватали опять испольной ржи…
Этот упрек Федора приняла с радостью. Даже подобие улыбки показалось у нее на лице.
– Муж, деверь и свекор на боку не лежат. И сама я… А за кого отдать меня хотели, век не забуду. Сама женишка откопала.
– Скажи, женила его на себе! – не вытерпела Анна.
Я с удивлением посмотрел на Федору. Да, такая заставит жениться на себе. И мне стало смешно. Я понял все.
– Богатство вам, Федора Митрофановна, нужно?
– А чего же в тебе?
– Хорошо. Есть богатство.
– Много ли?
Злобно хотел сказать, что все оно тут со мной, но перебила мать. Пока мать говорила обо мне, Федора села на лавку, поодаль от бедной своей сестры. Мать все ей рассказала, что слышала от меня и от наших людей, которые останавливались у них при поездках в город. Мне казалось, мягчеет лицо у Федоры и ответы ее не так злы.
– Что ж, писарь. Нынче писарь, завтра другой на его место. Все писаря пьяницы.
– Избу себе отстроил.
– Изба и есть изба. Сколько у него братьев? Шесть, говоришь? По углу не хватит. Нет, нет, нет. Вон за Ваську–портного сватают, и отдадим. В своем селе. А то черт знает, где там! Туда и вороны не летают.
– Подальше отдают и то ничего, – проговорил Костя, – а Васька, ох, жених! Глядеть на него срам.
– И тут глядеть не на что.
Мать снова начала ее урезонивать. Говорила, что я в город уеду. Лену с собой возьму.
– Возьмет, а там бросит с дитей, – и тут нашлась Федора.
– Давай‑ка, Петя, закурим, – попросил Костя. – Ну их.
Я вынул коробку с папиросами и начал открывать. Придерживал коробку левой рукой, которую привык всегда прятать в карман. Когда открыл и мы с Костей закурили, я невольно посмотрел на Федору. Посмотрел, и меня словно колом по голове ударило. Она впилась глазами в мою забинтованную руку и тихо, ледяным голосом, ни к кому не обращаясь, спросила:
– Это что у него с рукой?
Глухо и не скоро донесся до меня шепот матери:
– Ра–не–той.
И опять после длительного мучительного молчания Федора протянула:
– Ма–аму–ушки!.. Да он еще и калека.
Я не знал, что делать со своей рукой. Спрятать ее? Но уже поздно. Только почувствовал, как рука вдруг стала неимоверно тяжелой. Что тяжелой? Только одну ее сейчас и чувствую.
А Федора уже продолжала. Она теперь говорила таким голосом, каким говорят люди, когда вопрос решен окончательно:
– Нашли–и… Ну–ну–у… увечного. Вот так грамотей… Отыскали в чужом селе… В своем таких нет… Ай, дуры, ду–у-ры… Навек, слышь… Вот тебе и па–ве–ек. Из‑под венца да прямо с сумой по миру…
Что‑то говорила мать, но ее слова доходили до меня глухо, смутно. Я убит словами Федоры. Зачем вынул руку? Лучше бы так сидел. Лучше бы после она узнала…
– Такими грамотеями хоть пруд пруди, – гудел голос Федоры, и каждый раз, что бы ни сказала, трижды повторяла: – Нет, нет и нет.
И это ее «нет» звучало у меня в ушах набатом.
И вот уже слышу, как первая сдалась Екатерина. Испуганно и тихо она произнесла:
– Погодить бы надо.
Это влило еще более ярости в Федору. Она так принялась ругать меня, как никто еще не ругал в жизни. Обзывала всячески, словно готова была наброситься, разорвать в клочья. Ее не останавливали.
А я чувствовал полное свое бессилие, едва переводил дух. В гортани пересохло, в груди словно кол стал. Одного только хотелось: провалиться вот тут, сквозь пол, сквозь землю. Мелькала надежда: авось, войдет Лена, но тут же гнал эту мысль: «Нет, не хочу… не хочу, чтобы она видела меня таким… вот сейчас…»
– Ну, ин… погодим.
Кто это сказал? Сказала мать. Мертвым голосом. И еще рядом, уже чужой, сухой, но без злобы, словно человек умывает руки:
– Как хотите.
И только чей‑то тяжелый вздох раздался за моей спиной.
– Говорила, зря!
Ничего никому не сказав, помимо воли, встал я и, пылающий от унижения, от стыда, с туманом в глазах, пошел. И только одно трепетало в сознании: как бы не упасть, не упасть… как бы найти дверь. Я не обернулся, не попрощался. Быстро схватил с гвоздя фуражку и, открыв дверь, выбежал в сени.
И когда открыл дверь во двор и на миг ослепило меня солнце, кто‑то сзади схватил за плечо, с жаром и с гневом проговорил:
– Петя, не убивайся. Родной… не убивайся.
Это сноха Анна. Собрав все свои силы, я только и мог ей промолвить:
– Никому! Никому не говорите!..
28Иду вдоль берега к мостику почти слепо и только одного хочу всем существом своим: никого из людей не видеть и чтобы меня никто не видел. Мне кажется. что на лице моем явственно видно все, что потрясло меня: весь мой позор, все мое несчастье.
Мысли мои путались, наскакивали одна на другую, перемежались. Какая темная сила прошла огромной, зловещей тенью между нами и отняла у меня Лену? И в ушах гулко и часто, как набат: «Нет, нет и нет!»
Вот мостик через речку. Как он хорош был, когда я подходил к нему с той стороны! Как радостен и приветлив. И его перила были красивы, и настил из бревен казался гармоникой со сложенными мехами, а теперь? Перила грозно ощерились, настил – сучкастые, выщербленные бревна. Между бревен щели, сквозь которые злобными молниями блестит чужая река.
Глядя под ноги, не оглядываясь, поднимаюсь на крутое взлобье, иду вдоль улицы. Ускоряю шаг. Кто‑то черпает из колодца воду, кто‑то возле изб разговаривает, возле сарая стучат топоры, курица кудахчет, и, подвывая, мрачно лает пес. Гремит телега навстречу. Холод прошел по телу, когда я миновал последнюю избу и мельком посмотрел на одинокую, приветливо когда‑то махавшую мне мельницу. Сейчас стоит мельница мертвая, стоит вдали где‑то, как бы пологом крыта, и размашистые крылья ее в тумане...
– Лена моя, Леночка!
Поля начались. Шелестит рожь, она в полном, бледном, незаметном цвету, и нет от нее радости. Васильки синие выглядывают украдкой. Васильки! Злые, ядовитые глаза у них. Глаза бесчисленных змей, шевелящихся во ржи.
– Лена, Леночка!
Нет, не пойду этой дорогой, которой шел сюда. Все тут знакомо, все отмечено сердцем: каждая межа, что пролегает между хлебами, каждый изгиб дороги.
Густая, с нескошенной травой, широкая межа. Она как толстый и пухло взбитый матрац. Кажется, легла она тут недавно, придавив собою хлеба. Иду по ней и мну ненавистную траву с проклятыми цветами. Головки белого клевера кажутся мне похожими на череп, головки красного – облитыми кровью; шипят шмели, перелетая с цветка на цветок.
Нет, не в силах идти дальше. Руки висят, как чугунные плети, все тело, как избитое, подкашиваются ноги, и совсем пуста голова. Какая же сила тянет оглянуться на село? Зачем я ищу знакомые очертания строений и среди них, – мимо бы, мимо! – ту самую избу? Вот чуть прогнувшаяся крыша. Она! Как она чужда мне сейчас. Уже не встретит она теперь меня приветливо, никогда не поманит под свой кров…
Падаю плашмя на широкую грудь межи. Кричу и плачу, и зову:
– Леночка моя, сокровище мое! Отзовись!
Вторую неделю лежу я больной. Почти не выхожу из мазанки. Меня то знобит, то бросает в жар. Матери говорю – простудился. Иногда ко мне приходят Филя, Павел.
Они рассказывают, что делается в селе, что пишут в газетах, но все это – как сквозь туман. Плотники закончили работы, отец с ними рассчитался. Построили избу, а для кого?
Мать озабоченно хлопочет, ни о чем не спрашивает.
Вот и теперь. Вошла, поставила еду на скамейку.
– Съешь, сынок, яичек.
Долго и скорбно, поджав губы, смотрит на меня. Она ждет, что я скажу ей что‑нибудь, я силюсь улыбнуться и говорю обычное:
– Ничего, пройдет.
Тогда мать садится на старый сундук, оглядывается на дверь, поправляет платок на своей почти седой голове и тихо улыбается.
– Говорить аль нет?
Доброе такое у нее лицо.
– Рассказывай.
– Устюшку‑то… замуж выдают, – и смотрит на меня.
– За кого?
– Ох, Петя, – оживляется она и таинственно шепчет, – чудо. Только молчи. Без тебя тут пришел Авдоня, тоже чего‑то нет на левой руке, ну, сдружились со Степкой. И подговорил его Степка жениться. Ох, господи, – вздыхает мать, – там все война и война, а тут люди женятся, – вдруг заключает мать.
– Молодость свое берет, – говорю ей. – Ну, а дальше?
– Запой был. Степка – Катьку. Прямо в избу к ней переходит. Девка‑то одна, и девка хорошая. Авдоня – Устю. Вот и хотят на скорую руку до жнитва… Тебе Устю‑то не жалко? – помолчав, спрашивает мать.
– Чего ее жалеть?
– Я так спрашиваю.
Мать умолкает и опять испытующе смотрит на меня. Потом, словно вспомнив что‑то, встает.
– Эка беспамятна я стала. Малины тебе принесли.
Быстро сходила в избу, и вот передо мной чайное блюдце со свежей, крупной, чуть дымчатой малиной.
– Первый сбор у них.
– У кого у них? – спрашиваю ее.
– А ты ешь, ешь. Молока принести?
И пока мать ходила За молоком, я вдосталь полакомился «первым сбором».
– Спасибо, мать, – говорю.
– Передам твое спасибо, – смотрит она на меня.
– Да, да. Кто же прислал малину?
Зачем‑то вновь оглядывается мать на дверь, будто боится, как бы кто не подслушал, и говорит полушепотом:
– Сколько раз спрашивала, как ты да как? Видать, хочет навестить тебя.
– Не догадываюсь, о ком говоришь.
– Ой, дурной ты, дурной! Соня–учительша, вон кто.
– Соня? – удивился я и с некоторым испугом посмотрел на мать. – А она, как… жива?
– Да ты что, с ума сошел? Жива, ежели маЛйны прислала.
И я посмотрел на блюдце. Посмотрел, и краска бросилась в лицо. Знакомое блюдце: разрисовано клеточками и чуть–чуть выщерблен край. Из этого блюдца не один раз пил я чай, когда зимой – ох, давно это было! – заходил к Соне.
– Спасибо передай ей, – говорю матери.
– Она прийти порывается, да все чего‑то вроде боится.
– Не надо… Скажи, как‑нибудь после…
Бросив на меня взгляд, полный жалости, мать уходит.
И опять один я в мазанке. Опять эти думы. Они измучили меня. В который раз упрекаю себя, что ушел. Ушел, не повидавшись с Леной. Сестра‑то ее просто дура! А с дурой и надо было говорить, как с дурой. И нечего ее бояться. Снова перебираю все в памяти, восстанавливаю разговор, вижу лица, движения. И как огромное преступление – вынутая мною из кармана рука. Но она ли причина? Нет, конечно. Рука – только лишний повод Федоре. Почему я сам не обозвал ее дурой? Она стоила того. Попадись теперь, когда мне все равно, потряс бы я ее! И поганого рта не успела бы открыть эта богачка. Чего захотела! «Какое у тебя богатство?»
– Видать, одного вы поля ягодки с Гагарой. Все вы, богачи, сволочи! – так, скрипя зубами и чуть не ударяя в стену кулаком, озлобленно шептал я.
Был зол и на Арину, и на Костю. Они‑то что? Неужели все семейство находится в руках Федоры? Почему такая у нее власть? Вздох матери, леденящие, кровь ее слова: «Ну, ин… погодим». Одну сноху вспоминаю с благодарностью.
И опять сон, сон. Так и клонит ко сну. И страшные, мучительные сновиденья, порой кошмары. Во всех снах она. Где‑то далеко на горе она, вижу ее, уходящую все дальше и дальше, и глухо кричу: «Лена, верни–ись!»
Мать приходит в мазанку с братишкой. Семка стоит. у двери и боится подойти ко мне. Такой у него печальный взор. Я зову его, у меня несколько яблок. Правда, они не совсем еще поспели, но ему‑то по зубам. Я отдаю их ему, глажу белокурые, мягкие, как лен, волосы, а братишка с удовольствием грызет яблоки. Вдруг ни с того ни с сего заявляет:
– Братка, вставай. Скоро поедем рожь косить.
Мать смеется, кивает мне на него.
– Ишь, работник нашелся. Пояски крутить будешь?
– Буду, только за браткой, – говорит Семка.
– Братка хворый, – отвечает мать.
– Ну да, хворый… Встанет и пойдет косить.
– Ай, дурной ты! Как же он будет?..
– Мама… – перебиваю я.
Она спохватывается, сердится сама на себя и отсылает Семку на улицу.
И когда он убегает, мать, как обычно, оглянувшись на дверь, строго и ласково произносит:
– Сынок, захворал‑то ты неспроста.
– Простудился, шел ночью.
– И не ври. Ты думаешь, не вижу? Обманешь мать? Нет, сынок, много я видела, много сердцем пережила. Вот что, Петя, не таись перед матерью. И чтоб мне не думалось, и тебе не мучилось, говори.
– Не знаю, что тебе говорить, – отвечаю ей ослабевшим голосом, радуясь, что наконец‑то она завела этот разговор.
– Сама, что ль, отказала? – просто спросила мать.
И я, сдерживая охватившее меня волнение, задыхаясь, отвечаю:
– Старшая сестра.
– Зачем же ты… сам?
– Я и не хотел. Они начали.
– Кто, мать, что ль?
– Слушай…
С горечью, с болью, временами плача, как малый ребенок, все поведал матери. Она выслушала, не прерывая, но я видел, как трудно ей было удержать себя, от слез. Она хорошо знала мой характер, знала – трудно выбить из меня слезы. Этих слез даже в детстве у меня мало видела, сейчас вот видит – и как бы окаменела. А я ничего не утаил от нее, ни одной царапины в сердце не пощадил. И теперь ждал ее слова, ее суда. Она – мать.
Мать долго молчала. Я лежал, запрокинув голову, и смотрел в крышу. Зачем‑то приходил отец, что‑то искал, но, не найдя, понюхал табаку и, глянув на меня, вышел.
– Петя, – вздохнула мать, и я очнулся. Глухим голосом строго сказала: – Береги себя. Будет время, лучше в сто раз найдешь. Сам найдешь. А теперь забудь и не думай.
– Но я ее, мама, люблю.
– Время покажет, сынок.
– Нет, лучше ее я, мама, не найду.
– Встань, Петя, в поле сходи, на люди, проветрись.
– Я людей‑то напугаю. Принеси‑ка зеркало…
Как меня действительно перевернуло! Едва узнаю себя. Страшный. Только глаза блестят. А скулы выдались еще больше. И сердитые складки легли на лоб. Нет, не люблю я смотреть на себя в зеркало.
В своей избе я чувствую себя, словно в чужой. Никак не привыкну, что и у нас, как у людей. Больше всего меня поражает пол. Это же диковина – все доски не только целы, но лежат, плотно, новые, оструганные. Еще вот большой новый стол и светлые окна на улицу – настоящие, со створчатыми рамами. И я хожу по избе с таким чувством, будто мне кто‑то вдруг подарил ее. А вон две кровати – тоже настоящие, из тесаных досок, со спинками.
Кто не знает, что такое новая изба после грязной и мрачной развалины, где и пол худой, и стены гнилые, где в окнах свету не видать, – тот не поймет радости нашей. А сколько было бы еще радости, если бы… Нет, не надо думать об этом…
В эти дни заходили ко мне Филя, Павел и Гришка–матрос. Наступала пора уборки хлебов. Были взяты на учет все лошади, какие имелись в селе и в имении, все жнейки. И словно на фронте, мы долго просиживали над картами своих и барских полей; решали: тот, кто может сам косить, пусть косит, а всем одиноким, солдаткам и вдовам надо скосить жнейками, связать и убрать.
Мы засиживались до полуночи, прикидывая, решая и перерешая, и, наконец, окончательно надумали убирать «помочью». Пусть вдовы и солдатки, чьи загоны граничат, помогают друг другу не разбиваясь. Но легко учесть лошадей и жнейки, а как их взять? Разве пойдут добром на это богатеи? А там еще возка, молотьба… Но кто же, кроме комитета, будет заботиться о вдовах и солдатках, об инвалидах и бедных, лишенных основной рабочей силы семьях? Гришка–матрос сказал:
– С душой вырвем!
И еще стояло: все отруба и участки пустить в общий дележ по едокам. Это тяжелое дело. Но скоро начнется жнитво, там – молотьба и сев.
Комитет вступал в самый трудный час своей работы. Надвигалась горячая и тревожная пора. А тут слухи: в Петрограде выступали рабочие против Временного правительства, за власть Советов. Демонстрацию правительство раздавило, много пролилось крови, запрещены большевистские газеты. И страшный слух – будто арестован Ленин.
– Все равно – наша возьмет! – заявил матрос Гришка. – Отступать – задушат! А мы – солдаты.








